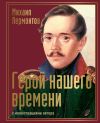Автор книги: Павел Щеголев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор,
А с ней и думы лучших дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,
Уж не придет – как прошлый час
На смех, подосланный судьбой.
Над мною посмеялась ты
И я с презреньем отвечал;
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой,
И сердце шепчет мне подчас:
«Я не могу любить другой!»
[Я жертвовал другим страстям,]
Но если первые мечты
Служить не могут больше нам,
То чем же их заменишь ты?
Чем ты украсишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю —
А может быть, и в небесах![81]81
Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения», 1844 г., № 5, стр. 7–8. В тексте как этом, так и позднейших записок явный пропуск 17-го стиха, который был восстановлен Ю. Г. Оксманом по сохранившемуся автографу. В этом автографе произведение озаглавлено: «Стансы», разбито на три строфы и имеет дату «26 августа 1830 года».
[Закрыть]
Я не видала Лермонтова с неделю, он накопил множество причин дуться на меня, он дулся за Пестеля, дулся, кажется, даже и за великого князя, дулся за отказ мазурки, а более всего за то, что я без малейшей совести хвасталась своими волосами. За ужином у тетки Хитровой я побилась об заклад с добрым старичком, князем Лобановым-Ростовским, о пуде конфект за то, что у меня нет ни одного фальшивого волоска на голове, и вот после ужина все барышни, в надежде уличить меня, принялись трепать мои волосы, дергать, мучить, колоть; я со спартанской твердостью вынесла всю эту пытку и предстала обществу покрытая с головы до ног моей чудной косой. Все ахали, все удивлялись, один Мишель пробормотал сквозь зубы: «Какое кокетство!»
– Скажите лучше: какая жадность! Ведь дело идет о пуде конфект; утешьтесь, я поделюсь с вами.
Насущные стихи на другой день грозно предвещали мне будущее:
Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет;
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей, —
Тогда раскаянья кинжал
Пронзит тебя; и вспомнишь ты,
Что при прощанье я сказал.
Увы! то были не мечты!
И если только наконец
Моя лишь грудь поражена,
То верно прежде знал Творец,
Что ты страдать не рождена[82]82
Впервые напечатано Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике» 1857 года, т. XI, стр. 405. Других текстов этого произведения до нас не дошло.
[Закрыть].
Вечером я получила записку от Сашеньки: она приглашала меня к себе и умоляла меня простить раскаивающегося грешника и, в доказательство истинного раскаяния, присылала новые стихи.
У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней.
Так грусть – мой мрачный властелин —
Все будит старину,
И я твержу везде один:
«Люблю тебя, люблю!»
И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Минувшим я гоним.
И где б ни вздумал я искать
Под небом тишину,
Все сердце будет мне шептать:
«Люблю ее одну»[83]83
Строки эти, впервые опубликованные Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике» (1857 г., т. XI, стр. 405–406), представляют собою очень неисправную редакцию известных с 1859 года стихов «К. Л. (подражание Байрону)». Очевидно А. Верещагина сознательно мистифицировала Сушкову, прислав ей стихи, посвященные в действительности В. А. Лопухиной, и дав тем самым повод к позднейшим неосновательным обвинениям мемуаристки в том, что она иногда «относит к себе» не ей адресованные вещи (см., напр., замечание П. А. Висковатого в «Русском Вестнике», 1882 г., кн. 3, стр. 335).
[Закрыть].
Я отвечала Сашеньке, что записка ее для меня загадочна, что передо мной никто не виноват, ни в чем не провинился и, следовательно, мне некого прощать.
На другой день я сидела у окошка, как вдруг к ногам моим упал букет из желтого шиповника, а в середине торчала знакомая серая бумажка, даже и шиповник-то был нарван у нас в саду[84]84
Сестра Е. А. Сушковой – Е. А. Ладыженская в своих «Замечаниях» на «Воспоминания» Е. А. Хвостовой (ур. Сушковой) говорит: «М. Ю. Лермонтов никак не мог перелезть через забор и нарвать в саду Сушковых желтого шиповника по тем причинам, что при доме Сушковых никакого сада не было, а был пустырь без всяких кустов и дорожек, в одном углу которого стояла, кажется, баня, в другом же, противоположном, расстилалось не то божье дерево, не то заглохший куст смородины; да и шиповники, какого бы они цвета ни были, цветут весной, а не осенью» («Русский Вестник», 1872 г., кн. 2, стр. 661).
[Закрыть].
Передо мной лежит листок,
Совсем ничтожный для других,
Но в нем сковал случайно рок
Толпу надежд и дум моих.
Исписан он твоей рукой,
И я вчера его украл,
И для добычи дорогой
Готов страдать – как уж страдал![85]85
Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике», 1857 г., т. XI, стр. 406. Других текстов этих строк неизвестно.
[Закрыть]
Изо всех поступков Лермонтова видно, как голова его была набита романтическими идеями, и как рано было развито в нем желание попасть в герои и губители сердец. Да и я, нечего лукавить, стала его бояться, стала скрывать от Сашеньки его стихи и блаженствовала, когда мне удавалось ее обмануть.
[Сушкова, стр. 119–129]
* * *
В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве; тут окончательно ее приняли за чуму или вообще отравление; страх овладел всеми; балы, увеселения прекратились, половина города была в трауре, лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти, Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел.
Отец мой прискакал за мною, чтоб увезти меня из зачумленного города в Петербург. Более всего мне было грустно расставаться с Сашенькой, а главное, я привыкла к золотой волюшке, привыкла располагать своим временем…
С неимоверною тоскою простилась я с бабушкой Прасковьей Петровной, с Сашенькой, с Мишелем; грустно, тяжело было мне. Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что было поводом к следующим стихам:
Свершилось! Полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут – зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! Голосом бесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать… вспоминать![86]86
Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Русском Вестнике», 1857 г., т. XI, стр. 407. Других текстов этого произведения до нас не дошло.
[Закрыть]
1-го октября[87]87
Е. А. Ладыженская в своих «Замечаниях» на «Записки» говорит: «Отец мой, приехавший погостить в Москву, провел в ней едва несколько дней и поспешил в обратный путь, взяв с собой свою старшую дочь, лишь только разнесся слух о холере, грянувшей на Белокаменную прямо из Саратова. Он поступал так не из страха эпидемии, но чтобы не подвергнуться карантинной скуке и неволе… Отъезд его, сколько мне помнится, по жарам и яркому солнцу, состоялся в августе или в самых первых числах сентября… Если же в этом случае память мне не изменяет… то я не понимаю, почему проворный и неистощимый импровизатор М. Ю. Лермонтов воскликнул: „Свершилось!“… только 1 октября.
Или… Но этого быть не может – стихотворение написано к другой, и отрок-поэт успел в столь короткое время найти новый предмет для своих похвал и вдохновений?» («Русский Вестник», 1872, кн. 2, стр. 650.)
[Закрыть]1830 г.
Когда я уже уселась в карету и дверцы захлопнулись, Сашенька бросила мне в окно вместе с цветами и конфектами исписанный клочок бумаги, – не помню я стихов вполне:
Итак, прощай! Впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай! Шесть букв приносят столько мук,
Уносят все, что я теперь люблю!
Я встречу взор ее прекрасных глаз,
И может быть… как знать… в последний раз![88]88
Опубликовано впервые Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения», 1844 г, № 6, стр. 129.
[Закрыть]
[Сушкова, стр. 130–131]
* * *
11 сентября 1830 г.
У нас большой переполох: разошелся слух, что в разных частях города мрут от холеры…
Все принимают предосторожности. Чесноку нельзя больше найти в Москве; последние гарнцы продавались по 40 р. Деготь, хлористая известь, камфора и мускус, от палат до хижин, распространяют свой запах по всей Москве.
Как предохранение, предписывают умеренность, трезвость, поменьше есть зелени и вовсе не есть плодов…
Многие уезжают в Смоленск и Петербург, и Москва пустеет, как в 1812 г. Не одни только богатые люди покидают ее; вот уже четвертый день, как рабочие бросают дело и тысячами уходят назад в деревни…
Теперь изо всех застав тянутся экипажи и толпы рабочего люда. Другие заперлись у себя в домах, обеспечив себя закупкою съестных припасов, и живут как в осажденной крепости…
В понедельник и вторник трусость достигла высшей степени. Купцы и даже простолюдины не выходили из дому иначе как держа платок под носом. Каждый спешил закупить себе припасов на случай запечатания домов, так как распространился слух, что все частные дома будут запираться от полиции, подобно домам казенным. Народ собирался у икон, в особенности у иконы, что у Варварских ворот, той самой, из-за которой погиб Амвросий в 1771 г. Два дня сряду видел я, как спускали лампаду, которая горит перед этой иконою; как люди, и больше всего женщины, обмакивали в лампадное масло свои тряпочки с тем, чтоб потом класть их себе на живот. Этого средства не значится в списке предохранительных мер, который привезен министром.
[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской. «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 137–140]
* * *
Октября 2-го 1830 г.
Со вчерашнего дня Москва заперта; в течение 12 дней ее покинули 60 тысяч человек. Теперь никто не выедет и не въедет без нового распоряжения…
[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской. «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 141]
СМЕРТЬ
Закат горит огнистой полосою.
Любуюсь им безмолвно под окном,
Быть может, завтра он заблещет надо мною —
Безжизненным, холодным мертвецом.
Одна лишь дума в сердце опустелом —
То мысль о ней… О, далеко она,
И над моим недвижным, бледным телом
Не упадет слеза ее одна!
Ни друг, ни брат прощальными устами
Не поцелуют здесь моих ланит,
И сожаленью чуждыми руками
В сырую землю буду я зарыт.
Мой дух утонет в бездне бесконечной!..
Но ты… О! пожалей о мне, краса моя!
Никто не мог тебя любить, как я,
Так пламенно и так чистосердечно.
1830 г., октября 9. Москва.
[Лермонтов. Акад, изд., т. I, стр. 158]
* * *
1.
Чума явилась в наш предел.
Хоть страхом сердце стеснено,
Из миллиона мертвых тел
Мне будет дорого одно.
Его земле не отдадут,
И крест его не осенит,
И пламень, где его сожгут,
Навек мне сердце охладит.
2.
Никто не прикоснется к ней,
Чтоб облегчить последний миг.
Уста волшебницы очей
Не приманит к себе других.
Лобзая их, я б был счастлив,
Когда б в себя яд смерти впил,
Затем, что, сладость их испив,
Я деву некогда забыл.
1830 г.
[Лермонтов. Акад, изд., т. I, стр. 151–152]
* * *
Нет, графиня, пяти студентов университета не умирало. Умер всего один жертвою своей невоздержности, пьянства и разврата. Из-за этого поднялась тревога, и лекции прекращены.
[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской. «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 142]
* * *
Если у вас целы все «Ведомости», попробуйте подвести итог, что не совсем легко, благодаря их путанице. Во всяком случае насчитается от четырех до пятисот умерших; из них, может быть, только десятая часть померли от холеры, остальные внесены для умножения числа. К концу наберутся тысячи, потому что непременно нужно показать усердие.
[Из письма Кристина к граф. С. А. Бобринской, «Русский Архив», 1884 г., кн. 3, стр. 143]
* * *
Арсеньева получила известие о погибели брата своего, Николая Алексеевича Столыпина, растерзанного в Севастополе рассвирепевшею толпой, собственно толпою женщин.
[Висковатый, стр. 115–116]
* * *
Скоро, однако ж, москвичи соскучились, попривыкли к холере и мало-помалу начали убеждаться, что она незаразительна, что от нее еще скорее можно умереть, сидя в комнате и беспрестанно о ней думая, нежели выходя и развлекаясь, и Москва опять высыпала на улицы и зашумела.
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2, стр. 329]
* * *
Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше; мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы; страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер…
[А. И. Герцен. «Былое и думы». Собр. соч., т. XII, стр. 121]
* * *
В конце декабря месяца холера, унеся более пяти тысяч жертв, совершенно прекратилась в Москве, и после Рождественских праздников, после двухмесячного закрытия, открыт университет, и студенты стали ходить на лекции.
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. 2, стр. 332–333]
* * *
Когда болезнь в Москве уменьшилась, а в университете прекратилась совсем, 12 января 1831 года, перед открытием учения, совершена литургия… в университетской церкви.
[С. П. Шевырев. «История Московского университета», стр. 378]
* * *
Ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было и все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян.
[Висковатый, стр. 121]
* * *
Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам.
[И. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884, т. XVI, стр. 336]
* * *
Когда уже я был на третьем курсе, в 1831 году[89]89
Неверно: Лермонтов поступил в университет в 1830 году, но Костенецкий не заметил его, так как учебный год был сведен на нет холерной эпидемией.
[Закрыть], поступил в университет, по политическому же факультету, Лермонтов: неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими. Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому я был мало знаком с Лермонтовым, хотя он и часто подле меня садился на лекциях; тогда еще никто и не подозревал в нем никакого поэтического таланта.
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. I, кн. 1, стр. 112]
* * *
Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочим, тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним.
[И. А. Гончаров. Полн. собр. соч. СПб., изд. Маркса, 1899, т. XII, стр. 16–17]
* * *
Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою очередь и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.
Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотись, по обыкновению, на один локоть и углубись в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впирались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение.
Так прошло около двух месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.
Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение.
– Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный.
Недолго думая, я отправился.
– Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? – обратился я к нему не без некоторого волнения.
Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.
– Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее, – ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.
Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу, – она была английская.
[И. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 333] *
* * *
Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.
[И. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 334]
* * *
Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Непохоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества, и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали.
[И. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Историч. Вестник», 1884, т. XVI, стр. 334]
* * *
[На одном маскараде в Благородном собрании] Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой; в этой книге должность кабалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице; под буквами вписаны были стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятие встретить в маскараде[90]90
Эта книга ныне хранится в одной из лермонтовских витрин Пушкинского Дома. Приводим дальше несколько эпиграмм.
[Закрыть].
[А. П. Шан-Гирей, стр. 730]
* * *
БУХАРИНОЙ[91]91
Бухарина Вера Ивановна (1812–1902), дочь рязанского губернатора, впоследствии сенатора Ивана Яковлевича Бухарина, ученица Капниста (автора «Ябеды»), воспитанница Смольного монастыря – с 1830 г. жила в Москве, где и встречался с ней Лермонтов; знакома была также с Пушкиным, кн. Вяземским, посвятившим ей стихотворение «Вера и София», а позднее с Загоскиным, гр. Сологубом, Кукольником, гр. А. К. Толстым, Тютчевым, Хомяковым, многими учеными и артистами. Одна из образованнейших женщин эпохи 1830—50 гг., Бухарина в 1832 г. вышла замуж за Ник. Ник. Анненкова, впоследствии члена Госуд. совета (ум. 1865 г.). Она оставила после себя очень интересные записки, которые еще не изданы (о ней см. «Нов. Время», 1902 г. № 9435; «Исторический Вестник», 1902 г., X; «Остафьевск. архив кн. Вяземских», т. III, 727–729).
[Закрыть]
Не чудно ль, что зовут вас Вера?
Ужели можно верить вам?
Нет, я не дам своим друзьям
Такого страшного примера!..
Поверить стоит раз… но что ж?
Ведь сам раскаиваться будешь:
Закона веры не забудешь,
И старовером прослывешь!
АЛЯБЬЕВОЙ[92]92
Алябьева Александра Васильевна (1812–1891), известная московская красавица того времени, вышедшая замуж (в 1832 г.) за Алексея Николаевича Киреева (ум. 1849 г.); ее «блеск», «чудо красоты» и заветная любовь к «родной славянской стороне» воспеты Пушкиным («К вельможе») и Н. М. Языковым (см. «Остаф. арх. кн. Вяземск.», т. III, 677–678). Портрет Алябьевой в «Художеств, сокровищах России», 1907 г., № 6.
[Закрыть]
Вам красота, чтобы блеснуть,
Дана.
В глазах душа, чтоб обмануть,
Видна!..
Но звал ли вас хоть кто-нибудь:
Она?
ТОЛСТОЙ
Недаром она, недаром
С отставным гусаром!
МАРТЫНОВОЙ[93]93
Мартынова Наталья Соломоновна, сестра убийцы поэта, очень нравилась Лермонтову, и сама была к нему неравнодушна; впоследствии вышла замуж за гр. Альфреда де-ла-Турдонне (А. Н. Нарцов. Матер, для истории тамб., пенз. и сарат. дворянства. Тамб., 1904 г.; «Русск. Обозр.», 1898, т. 1, стр. 315–316).
[Закрыть]
Когда поспорить вам придется,
Не спорьте никогда о том,
Что невозможно быть с умом
Тому, кто в этом признается.
Кто с вами раз поговорил,
Тот с вами вечно спорить будет,
Что ум ваш вечно не забудет
И что другое все забыл!
ДОДО[94]94
Додо – Евдокия Петровна Сушкова, впоследствии графиня Ростопчина, известная поэтесса (1811–1858); ей посвящены также стихотворения «В теснине Кавказа» и «Я верю: под одной звездою». Воспоминания гр. Ростопчиной о Лермонтове, присланные Александру Дюма – в «Русск. Стар.» 1882 г., сент., и также в извлечениях в нашей книге; библиография уже была указана выше.
[Закрыть]
Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить.
Умеешь ты польстить случайно
С холодной важностью лица,
И умника унизить тайно,
Взяв пылко сторону глупца!
Как в талисмане стих небрежный,
Как над пучиною мятежной
Свободный парус челнока —
Ты беззаботна и легка.
Тебя не понял север хладный:
В наш круг ты брошена судьбой,
Как божество страны чужой,
Как в день печали миг отрадный!
БАШИЛОВУ[95]95
Башилов Александр Александрович (1808–1854) – известный московский весельчак, писавший стихи, сын московского сенатора, устроителя увеселительного вокзала в Петровском [М. Н. Лонгинов. Заметки и воспомин., СПб. 1873 г. Стр. 13).
[Закрыть]
Вы старшина собранья, верно,
Так я прошу вас объявить,
Могу ль я здесь нелицемерно
В глаза всем правду говорить?
Авось авось займет нас делом
Иль хоть забавит новый год,
Когда один в собранье целом
Ему навстречу не солжет.
Итак, я вас не поздравляю.
Что год сей даст вам – знает Бог.
Зато минувший, уверяю,
Отмстил за вас, как только мог!
Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.
Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.
Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
– Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
– Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.
Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах.
[П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Истор. Вестник», 1884 г., т. XVI, стр. 334]
* * *
[1831 г.]
Ma chere tante! Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете; если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердца человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, – то это в Гамлете. Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить притворному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен; эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре[96]96
Выпускаем ссылки на ряд сцен из «Гамлета».
[Закрыть].
…..
Теперь следуют мои извинения, что я к вам, любезная тетенька, не писал; клянусь, некогда было; ваше письмо меня воспламенило: как обижать Шекспира! – Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале. – Но великим постом я уж совсем засяду. В университете все идет хорошо.
[Из письма Лермонтова к М. А. Шан-Гирей. Акад, изд., т. IV, стр. 306–307]
* * *
2-го [4?] декабря, св. Варвары. Вечером, возвратясь. Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья! Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страданья?[97]97
Эта запись относится к Варваре Александровне Лопухиной (1814–1851), к которой Лермонтов был глубоко привязан всю жизнь и которой посвящено множество лирических стихотворений. П. А. Висковатый не без основания видит в образе Веры («Княжна Мери») черты Вареньки Лопухиной, в 1835 году вышедшей замуж за Бахметева. Подробнее об отношении Лермонтова к Лопухиной см. у Висковатого, стр. 148–155 и 271–293, а также ниже в нашей книге.
[Закрыть]
[Лермонтов. Акад, изд., т. IV, стр. 351. Из XI тетр, автогр. Лерм.
муз., л. 21 об.]
* * *
Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, т. е. с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений и неудач; бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке…
Будучи студентом, он был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15–16; мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У В[ареньки] родинка, В[аренька] уродинка», – но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения; но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование; напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы; по вступлении в свет – новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 728–729]
* * *
В это время [весна 1831 г.] Сашенька прислала мне в подарок альбом, в который все мои московские подруги написали уверения в дружбе и любви. Конечно, дело не обошлось без Лермонтова. Вот эти три стихотворения:
Вверху одна
Горит звезда,
Мой взор она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет.
Таков же был
Тот нежный взор,
Что я любил
Судьбе в укор,
Мук никогда
Он зреть не мог,
Как та звезда,
Он был высок.
Усталых вежд
Я не смыкал
И без надежд
К нему взывал[98]98
Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения», 1844 г., № 6, стр. 130. Обычно печатается ныне не по этому тексту, а по малоавторитетному списку в одной из лермонтовских тетрадей Пушкинского Дома (тетр. XX, стр. 1).
[Закрыть].
Я тогда имела привычку все смотреть вверх, и Лермонтов смеялся надо мной и часто повторял, что стоит быть у моих ног, чтоб никогда не быть мной замечену.
Вот вторая его пьеса:
Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон,
Но образ твой в душе моей
Живет, хотя бессилен он.
Другим предавшися мечтам,
Я всё забыть тебя не мог,
Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все бог![99]99
Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для Чтения» 1844 г., № 6, стр. 132. В сохранившемся автографе стих 6-й: «Я всё забыть его не мог». Произведение это в 1832 г. переработано Лермонтовым в «Расстались мы, но твой портрет».
[Закрыть]
На самом последнем листке альбома было написано подражание Байрону:
Нет! Я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Таить от всех мои желанья
Привык уж я с давнишних дней.
Пишу, пишу рукой небрежной,
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной,
Какой-нибудь остался след.
Быть может, некогда случится,
Что, все страницы пробежав,
На эту взор ваш устремится
И вы промолвите: он прав!
Быть может, долго стих унылый
Ваш взгляд удержит над собой,
Как близ дороги столбовой
Пришельца – памятник могильный [100]100
Впервые опубликовано в «Библиотеке для Чтения», 1844 г., № 5, стр. 6–7, в цикле стихов «Из альбома Е. А. Сушковой». Сохранившийся автограф стихотворений озаглавлен: «В альбом» и разделен на две строфы.
[Закрыть].
1831 г.
[Сушкова, стр. 134–135]
* * *
Профессор Малов… был олицетворенная глупость и ничтожество; но как он был всегда деликатен с нами даже до унижения, то мы терпеливо переносили его глупость. В это время он из экстраординарных профессоров был сделан ординарным, и как у глупых людей honores mutant mores[101]101
Почести изменяют нравы.
[Закрыть], то и Малов возгордился новым своим званием и из кроткого и деликатного вдруг сделался строгим и грубым… Однажды, когда мы, по обыкновению, начали шуметь на его лекции и не унимались от его строгих требований тишины, он вышел из терпения и забылся до того, что обругал нас мальчишками и ушел с лекции. Негодование студентов за такое оскорбление было страшное. Такая брань от кого бы то ни было показалась бы нам очень обидною, тем более от такого осла, которого мы только и терпели за его снисходительность. Все студенты ходили взволнованные по аудитории, кричали, как смел такой дурак, как Малов, так оскорблять студентов, и ругали его всячески. Но весь этот шум и гам, вероятно, кончился бы ничем, если бы не нашелся коновод, который дал бы желанное направление этому движению, и этим коноводом явился я… Слух о нашем намерении сделать скандал Малову распространился и между студентами других факультетов, особливо в словесном факультете, где у нас было много хороших товарищей, которые нам очень сочувствовали и обещали свою помощь; и ненависть к Малову вообще всех студентов, а в особенности необыкновенность такого единодушного действия студентов политического факультета, никогда до сих пор небывалого между ними, возбудили всеобщий интерес и любопытство.
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2, стр. 336–338]
* * *
Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в [этико-]политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним. «Сколько у вас профессоров в отделении?» – спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории. «Без Малова девять», – отвечал студент… Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтобы осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории.
[А. И. Герцен. «Былое и думы». Собр. соч., т. XII, стр. 114]
* * *
Настал желанный день[102]102
16 марта 1831 года.
[Закрыть]. Мы все, сговорившиеся… расселись по отделениям скамеек. Является Малов; все встали… Он важно сел на кафедру, то есть на небольшое возвышение со столом и креслом, и начал читать лекцию. Тишина царствовала глубокая, как на море перед бурей, только входная в аудиторию дверь часто отворялась, и в нее беспрестанно потихоньку входили студенты других отделений, которые и садились на скамейках моего фланга, как ближайших к двери. Из словесного факультета пришли, сколько помню, Антонович, Почека, Оболенский, князь Оболенский, князь Гагарин, Закревский, Огарев; из математического Герцен, Диомид, Пассек, Носков и проч. Не помню теперь, о чем была лекция, но я слушал ее внимательно. Через полчаса или более по содержанию лекции мне казалось, что вот-вот Малов скоро ее кончит, между тем как до часу много еще оставалось времени, и мне вдруг пришло на мысль: ну что, ежели Малов кончит лекцию раньше, нежели за пять минут до своего часа, когда мы условились начинать шум, и уйдет из аудитории?., ведь наше предприятие тогда не удастся. Будучи поражен этою мыслию, я тотчас же посылаю адъютанта своего Михаила Розенгейма к начальникам боевой армии Топорнину и Каменскому с предложением, что хотя еще далеко до условленных пяти минут, но надобно непременно начинать уже. Розенгейм, пробираясь сзади скамеек, возвратился ко мне и передал, что Топорнин ни за что не соглашается и что нужно так делать, как условились. Боясь, чтобы Малов не ушел с лекции прежде нашей демонстрации, и увидевши, что от подошедших словесников армия моя значительно увеличилась, я решился действовать сам со своими собственными силами, хотя бы другие отряды меня и не поддерживали…
Я сидел на передней скамейке. Сначала, желая только сделать как бы пробу, я потихоньку шаркнул ногой по полу; но едва я это сделал, как сзади у меня за скамейками поднялось такое шарканье ногами, какого я уже не ожидал. Малов изумился. Он перестал читать лекцию и прислушивался к шарканью; но как оно не ослабевало и продолжалось сильнее, то он обратился к нашему отделению и начал нам что-то говорить. Мы тотчас перестали, но за этим последовало шарканье на левом фланге, где, вероятно, добрые товарищи не выдержали и не послушались Топорнина. Малов обращается направо к студентам и начинает им говорить; но там мгновенно все умолкает, и начинается шум в центре, Малов обращается к центру; там перестают шаркать, и начинает опять шуметь правый фланг. Все это делалось как по команде. Малов видимо струсил. Сначала он грозил нам, а то вдруг смирился и начал петь перед нами Лазаря: «Ну что я вам, милостивые государи, сделал? – говорил он. – За что вы на меня сердитесь? Помилуйте меня! Извините меня, если я вас чем оскорбил… оставьте все это!» Что мы не имели никакого другого намерения, как только пошуметь, и этим заставить Малова перед нами смириться и извиниться, это доказывается тем, что мягкие его слова и извиняющаяся и униженная его физиономия сильно на нас подействовали, и мы мгновенно перестали шуметь.
Если бы Малов после этого ушел с лекции, то без сомнения и конец был бы нашей демонстрации. Но его, как говорится, лукавый попутал. Видя нашу покорность, он возгордился своею над нами победой и вдруг, как бы какой черт подучил его, он, обращаясь к нам с насмешкою, сказал: «Ну что ж вы, милостивые государи, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте!..» Эти слова его были искрой в порох. Едва он выговорил их, как все студенты вскочили с мест своих, начали ногами уже не шаркать, а колотить о передние доски скамеек, закричали на него: «Вон, вон!..» – и пустили уже в него кто шапкой, а кто книжкой. Он стремглав бросился из аудитории, едва успел схватить свою шубу и шапку и побежал через двор на улицу. Тут вслед ему студенты кричали, атукали как на зайца, ругали его, и когда он выбежал на улицу, то полетели в него и камешки, и толпа далеко по Тверской улице провожала его с гиканьем, бранью и атуканьем, как дикого зверя…
Следствием этого было то, что Малова удалили из университета, с чем вместе он лишился преподавания уроков и в других учебных заведениях, за что он получал, как говорили, до двадцати тысяч ежегодного жалованья, а виновников беспорядка велено открыть и наказать[103]103
Лермонтов в маловской истории участие принимал, но за нее не пострадал.
[Закрыть].
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 2. стр. 338–340, 344]
* * *
Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора.
[А. И. Герцен. «Былое и думы».
Собр. соч., т. XII]
* * *
В старое доброе время любили повеселиться. Процветали всевозможные удовольствия: балы, собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывали и лекции, и премудрых профессоров наших. Наступило лето, а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях своих.