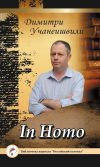Текст книги "Homo academicus"

Автор книги: Пьер Бурдье
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Разное значение профессионального наследования в зависимости от факультета и дисциплины становится понятным, если (вдобавок к прямым эффектам непотизма) увидеть в ней форму профессионального стажа, способного, при прочих равных (особенно это касается такого показателя, как возраст), дать агентам – выходцам из профессиональной среды значительные преимущества в соревновании, поскольку они в большей степени владеют некоторыми свойствами, явно или по умолчанию требуемыми от новичков. Прежде всего это символический капитал, который связан с именем собственным и способен обеспечить, на манер известной марки в случае предприятий, долговременные отношения с приобретенной ранее клиентелой. Затем, это специфический культурный капитал, обладание которым является тем более сильным козырем, чем менее объективирован и формализован капитал, действующий в рассматриваемом поле (факультете или дисциплине), чем больше он сводится к диспозициям и опыту, составляющим искусство, которое может быть освоено лишь с течением времени и только из первых рук[95]95
Есть все основания предполагать, что это отношение между степенью объективации специфического капитала, необходимого для производства и извлечения дохода из реализации продукции, и различием шансов новичков, т. е. высотой барьеров на входе, наблюдается во всех полях, начиная с собственно экономического поля. (Так, не случайно, что внутри поля культурного производства профессиональное наследование на протяжении всего XIX века проявляется с наибольшей силой в секторе театрального производства и особенно буржуазного театра.)
[Закрыть]. Тот факт, что социальное происхождение профессоров и возраст их вступления в должность имеет тенденцию снижаться при переходе от факультетов медицины и права к гуманитарным факультетам и особенно к факультетам естественных наук (или что профессора по экономике и медики-исследователи более молоды и реже являются выходцами из профессиональной среды, чем юристы и клиницисты) отчасти объясняется тем, что схожим образом меняется и степень, в какой процедуры и способы производства и приобретения знания объективированы в инструментах, методах и техниках (вместо того чтобы существовать лишь в инкорпорированном состоянии). Новоприбывшие, и в особенности те из них, кто лишен унаследованного капитала, получают тем раньше и тем больше и шансов в конкуренции со старшими, чем меньше необходимые способности и диспозиции оставляют места опыту (в любых его формах) и интуитивному познанию (основанному на длительном близком знакомстве) – как в производстве, так и воспроизводстве знания (в частности, в приобретении производительных способностей), и чем более эти способности формализованы и, следовательно, в большей степени могут стать объектом рациональной, т. е. универсальной, передачи и приобретения[96]96
Невозможно полностью объяснить оппозицию между наукой и искусством, не принимая во внимание тот факт, что научные практики тесно связаны с социальными процессами объективации и институционализации: речь идет, конечно же, о роли письма как инструмента разрыва с миметической непосредственностью мысли, облаченной в устную форму, или роли всех видов формальной системы символов, особенно логической или математической. Последние доводят до предела эффекты объективации через письмо, замещая интуицию, даже если она является геометрической, автономной логикой системы символов и ее собственной очевидностью, которая возникает из самих символов – «слепой очевидностью» в терминах Лейбница (он называл ее также evidentia ex terminis). Понятно, что такой прогресс в объективации методов мышления всегда осуществляется в рамках и посредством социальных форм, которые его предполагают и доводят до завершения (так, например, диалектика, из которой происходит логика, неотделима от институционализированной дискуссии, своего рода схватки между двумя противниками в присутствии публики). Можно было бы различать дисциплины по степени рационализации и формализации используемых ими форм коммуникации.
[Закрыть].
Однако оппозиция между двумя способностями [faculté], между научной компетенцией и социальной, обнаруживается также в сердце каждого из социально доминирующих факультетов [faculté] (и даже внутри гуманитарного факультета, который с этой точки зрения занимает промежуточное положение). Так, например, медицинский факультет в каком-то смысле воспроизводит все пространство факультетов (и даже поля власти)[97]97
В соответствии с этой же моделью можно описать отношения между правом и экономическими науками – отношения, которые установились в результате процесса автономизации, позволившего экономическим наукам преодолеть положение вспомогательных дисциплин (см.: Le Van-Lemesle L. L'économie politique à la conquête d'une légitimité (1896–1937) // Actes de la recherche en sciences sociales, 1983, 47–48, p. 113–117).
[Закрыть]: несмотря на то что невозможно в нескольких словах описать все аспекты сложной и многомерной оппозиции между клиницистами и биологами медицинских факультетов (к тому же достаточно отличных по своему социальному и образовательному прошлому от биологов с факультетов естественных наук), она может быть описана как оппозиция между искусством, направляемым «опытом», который извлекается из примера старших и приобретается в течение долгого времени в работе с частными случаями, и наукой, которая не довольствуется внешними признаками, служащими для обоснования диагноза, а стремится установить общие причины[98]98
Эта оппозиция полностью гомологична той, что установилась в другом поле между инженером и архитектором: в данном случае человек искусства имеет возможность ссылаться на неотъемлемые нужды Искусства (и, во-вторых, искусства жизни, т. е. «Человека») в противостоянии негуманным и неэстетическим принуждениям техники.
[Закрыть]. Будучи основой двух совершенно разных концепций медицинской практики, одна из которых отдает приоритет отношению между больным и врачом внутри клиники, знаменитой «индивидуальной консультации», которая является фундаментом любой защиты «либеральной» медицины, а вторая – ставит на первое место лабораторный анализ и фундаментальное исследование, эта оппозиция усложняется, поскольку смысл и ценность «искусства» и «науки» меняются в зависимости от того, играют ли они ведущую или подчиненную роль. Клиницисты были бы вполне удовлетворены исследованием, непосредственно отвечающим их нуждам, используя требования экономической рентабельности для того, чтобы ограничить и удержать медиков-исследователей в рамках чисто технической функции прикладного исследования, которое, по существу, в большей степени заключается в применении по запросу клиницистов испытанных методов анализа, чем в поиске новых методов и постановке долгосрочных проблем, зачастую недоступных и не представляющих интереса для клиницистов. Что касается медиков-исследователей, которые до этого момента занимали подчиненные с социальной точки зрения позиции, то те из них, кто обладает наилучшим положением для того, чтобы претендовать на авторитет науки (т. е. скорее представители восходящей дисциплины, вроде молекулярной биологии, чем теряющие позиции анатомы), все более и более склонны во имя связанного с наукой прогресса в лечении утверждать права на фундаментальное исследование, полностью свободное от функций чисто технического обслуживания. Уверенные в престиже своей научной дисциплины, они становятся защитниками современной медицины, свободной от косности, которую, по их мнению, покрывают «клиницистское» видение и идеология «индивидуальной консультации». Кажется, что в этой борьбе будущее, т. е. наука, на стороне медиков-исследователей, и те из них, кто обладает наибольшим престижем и кого даже самые привязанные к прежнему образу медицины ставят выше обычных клиницистов, начинают ставить под вопрос прежде совершенно упорядоченное и просто иерархизированное представление о профессорском корпусе.
Медики-исследователи демонстрируют социальные и образовательные свойства, которые располагают их между профессорами естественных наук и клиницистами. Так, несмотря на то что они очень похожи на другие категории профессоров медицины по поколению отцов (не считая того, что среди них немного больше выходцев из мелкой буржуазии), они кажутся более близкими к ученым в отношении поколения дедов. Вероятность принадлежать к семье, которая относилась к классу буржуазии (исходя из профессии деда по отцовской линии) по крайней мере в течение двух поколений, составляет лишь 22 % у медиков-исследователей, против 42,5 % у клиницистов, 54,5 % у хирургов (и 39 % для профессоров медицины в целом) и 20 % у профессоров естественных наук. Происходя из менее старинных и зажиточных родов, медики-исследователи, которые в отличие от клиницистов и хирургов не обладают двумя источниками дохода (жалованием и доходом от частных клиентов), гораздо реже живут в шикарных округах или присутствуют на страницах Who's who и особенно Bottin mondain – и, что примечательно, среди них, как и среди ученых, достаточно много евреев. В мире, социально очень однородном и очень заботящемся о сохранении своей однородности, этих социальных различий достаточно для того, чтобы заложить основы существования двух социально различных и антагонистических групп. Помимо прочих показателей, об этом свидетельствует тот факт, что большинство информантов и, без сомнения, все профессора, похоже, переоценивают эти различия: «Исследования проводят те, кто немного не в своем уме: именно вышедшие из бедной среды молодые люди идут в исследовательскую деятельность, вместо того чтобы заботиться о том, что называется хорошей карьерой» (интервью, медик-исследователь, 1972). В любом случае, похоже, все указывает на то, что эти различия переводятся в политические оппозиции: медики-исследователи располагаются скорее слева, тогда как клиницисты и особенно хирурги, чей собственно научный престиж является достаточно слабым (несмотря на то что он меняется в зависимости от мнения широкой публики, например, благодаря успехам трансплантации) и которые составляют авангард всех консервативных движений, располагаются скорее справа (две последние категории, видимо, в массовом порядке примкнули к «Независимому профсоюзу», который был создан в мае 1968 года по модели профсоюзов гуманитарных факультетов и факультетов естественных наук и сейчас удерживает все позиции административной власти).
Без сомнения, эта оппозиция, которая может обретать различное в зависимости от поля содержание, является инвариантной для полей культурного производства, парадигму которых предоставляет поле религии с его оппозицией ортодоксии и ереси. Так, например, внутри гуманитарных факультетов можно обнаружить оппозицию между ортодоксией почтенных профессоров, прошедших королевский путь конкурсов, и умеренной ересью исследователей и маргинальных или оригинальных профессоров, которые зачастую получали признание иным путем. Точно так же внутри медицинского факультета четко различают защитников медицинского порядка, который неотделим от порядка социального и опирается на конкурсы и их ритуалы посвящения, способные обеспечить воспроизводство корпуса, и еретических новаторов, вроде вдохновителей реформы в области медицинских исследований, добившихся успеха окольными путями, т. е. довольно часто через заграницу (особенно Америку). Не обладая социальными званиями, которые открывают доступ к социально господствующим позициям, последние нашли в более или менее престижных, но маргинальных институциях (вроде Музея национальной истории, Факультета естествознания, Института Пастера или Коллеж де Франс) возможность продолжить более успешную с научной, чем с социальной, точки зрения карьеру исследователя[99]99
Нет нужды говорить о собственно научных эффектах иерархии, которая устанавливается между кафедрами и обрекает некоторые фундаментальные кафедры (например, кафедру бактериологии) на роль зала ожидания перед назначением на более престижные клинические кафедры (об этом можно прочитать в прекрасной работе: Jamous H. Contribution à une sociologie de la décision, La réforme des études médicales et des études hospitalière. Paris: CES, 1967).
[Закрыть]. Этот вид антиномии между наукой и социальной респектабельностью, между девиантной и рискованной карьерой исследователя и более гарантированной, но также и более ограниченной траекторией профессора отсылает к различиям, вписанным в реальность институциональных позиций, к их зависимости или независимости от светской власти, а также к различиям в диспозициях агентов – в той или иной степени склонных или обреченных на конформность или разрыв, одновременно научный и социальный, на подчинение или трансгрессию, на управление уже сложившейся наукой или критическое обновление научной ортодоксии.
Научная компетенция и компетенция социальная
В различных формах оппозиции между факультетами (или дисциплинами), господствующими с точки зрения светской власти, и теми, что более ориентированы на научное исследование, легко узнать установленное Кантом различие между двумя типами факультетов. С одной стороны, это три «высших (с точки зрения светской власти) факультета», т. е. факультеты теологии, права и медицины. Будучи способными обеспечить правительству «наиболее сильное и длительное влияние на народ», они контролируются им напрямую, наименее автономны по отношению к нему и в то же время на них непосредственно возложены функции формирования и контроля за практическим использованием знания и его рядовыми потребителями: священниками, судьями и врачами. С другой стороны, это «низший факультет», который, не будучи влиятельным с точки зрения светской власти, предоставлен «собственному разуму ученых», т. е. своим собственным законам, идет ли речь о знании историческом и эмпирическом (история, география, грамматика и т. д.) или о чистом рациональном знании (чистая математика или философия). На стороне того, что согласно Канту образует «в некотором смысле правую сторону парламента науки», находится власть, на левой – свобода обсуждать и возражать[100]100
См.: Kant Е. Le conflit des facultés. Paris: Vrin, 1953, p. 14–15, 28 и 37. Частичная валидность кантианского описания ставит вопрос об инвариантах университетского поля и приглашает к методическому сравнению различных национальных традиций в разные периоды времени.
[Закрыть]. Функцией факультетов, господствующих в политической иерархии, является подготовка исполнителей, способных без лишних вопросов и сомнений применять в рамках законов определенного социального порядка техники и рецепты науки, которую они не стремятся ни производить, ни изменять. Напротив, господствующие в культурной иерархии факультеты обречены присваивать себе определенную свободу, чтобы конструировать рациональные основания науки, внушением и применением которой ограничиваются другие факультеты, – свободу, неуместную в исполнительской деятельности, какой бы респектабельной она ни была в светской иерархии практик.
Компетенция врача или юриста – это юридически гарантированная техническая компетенция, дающая право и санкцию на использование более или менее научного знания: подчиненность медиков-исследователей клиницистам выражает эту подчиненное положение науки по отношению к социальной власти, определяющей ее функции и границы. И операция, осуществляемая кантианскими высшими факультетами, отчасти родственна социальной магии, которая стремится, как и в случае ритуалов инициации, одновременно освятить социальные компетенции и компетенции технические. Предложенная Мишелем Фуко генеалогия идеи клиники очень хорошо показывает это двойное измерение – техническое и социальное – медицинской компетенции; она описывает прогрессирующее учреждение социальной необходимости, которая обосновывает социальную важность профессоров медицины и выделяет их искусство среди прочих технических компетенций, не снискавших никакого особенного социального авторитета (вроде компетенции инженера). Медицина является практической наукой, чья истина и успех интересуют всю нацию, а клиника «становится основным элементом как научной связности, так и социальной полезности»[101]101
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. С. 116.
[Закрыть] медицинского порядка, «точкой соприкосновения, из которой искусство врачевания снова возвращается в гражданские отношения» (как говорил один реформатор прошлого)[102]102
Там же. С. 118.
[Закрыть]. И можно было бы показать, что в рамках этой же логики само осуществление клинического акта предполагает некоторую форму символического насилия: будучи более или менее полностью инкорпорированной медицинскими агентами системой в разной степени формализованных и кодифицированных схем восприятия, клиническая компетенция может функционировать практически, т. е. адекватно применяться к отдельному случаю (в операции, аналогичной судебному акту), лишь опираясь на предоставляемые пациентами симптомы – симптомы телесные (вроде опухолей или красных пятен на коже) и вербальные (вроде информации о частоте, длительности и месте появления видимых телесных симптомов или о частоте и длительности болей и т. д.), которые по большей части должны быть порождены клиническим обследованием. Однако эта работа по производству симптомов, приводящая к (правильному или неправильному) диагнозу, осуществляется, как показал анализ Арона Сикурела, в рамках асимметричного социального отношения, в котором эксперт в состоянии навязать свои собственные когнитивные предпосылки по поводу высказанных пациентом симптомов, не будучи обязанным ставить вопрос о расхождении, которое порождает недоразумения и ошибки в диагнозе, между подразумеваемыми предпосылками пациентов и собственными явными или неявными предпосылками, касающимися клинических знаков, и в то же время не ставя как таковой фундаментальной проблемы перевода спонтанного клинического дискурса пациента в кодифицированный клинический дискурс врача (вместе, например, с переходом от показанного или описанного «покраснения» к «воспалению»). Другим в высшей степени вытесненным вопросом является вопрос о когнитивных эффектах времени, затраченного на получение информации, об ограничении когнитивного репертуара эксперта (незаданные вопросы) или способности этот репертуар мобилизовать, которое может объясняться нехваткой опыта, но также, и главным образом, поспешностью и пристрастностью (усиленной наводящими вопросами), которые навязывает срочность.
В общем виде развитие научных дисциплин внутри каждого факультета соответствует замещению научного принуждения, которое является произвольным с социальной точки зрения, на социальное принуждение, произвольное с точки зрения науки (культурный произвол)[103]103
Отнюдь не случайно, что факультет права так медлил с отказом от внешних признаков статусного авторитета – горностай и тога являются необходимыми инструментами работы по представлению и инсценировке авторитета текстов и их толкователей, которая составляет неотъемлемую часть самого осуществления обязанностей, т. е. акта производства права.
[Закрыть]. Несмотря на то что наука стремится обрести социальное признание и тем самым социальную действенность, возрастающие по мере того, как научные ценности признаются все более широко (особенно под влиянием технологических изменений и работы системы образования), свою социальную силу она может получить лишь извне, в форме делегированного авторитета, способного обрести в научном принуждении, которое он социально обосновывает, легитимацию своего социального произвола. Однако этот статусный авторитет может поддерживать это же отношение круговой легитимации с искусством (вроде клинической практики) или с ученой традицией (вроде теологии, права или даже истории литературы или философии), фундаментально социальное принуждение которых основывается в конечном счете на «общем мнении докторов», которое само укоренено не только в рациональном принуждении к когерентности и согласованности с фактами, но и в социальном принуждении системы объективно согласованных диспозиций и культурного произвола, более или менее объективированного и кодифицированного, в котором эта система диспозиций находит свое выражение. Известно, что идеологические конструкции, которые артистические или политические группы или индивиды могут произвести для того, чтобы придать своим «выборам» в самых различных областях – политических, эстетических или этических – видимость связности, являются, по сути, комбинациями логически несвязных элементов, которые удерживаются вместе лишь интегрирующей силой общих диспозиций или позиций. Так что дисциплины вроде истории философии, искусств или литературы, рассматривающие в качестве автономных конструкции, которые не обладают пониманием ни всех причин, ни всего смысла своего существования, или вроде философии права, эстетики или этики, которые стремятся выдать за то, что основано на единстве разума, то, что на самом деле покоится на единстве верований или, одним словом, на ортодоксии группы, лишь усиливают эффект этих конструкций, который заключается в создании иллюзии чисто рационального и свободного от любой детерминации генезиса[104]104
Значительная часть так называемых теоретических работ в области философии, литературы или права состоит в попытке рационально обосновать понятия, оканчивающиеся на «изм» (марксизм, натурализм или либерализм), в основе которых, как мы увидим ниже в случае структурализма, главным образом, если не исключительно, лежит социальная необходимость.
[Закрыть].
И если значение факторов, обеспечивающих как социальную сплоченность группы докторов, так и особенно всех форм кооптации (крайней формой которых является непотизм), предназначенных гарантировать долговременную однородность габитусов, увеличивается, когда мы переходим от физиков и математиков к клиницистам или юристам, то причина этого отчасти состоит в том, что необходимость закладывать интеллектуальное единство communis doctorum opinio в основание социального единства группы навязывается тем более, чем менее надежной является собственно научная согласованность ее членов и чем больше социальная ответственность корпуса[105]105
Очевидно, что специфическая природа объекта социологии, которая по своей исключительности близка к объекту юридических дисциплин, ставит ее в совершенно особое положение: если мнение докторов принимает здесь форму какой-то ортодоксии, то эта ортодоксия чаще всего обречена на крайнюю неоднородность из-за отсутствия сильного образовательного и особенно социального контроля на входе и из-за связанного с этим разнообразия социального и образовательного происхождения тех, кто ее производит.
[Закрыть]: как это особенно заметно в случае юристов, корпус «руководителей» не может, не компрометируя свой капитал авторитета, представлять себя беспорядочно, на манер интеллектуалов. Кроме этого он должен стереть из «писаного разума» [ «raison écrite»] противоречия, т. е. видимые следы конфликтов, из которых он произошел, и вопросы, способные привести к обнаружению его настоящих функций, он должен заранее исключить всех, кто мог бы угрожать порядку корпуса хранителей порядка.
Здесь стоило бы рассмотреть молчаливые соглашения о делегировании, которые обосновывают авторитет различных факультетов, предписывая их свободе тем более строгие границы, чем более значительной является признаваемая за ними социальная ответственность, а также подвергнуть анализу представления о функциях этих институтов, разделяемые привилегированными потребителями институций высшего образования, т. е. членами господствующего класса. Как ясно показывает анализ ответов, полученных в ходе национального опроса 1969 года, посвященного образованию, склонность отдавать приоритет социальным функциям Университета перед функциями собственно научными, например, «подготовке национальных кадров» перед прогрессом научного познания, растет при переходе от членов подчиненных фракций к членам господствующих. Та же тенденция наблюдается и при переходе от профессоров естественно-научных факультетов к профессорам факультетов права и медицины. Степень совпадения функций, которыми профессора наделяют свое педагогическое действие, и функций, которые ему приписывают его привилегированные адресаты, имеет тенденцию к увеличению согласно тому же принципу (и вместе с этим все менее вероятным становится своего рода отделение, в результате которого профессора могли бы воспользоваться своей относительной автономией для удовлетворения собственных интересов). Недоверие, всегда испытываемое и иногда демонстрируемое господствующими фракциями, особенно в период после 1968 года, по отношению к факультетам, местам «развращения молодежи», обращено прежде всего к факультетам гуманитарным и, во вторую очередь, к факультетам естественных наук – гораздо менее «надежным», ввиду эффектов «заражения» (как выразился во время интервью один руководитель предприятия), чем Высшие школы. Все обстояло так, как если бы они были готовы расторгнуть соглашение о делегировании всякий раз, как только возникала вероятность того, что осуществление технических функций технического образования будет угрожать или подрывать осуществление функций социальных.
В свете этого анализа становится более понятным истинное значение политических различий между факультетами, которые можно выявить на основе публичной информации или информации, полученной непосредственно от определенной (меняющейся в зависимости от факультета) фракции профессоров. Чаще всего чуждые политике и в любом случае не склонные занимать публичную позицию в этих делах, профессора естественных наук (даже если зачастую они не являются членами профсоюза), кажутся немного склоняющимися к левым взглядам. Вопреки общепринятому мнению профессора гуманитарных факультетов располагаются, несомненно, в целом правее, чем профессора естественных наук, т. е. чаще в правом центре или скорее справа, чем слева. И это несмотря на то, что на уровне публичных заявлений (вроде петиций или писем поддержки) левое меньшинство гораздо более представлено и, следовательно, в большей степени заметно (a fortiori если вновь включить весь преподавательский корпус, в том числе старших преподавателей и ассистентов). Это не вызывает удивления, если учесть, что на данном этапе истории интеллектуального поля социальное побуждение публично высказываться по политическим проблемам является тем более сильным, чем ближе кто-то расположен к «интеллектуальному» полюсу университетского поля, а значит левее. Профессора медицины, кроме медиков-исследователей, довольно часто склонные к политическому безразличию, свойственному тем, для кого социальный порядок является чем-то само собой разумеющимся, и мало предрасположенные к эксцентричности публичных демонстраций, почти все располагаются по центру или справа. Что до профессоров права, которые вовлечены в политику сильнее, чем профессора медицины, но, несомненно, не так плотно сосредоточены справа, то они более склонны занимать публичную позицию по политическим проблемам и особенно, быть может, когда они принадлежат к левому меньшинству[106]106
В университетском комитете поддержки кандидатуры Валери Жискар д'Эстена (Le Quotidien de Paris, 17 мая 1974 года) профессора медицины, права и экономики представлены очень сильно, особенно в Париже: соответственно 28 и 18 из 64 человек (против 10 гуманитариев и 0 «естественников») в Париже и 18 и 14 из 47 (против 8 гуманитариев и 7 «естественников») в провинции (кроме того, в Париже насчитываются 5 членов Института и 1 профессор из CNAM). Различные декларации в поддержку Франсуа Миттерана не позволяют провести сопоставимый по точности анализ, поскольку должности, когда они указывались, были слишком расплывчатыми. Тем не менее факультеты гуманитарных и естественных наук были представлены там очень сильно.
[Закрыть].
Этот анализ предполагает и предлагает рефлексию о том, что следует понимать под политическим мнением агента, и об условиях его постижения и измерения, т. е. об отношении между политическим мнением, которое можно назвать частным (оно выражается в кругу близких друзей или в одиночестве кабинки для голосования), и публичным политическим мнением. Известно, и мы смогли это проверить, спрашивая информантов (студентов наших респондентов или их коллег) о политических мнениях той или иной совокупности профессоров, что мнения о политических мнениях других меняются в определенных пределах в зависимости от политических мнений тех, кто о них «судит» (следовательно, от системы явных или неявных критериев, которые используются для того, чтобы разделить агентов на левых и правых, и являются предметом разногласия среди самих левых и правых). Однако они меняются также в зависимости от определения (чаще всего неявного) того, что составляет «настоящее», «подлинное» политическое мнение, т. е., по сути, того, в каких обстоятельствах это мнение «по-настоящему» обнаруживает себя[107]107
Когда публичные декларации рассматривают в качестве более «настоящих» (или «искренних»), чем частные мнения (признания в кругу близких друзей, например), забывают обо всем обязательном и даже принудительном в выступлениях на публике (что не делает их, однако, менее «искренними»), что составляет часть роли, которую необходимо поддерживать, или социальной идентичности, которую необходимо защищать, и т. д. В этой перспективе можно было бы проанализировать влияние, которое общее мнение, касающееся «настоящего» мнения агента («Х является левым»), может в различных обстоятельствах осуществлять в отношении его публичных деклараций, – основанием последних может быть намерение подтвердить или опровергнуть это мнение.
[Закрыть]. На самом деле если согласиться с тем, что политическое мнение является мнением, которое демонстрируется путем явного выражения (согласно платоновской формуле «высказывать мнение значит говорить»), то мы увидим, что оно в качестве такового будет определяться в отношении между диспозициями этическими или собственно политическими и рынком, на котором оно должно быть предложено. Почти всегда остаются без внимания вариации, проистекающие из эффекта рынка (одним из проявлений которого является эффект опроса, меняющийся в зависимости от социальных характеристик респондента), и, особенно когда речь идет об определенной группе, разрыв между тенденциями, которые проявляются в частных мнениях, высказанных на манер признаний в кругу близких друзей или, в ситуации опроса, под покровом анонимности и ценой различных форм эвфемизаций («центр» вместо «правого», например), и тенденциями, проистекающими из публично признаваемых мнений, манифестов и демонстраций, которые способны навязать себя в качестве нормального состояния или групповой нормы, в качестве умеренных и модных мнений, согласие с которыми, даже молчаливое или тайное, ощущается как обязанность. Внимание к такого рода разрывам является необходимым для того, чтобы не приписывать неожиданным переменам и внезапным обращениям те утверждения [prise de position] (например, выражение приверженности позиции одной из сторон во время кризиса, связанное с общим усилением склонности к обнародованию мнений), которые отчасти можно объяснить эффектами рынка[108]108
Ошибка восприятия, которая выставляет профессоров гуманитарных факультетов как в целом левых, позволяет тем из них, кто публично относит себя к правым (а таких относительно немного, по крайней мере до 1968 года), казаться себе и другим более или менее героическими еретиками. Тогда как, и это было заметно в мае 1968 года, они обладают поддержкой большинства коллег – за исключением того осуждения, которое вызывают демонстрация политической позиции и компромиссы с журналистами.
[Закрыть].
Анализ случайной выборки членов Национального профсоюза высшего образования (SNESup)[109]109
Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESup) – «Национальный профсоюз высшего образования», близкий к компартии Франции. – Прим. пер.
[Закрыть] в 1969 году установил, что процент вступивших в профсоюз профессоров естественных и гуманитарных наук, медицины и права составляет соответственно 15, 30, 6 (почти все были рекрутированы из рядов «медиков-исследователей») и 1 %. Процент участия в более правом Независимом профсоюзе[110]110
Syndicat autonome. – Прим. пер.
[Закрыть], несомненно, менялось в обратной пропорции. (В мае 1968 года примыкающие к SNESup преподаватели были распределены по различным факультетам следующим образом: право – 1,2 %; медицина и фармакология – 3 и 1,2 %; гуманитарные науки – 26,1 %, из которых 1,9 % принадлежит социологии, 1,1 % – педагогике, 1,3 % – психологии, 1,9 % – философии, 4,8 % – литературе, 2,7 % – истории, 2,5 % – географии, 1,6 % – лингвистике и 7,8 % – языкам; естественные науки – 56,3 %, из которых 16 % принадлежат математике, 16,4 % – физике, 1,6 % – геологии, 7,1 % – химии, 15,1 % – биологии и 1 % машиностроению и гражданскому строительству.) Наш анализ результатов национального опроса, проведенного AEERS[111]111
Association d'etude pour l'expansion de la recherche scientifique – исследовательская группа в поддержку распространения научных исследований. – Прим. пер.
[Закрыть] в 1969 году, позволяет даже утверждать, вопреки присущим спонтанной выборке ограничениям, что точки зрения на систему образования профессоров различных факультетов, идет ли речь, например, о введении политических и профсоюзных свобод в Университете или об изменении системы рекрутирования профессоров, также строго гомологичны позициям их факультета в системе институций высшего образования (принимая в расчет, что мнения об университетской системе и ее изменениях никогда не определяются непосредственно социальным происхождением, они определяются в отношении между позицией и диспозицией: так, например, «чудом спасшиеся», которые всем обязаны системе, при прочих равных являются одними из самых неуступчивых защитников системы и ее иерархий).
Установленная Кантом оппозиция между двумя категориями факультетов, где первые подчинены светскому порядку, которому они служат, а вторые, напротив, свободны от любой светской дисциплины и ограничений, находит свое осуществление и предел в отношении между юридическими дисциплинами и социальными науками. Последние переносят характерную для низших со светской точки зрения факультетов свободу и даже безответственность на почву, выделенную высшим факультетам, и тем самым постепенно приходят к тому, чтобы оспорить их монополию на осмысление и легитимный дискурс о социальном мире. С одной стороны, существует наука о порядке и власти, стремящаяся к рационализации в двойном смысле слова существующего порядка. С другой – наука о порядке и власти, которая стремится не упорядочить публичные интересы, а осмыслить их как таковые, понять, чем являются социальный порядок и государство, сводя их посредством исторического сравнения или воображаемой вариации к простому частному случаю из пространства возможностей, осуществленных или осуществимых[112]112
Схожая по форме оппозиция наблюдается внутри самих гуманитарных факультетов между социологией и каноническими дисциплинами, которые или объекты которых она может брать в качестве собственного объекта исследования (социология образования и социология искусства, литературы, философии соответственно).
[Закрыть]. Эта операция не так уж безобидна, как может показаться, поскольку предполагает приостановку простого участия в порядке вещей, что в глазах хранителей порядка уже является критическим разрывом и даже свидетельством безответственности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?