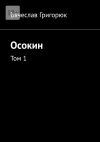Текст книги "Странная жизнь Ивана Осокина"
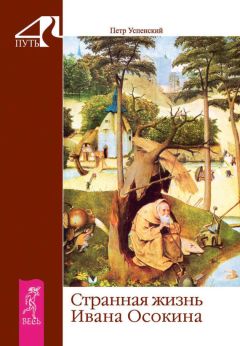
Автор книги: Петр Успенский
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Часть II
Жизнь (Линга Шарира)

Глава 1
Утро
Пространство четвертого измерения – время, действительно, есть расстояние между формами, состояниями и положениями одного и того же тела и разных тел (то есть кажущихся нам разными). Оно отделяет эти формы, состояния и положения друг от друга, и оно же связывает их в какое-то непонятное нам целое. Это непонятное нам целое может образоваться во времени из одного физического тела – и может образовываться из разных.
«Tertium Organum»
Спальня в гимназическом пансионе. Ряды кроватей, спящие фигуры, закутанные одеялами. За аркой – другое отделение спальни. Шесть часов утра, за окнами темная ночь. Горят лампы. Бьют часы. На дальнем конце спальни появляется дядька из николаевских солдат, которого зовут Лягушка, и начинает звонить в большой колокольчик, проходя по среднему широкому проходу между кроватями.
Спальня сразу оживает, начинаются движение и шум. Одни сразу вскакивают, сбрасывают одеяла, натягивают сапоги, брюки и с полотенцами в руках бегут в умывальную. Другие закутываются с головой в одеяло и стараются еще хоть полминуты подремать. В одной из кроватей мальчик лет пятнадцати вскакивает на кровать и начинает танцевать. С другого конца спальни в него бросают подушкой. Воспитатель, длинный немец в синем фраке, ходит от одной кровати к другой и дергает за одеяла тех, кто не встает.
На кровати у стены, приподнявшись, сидит Ваня Осокин, с изумлением глядя вокруг себя. Ему на вид лет четырнадцать.
– Во сне я это все видел, и что это значит? – говорит он про себя. – И то, что я сейчас вижу, – тоже сон? Я был у волшебника и просил его вернуть меня назад. Он сказал, что вернет на одиннадцать лет назад. Неужели это правда? Я ушел из дому и взял револьвер. Я не мог оставаться дома. Боже, неужели правда, что Зинаида выходит замуж за Минского? Я не могу с этим жить. Но какой смешной сон! Гимназия совсем как настоящая. Здесь тоже очень скверно. Но как же я буду жить? Зинаиды больше нет для меня! Я не могу, я никогда не примирюсь с этим! Я говорил волшебнику, что хочу изменить всю свою жизнь и что я должен начать издалека. А что, если он, и правда, вернул меня назад? Это невозможно, я знаю, что это сон. Но попробую подумать, что я на самом деле в гимназии. Что это – лучше или хуже? Не знаю даже, что подумать. И почему мне делается так страшно и грустно? Ведь этого не может быть… Но Зинаида… Нет, тут какой-то заколдованный круг. А что, если я на самом деле гимназист? Я сейчас проверю себя… Что бы такое вспомнить? Вот что! В гимназии я не знал по-английски. Если я знаю, значит, все было, и я был за границей, и все. Как начинается эта сказка Стивенсона о дочери, которая не имела власти над завтрашним днем? «The Song of the Morrow»[3]3
Стивенсон Роберт Льюис. «Песнь завтрашнего дня». – Примеч. ред.
[Закрыть]. Да, верно. The King of Duntrine had a daughter, when he was old and she was the fairest King's daughter between two seas… Да, все верно, значит, я знаю по-английски. Я могу вспомнить дальше… her hair was like spun gold, and her eyes like pools in the river: and the King gave her a castle upon the sea beach with a terrace, and a court of the hewn stone, and four towers at the four corners… Но значит, это все сон!
– Осокин, Осокин, – кричит ему его приятель Меморский. – Что ты сидишь, как сыч. Заснул, что ли? Слышишь, немец записывает, кто не оделся. Да проснись же ты, чертова кукла!
Меморский хватает подушку и изо всех сил бросает в голову Осокину. Тот же, задумавшись, ничего не слышал и от неожиданности чуть не падает с кровати. Потом хватает подушку и рассерженно бросает ее в хохочущего Меморского, который ловко увертывается.
В это время из-за арки выходит немец-воспитатель, и подушка, пролетая над головой Меморского, попадает ему прямо в лицо.
От неожиданности немец тоже чуть не падает и потом в бешенстве бросается к Осокину.
У немца была привычка хватать виноватых даже в меньших преступлениях и собственноручно тащить к какому-нибудь месту наказания «под часы», или «под лампу», или «к шкафу», или просто «к стене». У гимназистов не считается позорным наказание, но считается унизительным и смешным, когда немец «тащит».
Осокин сначала растерянно смотрит на немца и хочет что-то объяснить ему, но потом, видя взбешенное лицо и понимая его намерение, бледнеет и выставляет вперед руки для защиты. Немец вовремя замечает выражение лица Осокина и его движение и останавливается. Несколько мгновений они стоят друг против друга. Вокруг быстро образуется цепь любопытных. Злоба душит немца, но он справляется с собой, решая сделать как можно более неприятное для Осокина.
– Почему ты не одет? – кричит он. – До чего еще дойдет это безобразие? С утра драки! Всех задерживаешь. Велю дядькам умывать тебя, если сам не хочешь умываться. Живо одевайся и марш «под часы»! Останешься без чаю и во время репетиции будешь стоять у шкафа. Потом я поговорю с Адольфом Францевичем. Одевайся!
Немец круто поворачивается и уходит. Собравшаяся толпа расходится. Кто смеется, кто сочувственно что-то кричит Осокину. Он же нервно начинает одеваться.
– Что за нелепость? – мелькает у него в голове. – Какой идиотский сон! И нужно же было увидеть эту рожу! Но зачем я одеваюсь! Лягу и буду лежать. Ведь это же сон.
Но в этот момент он вспоминает волшебника, и ему делается так смешно, что он с трудом удерживается, чтобы не расхохотаться вслух.
– Воображаю, что сказал бы волшебник! Вот действительно блестящее начало новой жизни! И смешно, но именно так все и было тогда. Я прекрасно помню эту историю с подушкой. Но откуда мне знать, что это должно было случиться именно сегодня? А волшебник, наверное, сказал бы: вы знали. Впрочем, кажется, у меня мелькнуло что-то в голове, когда я собирался бросить подушку. Я хотел остановиться. Но все-таки бросил ее. Проклятый немец! Нужно же было ему подвернуться? Теперь он пожалуется Францычу, и вообще выйдет гадость. Значит – без отпуска, да еще балл сбавят, пожалуй. Но зачем я об этом думаю? Не все ли мне равно, ведь я сейчас проснусь. Нужно сделать над собой усилие. Ничего этого нет! Я просыпаюсь! Ну!
Из-за арки показывается немец.
– Ты еще не готов? – кричит он Осокину. – Прокофий, отведи его «под часы».
Дядька Прокофий, которого гимназисты зовут Картофель, нехотя направляется с другого конца спальни к Осокину. Чувствуя, что из двух зол нужно выбирать меньшее, Осокин хватает полотенце и, не глядя на немца, быстро идет к выходу из спальни.
Площадка лестницы перед умывальной. Вниз идет чугунная лестница. На стене круглые желтые часы. Под часами стоит Осокин, с рассеянным и встревоженным лицом. Мимо него из умывальной в спальню и обратно проходят гимназисты. Никто не обращает на него внимания.
– Что я, схожу с ума или сошел уже? – думает Осокин. – Таких снов не бывает! Но я не могу проснуться. Ведь не может же быть на самом деле, чтобы я очутился в гимназии. Слишком уж это глупо. Я знаю, что если я только начну думать о своей жизни, о Зинаиде, о делах, – я проснусь. Но нет, я не могу перестать думать об этом дураке-немце, о том, что меня оставят без отпуска. Видимо, я продолжаю спать. В самом деле, замечательно интересно было бы вернуться в гимназию для того, чтобы по обыкновению сидеть без отпуска. Нет, уж это дудочки! Если бы я на самом деле вернулся, так по крайней мере извлек бы из этого все, что можно извлечь. А ведь, в самом деле, интересно было бы увидать Зинаиду девочкой. Я знаю даже, где она учится. Но, Боже мой, неужели это правда, что она выходит замуж, будет любить этого Минского, станет совсем чужой мне? Тогда все равно – зачем мне ее видеть? Только я не понимаю одного, почему этот глупый сон так тянется. Обыкновенно, как только во сне я подумаю, что это сон, так сейчас же просыпаюсь. А теперь почему-то не могу проснуться. Вот что! Попробую прыгнуть с лестницы через перила: если я полечу по воздуху, значит, это сон. Ведь это же не может быть действительность, значит, я не могу упасть.
Осокин решительно, большими шагами проходит площадку, берется руками за железные перила и заглядывает вниз. В это время из спальни выбегают человек пять гимназистов, приблизительно одного возраста с Осокиным. Видя перегнувшегося вниз Осокина, они подбегают к нему и наваливаются на него сзади. Все хохочут.
Осокин старается освободиться и нечаянно ударяет локтем в лицо одного из напавших мальчиков. Тому, видимо, очень больно. Он вскрикивает и хватается за лицо. Между пальцами у него каплет кровь. Остальные отпускают Осокина и с любопытством смотрят, что будет дальше. Из дверей спальни старших выходит немец и сразу одним взглядом охватывает положение.
Наказанный Осокин сошел со своего места «под часами», участвовал в драке и разбил в кровь нос Клементьеву.
Осокин тоже понимает, что все улики против него, и хочет что-то сказать. Но немец не дает ему говорить.
– Опять драка и опять Осокин! – кричит он. – Прежде всего, кто тебе позволил сойти с места? Нет, это из рук вон!
Немец все больше и больше подогревает себя.
– Что, тебя в клетку нужно сажать или на цепь? Или горячечную рубашку надевать? На одну минуту от него нельзя отойти. Довольно! У меня для тебя нянек нет. Когда все пойдут в столовую, останешься здесь, «под часами» и будешь стоять под ними и во время репетиции, пока не придет Адольф Францевич. Пускай он делает с тобой, что хочет. Я отказываюсь. А если ты сойдешь с места еще раз, я тебя отправлю в больницу.
Осокину и досадно, и противно все, что происходит. И в то же время необыкновенно смешно смотреть на немца. Ему хочется сказать тому что-нибудь такое, чтобы он понял, что Осокин совсем не гимназист, что это только сон. Но ему ничего не приходит в голову. И против его воли ему делается неприятно от угроз немца, точно его на самом деле ожидает что-то очень неприятное.
Осокин опять стоит «под часами».
На другом конце площадки гимназисты начинают строиться парами. Впереди старшие, в конце младшие. Всего около ста человек.
– Прокофий, – кричит немец дядьке, – Осокин будет стоять здесь, «под часами». Если он сойдет с места, приди и скажи мне.
Воспитатель бросает злобный взгляд на Осокина и важно идет вниз по лестнице. За ним двигаются пары, не обращая внимания на наказанного.
– Осокин, я тебе вынесу, – кричит Меморский.
На гимназическом жаргоне это значит, что Меморский принесет Осокину, оставленному без чаю, булку или кусок булки.
Глава 2
Мысли
Осокин остается один. Его все больше и больше, против его желания, охватывает тревожное настроение напроказившего гимназиста, ожидающего наказания, и он не может отделаться от него.
Оставление в спальне и «под часами» во время чая и на всю репетицию – это уже не обычное наказание из числа неважных. А угроза больницей – самое большое, что может сделать воспитатель своей властью. Больница сама по себе нисколько не страшна, наоборот, очень приятна. Но помещение здорового в больницу означает «отделение от всех остальных» и обычно предшествует исключению из гимназии.
Дядьки убирают спальни. С площадки видны спальни и младших, и старших.
– Прежде всего, я этому ничему не верю, – убеждает себя Осокин, – а во-вторых, мне хочется курить, – заканчивает он неожиданно для себя. – Интересно, есть у меня папиросы или нет. – Он ищет по карманам. – Ничего нет. Часы, двугривенник, перочинный ножик, огарок стеариновой свечки, зажигательное стекло, гребенка, карандаш – больше ничего.
Это содержимое карманов гимназиста-пансионера невольно заставляет Осокина улыбнуться.
– Черт знает что только не приснится, – думает он. – Но удивительно, как я шаг за шагом вспоминаю всю эту историю. Именно так все и было, даже, кажется, папироску я искал. Но я не смог бы вчера вспомнить это все и рассказать с такими подробностями. А теперь даже помню, что было дальше. Пришел Францыч, отчитал меня, сбавил балл, и потом, кажется, три воскресенья я сидел без отпуска. От этого я уже совсем ошалел и окончательно бросил заниматься. Таким образом, это было началом целой серии «приятных» событий, в результате которых я застрял в четвертом классе на второй год. Если я вернулся назад с тем, чтобы все исправить, то «лучшего» начала нельзя придумать. Но это ерунда. Что мне за дело до гимназии! Проснусь – и все будет кончено. Так, выплыло откуда-то воспоминание. Буду лучше думать о настоящем. – Он старается заставить себя думать о Зинаиде. Но его хватает за сердце такая щемящая тоска, что он мотает головой и снова говорит сам себе:
– Нет, только не это! Ведь я же от этого убежал. Все равно – сон это или не сон, я о том не могу думать. Но о чем же мне думать? Все скверно – и здесь, и там. Нет, так невозможно. Нужно найти что-нибудь, на чем остановить мысль. А то уж слишком тяжело. Думать о чем-нибудь другом! Кто был у меня вчера? Ступицын, да. Воображаю, как бы он стал хохотать, если бы я рассказал ему, что волшебник вернул меня опять в гимназию. Пожалуй, худшего наказания ни для кого не придумать. А кстати, ведь Ступицын тоже должен быть здесь, только он приходящий. Интересно было бы его увидать. Но что же делать? Сон это или не сон, но стоять «под часами» я не хочу. Если я и вернулся в гимназию, то совсем не для этого. Ужасно странный сон, какой-то кошмар, бред! Может быть, я болен, может быть, у меня тиф? Странно, что я так связно рассуждаю, но, говорят, это бывает. Когда же начался этот бред? Я помню, Ступицын говорил вчера, что у меня дурной вид. Потом я пошел на почту и встретил Крутицкого. Он мне сказал про Зинаиду… Вот с этого все и началось. Может быть, этого не было? Может быть, я совсем не ходил на почту и не встречал его? Может быть, это – бред, и Зинаида замуж не выходит? Вероятно, мне сделалось дурно, когда ушел Ступицын, и я лежу у себя и брежу, и не могу проснуться. Пожалуй, это вернее всего. Тогда вот что, если это правда – а иначе, кажется, не может быть, – я, как только поправлюсь, еду в Крым – хоть зайцем, на буфере, как угодно, только поеду. Может быть, это не тиф, может быть, это просто нервная лихорадка.
Мимо него проходит дядька Прокофий, тоже из старых солдат, и, ухмыляясь, кивает ему.
– Попался, брат Осокин. Чего это вы подрались-то?
Осокин сначала не понимает его, но потом невольно отвечает «за гимназиста»:
– Да мы не дрались, я ему только локтем попал нечаянно.
Прокофий качает головой.
– Ловко попал. Текла, текла кровь-то из носу. Насилу уняли. Уж ему все говорили: держи нос кверху. А теперь нос-то синий и распух во как!
– Да я нечаянно, – оправдывается Осокин, переступая с ноги на ногу.
– Ну да, а Роберту Карлычу подушкой в морду тоже нечаянно залепил? Погоди, вот тебе Адольф Францыч пропишет.
Прокофий машет рукой и идет в спальню.
Нить мыслей Осокина прерывается.
– Я не могу понять, кто же я сейчас? – думает он. – Гимназист или взрослый человек? Да ведь это повторение до мельчайших подробностей того, что было! Но ведь если я вернулся назад, то не для этого же… А если это сон, то почему он такой длинный? Сколько раз я раньше видел во сне гимназию. Всегда это было ужасно смешно.
Я помню, в Париже видел во сне, что я опять поступил в гимназию. Вот совершенно так же все и было, как сейчас. И я помню, мне куда-то нужно было идти, и я попросился у Францыча, а он не пускал меня. Я ему говорю, мне нужно на лекцию, Адольф Францыч, а он отвечает: «Мина это не касается. Если ви наступили в гимназию, ви обязаны подчиняться всем правилам». Значит, теперь опять с Францычем объясняться. Но, черт возьми, все-таки нужно признать, что получается очень забавно, только нужно постараться не забыть этот сон. А то все самое интересное всегда забывается. И вот тема для стихов – где кончается сон и где начинается реальность? Совершенно невозможно определить. Думаешь, что это действительность, а оказывается сон. Однако любопытно, долго он будет тянуться или нет? Если бы наверное знать, что долго, можно было бы повернуть сон по своему желанию. Сколько можно увидать! Ну, подумаем, что бы я хотел увидать. Маму?
Осокин мысленно останавливается, и ему делается страшно.
– Боже мой, но ведь она же умерла! Я помню ее похороны. Как же я буду смотреть на нее? Я все время буду думать о том, что видел ее мертвой. Я, помню, и тогда, в гимназии, думал: придет момент, когда мама умрет, что я буду делать? И потом она на самом деле умерла. А я продолжал жить. Самое ужасное, что мы со всем примиряемся. Но, Боже, как бы я хотел ее сейчас увидать! Почему такой глупый сон? Почему я вижу немца, Прокофия, почему я не вижу ее? Вот странное ощущение! Это совершенно, совершенно то же самое, что постоянно бывало в гимназии… Я помню, как тогда у меня мелькала мысль, что мама может умереть, и мне безумно хотелось ее увидеть сейчас же, сию минуту, и быть дома, сидеть с ней, разговаривать. И теперь то же самое. Я не знаю, чего бы я не отдал сейчас, чтобы увидать ее. Но меня еще без отпуска оставят. Что за глупости? Зачем я думаю об этом?
Я не могу от этого зависеть. Я хочу увидеть ее, я должен! Боже мой, как меня мучило тогда, что меня оставляют без отпуска. Ведь эти толстокожие животные не понимают, что значит просидеть здесь неделю и не иметь возможности пойти домой в субботу. Ведь только этим и можно жить. Но как теперь сделать, чтобы увидеть маму? Это и страшно, и необходимо. Как же я буду смотреть на нее теперь, говорить с ней и при этом вспоминать ее похороны? Вот теперь я понимаю, почему она всегда вызывала у меня какую-то жалость. Это было предчувствие.
Осокин задумывается.
– У меня не укладывается это в голове, – говорит он, оглядываясь кругом. – Я хочу понять, что это – сон или нет?
Глава 3
Прошлое
Гимназия. Осокина зовут к инспектору. Толстый чех, Адольф Францевич, отчитывает его. Осокин что-то пытается объяснить ему, но тот ничего не хочет слушать и угрожает самыми страшными наказаниями. В результате за всю совокупность совершенных утром преступлений Осокин оставлен без отпуска на три воскресенья.
Начинаются уроки. Осокин не знает даже, что задано. Единица по греческому. Другие уроки проходят благополучно, его не спрашивают. Осокин сидит и ходит в каком-то оцепенении. Ему одинаково тяжело думать о себе как о взрослом, потому что тогда все его мысли занимает Зинаида, и как о гимназисте, потому что тогда он думает о матери и ее скорой смерти. Чтобы не думать ни о том, ни о другом, он старается занять свой ум фантастическими мечтами. Эти мечты называются «Путешествие в Океаниду».
Осокин плывет на пароходе через Тихий океан, пароход разбивается и гибнет. Его, чуть живого, волна выбрасывает на берег, и он оказывается в неизвестной стране, где живут люди, осуществившие все мечты утопистов. Там нет бедности, нет преступлений, нет глупости, нет жестокости. Все довольны, все счастливы, все наслаждаются жизнью, солнцем, природой. Путешествие в Океаниду слагается из десятков прочитанных книг. Осокин прекрасно знает, что и тогда, раньше, когда он по-настоящему был в гимназии, его любимым занятием во время скучных уроков и репетиций были путешествия в Океаниду.
Один или двое из жителей Океаниды (иногда это девушка с веселым, жизнерадостным лицом) служат ему проводниками, показывают различные учреждения страны, объясняют ее общественное устройство. Они спускаются под землю в кратер потухшего вулкана, поднимаются на снеговые вершины гор. У них десятки интересных встреч, разговоров и приключений. А иногда, когда проводником является девушка с веселым лицом, они оказываются в пикантных и очень рискованных положениях: или им приходится ночевать в одной комнате, или гроза и дождь в горах заставляют их укрыться в маленькой пещере, или у них перевертывается лодка, на которой они плыли через реку; они выбираются на маленький островок и должны у костра сушить свое платье, причем во всех таких случаях спутница Осокина, что особенно нравится ему, без всякого стеснения раздевается и одевается перед ним.
Путешествие в Океаниду – старое и испытанное средство – не думать о неприятных вещах. Но в то же самое время Осокина немножко грызет совесть. Океанида виновата во многих его единицах.
Когда в Океаниде развертывается какое-нибудь интересное приключение, Осокин ни о чем больше не способен думать.
– Зачем я думаю опять об этом? – нерешительно спрашивает он себя. – Больше не о чем думать. Это все-таки самое интересное.
И он незаметно убаюкивает себя опять теми же старыми мечтаниями. После уроков пансионеры переодеваются в парусиновые блузы и идут вниз. Гулять не пойдут, потому что дурная погода. Бывает, что осенью пансионеры не выходят на воздух по три недели. Что за охота воспитателю шлепать по грязи или ходить под дождем? А так как воспитателей пять человек и они сменяются каждый день, то каждый из них считает, что вместо него завтра другой пойдет гулять с гимназистами. Да и, наконец, что за беда, если гимназисты посидят дома день-другой. Никому не приходит в голову, что так проходят неделя за неделей. А инспектору и директору ни до чего нет дела. Они днем не бывают в пансионе.
Гимназисты разбредаются по всему большому зданию гимназии. Младшие бегут вниз, в гимнастический зал.
Осокин садится на подоконник на втором этаже и смотрит на улицу. Все то же самое. Вывески: «Колбасная и сырная» и рядом «Мясная и рыбная». Грязь, дождь, отвратительная московская осень. Проезжают конки с мокрыми клячами, извозчики, нахохлившись, сидят с поднятым верхом. На душе скверно и ужасно тоскливо. Хорошо бы очутиться дома, сидеть с матерью, читать или слушать, как она читает вслух, – ведь есть же счастливые люди, которые живут дома. Или пойти куда-нибудь бродить по улицам под дождем – это тоже бывает ужасно приятно. Может быть, встретится Зинаида? Ах, Боже мой, опять эти мысли. Но что же, в конце концов, сон это или не сон? Английский язык! Да, это позволит все прояснить. Я не мог знать по-английски в гимназии. Как начинается эта сказка? The King of Duntrine had a daughter, when he was old and she was the fairest King's daughter between two seas…
Дальше он вспоминает с перерывами.
– Очень странно, – снова бормочет он. – Если я гимназист, откуда я это знаю? И я знаю, что был в Лондоне и жил в бординг-хаусе на Russell Square, и в Париже знаю все переулки и закоулки Монмартра. Нет, так нельзя оставить, нужно понять. Попробую предположить, что я не сплю, что волшебник на самом деле вернул меня назад, для того чтобы я, как хотел, мог по-новому направить свою жизнь. Что же я должен делать? Нужно, чтобы все было иначе. Я должен кончить гимназию, а для этого надо заниматься и не попадать ни в какие «истории». Сначала, конечно, мне будет трудно, но через день, через два освоюсь. Теперь я в четвертом классе. Значит, я кончу гимназию в восемнадцать лет и поступлю в университет. К тому времени, когда мы должны встретиться с Зинаидой, я уже кончу университет. И все будет совсем по-другому. Но как все ужасно долго! И скучно же здесь, прямо смерть. Нет, я прекрасно понимаю, почему я не мог заниматься и почему я не кончил гимназию. Как же мне выдержать такую скуку? Нужно все время смотреть вперед, все время думать о будущем. Буду думать о том, как мы поедем в Крым с Зинаидой. Мы будем одни. Как это будет удивительно хорошо! Вечером в вагоне мы будем сидеть рядом и смотреть, как бегут поля, потом начнутся степи, меловые горы, опять степи. А, может быть, я познакомлюсь с ней раньше. Конечно, я должен увидать ее теперь же. Ведь она здесь, в Москве. Она не узнает, но я время от времени буду видеть ее и ждать того момента, когда наши дороги встретятся. Я чувствую, что люблю ее и буду любить всегда. Но как она могла согласиться выйти замуж за Минского? Это моя вина. Она, наверно, думала, что я не приезжаю потому, что у меня есть кто-нибудь другой. Теперь все будет иначе.
К Осокину подходит приятель Соколов. Он моложе и классом ниже. Но почему-то только с ним одним Осокин может разговаривать.
– О чем мечтаешь, Осокин?
– Соколов, ты знаешь, что ты будешь адвокатом, – говорит ему Осокин.
– Ну, вот еще глупости, я пойду в Институт путей сообщения.
– Ничего подобного, ты пойдешь в юридический. А вот кем я буду, отгадай.
– Если будешь себя вести так же, как сегодня, – бить Роберта по физиономии подушкой и получать по колу в день, – то, наверно, станешь хитровцем, или каким-нибудь стрелочником устрою.
– Посмотрим, – отвечает Осокин.
– Да тут и смотреть нечего. Ясно как день, что гимназии ты не кончишь.
– Почему ты так уверенно говоришь?
– Да потому, что ты совсем не занимаешься, а только хулиганишь.
– Скучно очень, – вздыхает Осокин. – Но все-таки я решил заниматься. Ни за что на свете на второй год не останусь.
Соколов смеется.
– Который раз я это слышу? Вот уже два месяца ты собираешься начать заниматься. А ну, скажи, что задано по-гречески?
– Зубрила, – говорит, смеясь, Осокин. – А ты знаешь, что у тебя будет рыжая борода?
– Ну, вот еще, ври больше. Откуда у меня появится рыжая борода, у меня волосы совсем черные.
– Да, рыжая борода, и ты будешь адвокатом, я это во сне видел.
– Пойдем вниз, – предлагает Соколов. Они оба уходят.
Через несколько дней. Вечерняя репетиция в гимназии. Ряды парт. За открытой дверью – репетиция младших. Горят лампы. Гимназисты готовят уроки. Осокин составил себе программу занятий и повторяет латинскую грамматику. Прочитав страницу, он закрывает книгу и, смотря перед собой, повторяет:
– Cupio, desidero, opto, volo, appeto… Черт, что значит appeto?
Он смотрит в книгу.
– Ах да… Ну, так вот – volo, nolo, appeto, posco, postulo, impetro, adipiscor, imperior, prestolor… prestolor – опять забыл!
Он смотрит в книгу, потом зевает и отводит взгляд в сторону.
– Дьявольски скучно. Да, теперь я понимаю, почему тогда я не мог учиться. Выдумают такую глупость – зубрить голую грамматику. А ведь ту же латынь можно было бы сделать очень интересной. Идиоты! И сейчас мне это еще в десять раз скучнее, потому что я больше понимаю, как это глупо. Да, можно сказать, попал я в переделку. Но, тем не менее, это нужно преодолеть. Какое свинство, что теперь я три недели без отпуска! Как бы было интересно посмотреть Москву! Вот о чем я совсем не подумал, какие здесь тоска и скука. Я, кажется, ничего не могу делать. И что хуже всего, тогда была совершенно такая же тоска и такая же скука.
На репетиции младших, где сидит воспитатель, слышится шум, встают. Репетиция кончилась. К Осокину подходят два его товарища – Телехов и поляк Браховский.
– Приготовил уроки? – спрашивает, смеясь, Браховский.
– Приготовил.
– Врешь. Сейчас на тебя полчаса смотрел. Не понимаю даже, что ты делаешь. Ну, читал бы что-нибудь, понимаю. А то смотрит в книгу, урока не учит, это видно, страниц не поворачивает, уткнулся в одну точку и сидит.
Осокин с недоумением смотрит на Браховского, и в уме у него поднимается целый вихрь новых мыслей. Что дальше говорит Браховский, он уже не слышит.
– Я помню совершенно ясно, – вспоминает он, – как мы стояли здесь же и так же, и Браховский говорил то же самое, что не может понять, как я сижу и, ничего не видя, смотрю в книгу. Как легко, значит, попадать в старые «зарубки». Нет, все должно пойти по-другому.
– Боже мой! – восклицает он про себя. – Мне кажется, что и это уже было, я всегда собирался начать все по-другому!
Еще через несколько дней. Ночь. Спальня в гимназии. Осокин лежит на жесткой кровати под красным одеялом. Слабый свет приспущенной лампы из другого отделения.
– Я ничего не понимаю, – думает Осокин. – Сейчас мне все кажется сном – и то, и это. И я хотел бы проснуться и от того, и от другого. Я хотел бы очутиться где-нибудь на юге, чтобы было море, и солнце, и свобода. И чтобы ни о чем не думать, ничего не ждать, ничего не вспоминать. Но вот что странно: волшебник сказал, что я буду помнить все, пока не захочу забыть. А я уже сейчас хочу забыть… И мне кажется, что за эти дни я уже много забыл. Я не могу, мне слишком тяжело думать о Зинаиде. Может быть, и она сон? Но ведь я же был там, в будущем, а то, что происходит сегодня, было прошлым. Сегодня – наоборот: мое прошлое то, что было тогда. И больше всего меня удивляет, что я воспринимаю это спокойно и даже не особенно удивляюсь, точно так и должно быть. Может быть, мы все необыкновенное воспринимаем так. Сколько не удивляйся, ничего не переменится. И мы начинаем делать вид, что это совсем не кажется нам удивительным. Когда умерла бабушка, я думал – какая удивительная, необыкновенная вещь – смерть. Но разве мы понимаем, что такое смерть? Я помню, тогда на похоронах думал, что если бы вдруг все люди исчезли и остался только один человек, то один день ему это казалось бы страшным и удивительным, а на другой день он уже думал бы, что, вероятно, так и должно быть… Как страшно очутиться опять в гимназии! Я помню эти дыхания, точно маятники в часовом магазине. Помню, что и тогда я часто не спал по ночам и так же слушал. Что все это значит? Как бы я хотел понять, что это значит!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?