Текст книги "Стихи про меня"
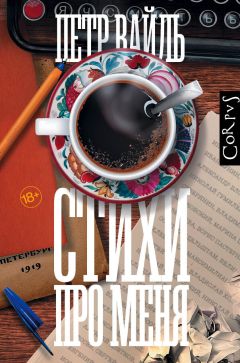
Автор книги: Петр Вайль
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Нестрашные стихи
Велимир Хлебников 1885-1922
«Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова…»
Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова
Явились вы, как лебедь в озере.
Я не ожидал от вас иного
И не сумел прочесть письмо зари.
А помните? Туземною богиней
Смотрели вы умно и горячо,
И косы падали вечерней голубиней
На ваше смуглое плечо.
Ведь это вы скрывались в ниве
Играть русалкою на гуслях кос.
Ведь это вы, чтоб сделаться красивей,
Блестели медом – радость ос.
Их бусы золотые
Одели ожерельем
Лицо, глаза и волос.
Укусов запятые
Учили препинанью голос,
Не зная ссор с весельем.
Здесь Божия мать, ступая по колосьям,
Шагала по нивам ночным.
Здесь думою медленной рос я
И становился иным.
Здесь не было “да”,
Но не будет и “но”.
Что было – забыли, что будет – не знаем.
Здесь Божия матерь мыла рядно,
И голубь садится на темя за чаем.
1916,1922
С поэзией Хлебникова мне очень повезло. Задолго до того, как впервые прочел, много слышал: “Сложность, заумь, поэт для поэтов”. Но вначале попалась проза. Раньше всего – “Ряв о железных дорогах”, страничка такого же свойства, как те, которые в изобилии приносили и присылали в редакцию газеты “Советская молодежь”. Через годы в Нью-Йорке, в газете “Новое русское слово”, редакционная почта мало отличалась от рижской. В “Молодежке” я отбился от множества ученых и изобретателей, одних только вечных двигателей было три. В Штатах выдержал полугодовую осаду открывателя непотопляемости. Везде требовали связать с Центром (с прописной): в одном случае с Политбюро, в другом – с Белым домом. “Ряв” Хлебникова – о том, что железные дороги разумны только тогда, когда идут вдоль моря или реки. В доказательство приводятся Италия и Америка. “Североамериканский железнодорожный “крюк” заключается в том, что чугунный путь переплетается с руслами Великих рек этой страны и вьется рядом с ними, причем близость обоих путей так велика, что величавый чугунный дед всегда может подать руку водяному, и поезд и пароход на больших протяжениях не теряют друг друга из вида”. На карту Хлебников когда-нибудь смотрел?
Как писал о нем Мандельштам, “какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”. Почти так же высказался Ходасевич: “Хлебникова… кто-то прозвал гениальным кретином, ибо черты гениальности в нем действительно были, хотя кретинических было больше”. Из хлебниковских математических формул всемирной истории, с судьбоносным значением интервалов в 413, 951 и 1383 года, выходило, что к и октября 1962 года советская власть должна распространиться на весь мир. Я огляделся – не получалось. Следующая, запасная, дата – 2007-й. Вряд ли.
Понятно, что после “Рява” и пророчеств подступаться к стихам Хлебникова стало еще страшнее. Но повезло: первым из его стихотворений прочел это, “Строгую боярыню”, внятную, легкую, звонкую, живописную, с особой, сразу запоминающейся проникновенной простотой последних пяти строк – и навсегда перестал бояться стихов.
Фантомная боль
Максимилиан Волошин 1877-1932
Мир
С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного суда!
23 ноября 1917. Коктебель
Редкостная поэтическая публицистика. То есть ее полно, конечно, и у демократов-разночинцев XIX века, и видимо-невидимо после той даты, которая проставлена под стихотворением “Мир”. Но у Волошина достоинства поэзии перед задачами публицистики не отступают (как отступает перед ними качество прозы у Бунина в “Окаянных днях”).
Позже нечто подобное по напору, свирепости, прямой художественной доходчивости писал Георгий Иванов: “Россия тридцать лет живет в тюрьме, ⁄ На Соловках или на Колыме. ⁄ И лишь на Колыме и Соловках ⁄ Россия та, что будет жить в веках. ⁄ Все остальное – планетарный ад, ⁄ Проклятый Кремль, злосчастный Сталинград – ⁄ Заслуживает только одного: ⁄ Огня, испепелящего его”.
Но Иванов писал много позже, много дальше – в 40-е во Франции. Но как осмелился на такие проклятия такой своей стране Волошин, эстет-галломан, акварельный пейзажист, сочинитель мифической поэтессы Черубины де Габриак, слегка теоретический и снобистски практический буддист, антропософ и платоник, пугавший коктебельских жителей венком на рыжих кудрях и тогой на восьмипудовом теле? Поразительна вот эта самая дата под стихами: сумел рассмотреть, не увлекся, как положено поэту, не закружился в вихре, как Блок. (У Волошина Россия не разделяет германцев и монголов, как в “Скифах”, а объединяет их в общей борьбе против России.)
Раньше мне больше нравились другие волошинские стихи о революции – написанные с позиции “над схваткой”, как в его “Гражданской войне”: “А я стою один меж них ⁄ В ревущем пламени и дыме ⁄ И всеми силами своими I Молюсь за тех и за других”. Это начало 20-х, Крым уже прошел через террор Белы Куна и Розалии Землячки, жуткий даже по меркам тех лет. Власть в киммерийском краю Волошина менялась постоянно: “Были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под татарским правительством, и под караимским”. В коктебельском Доме поэта спасались и от белых, и от красных. (Как странно видеть под одним из самых жутких и безнадежных русских стихотворений название места, ставшего привилегированной идиллией для будущих коллег Волошина, которые если и молились вообще, то только за себя.)
Волошин в самом деле был “над схваткой” и писал другу: “Мои стихи одинаково нравятся и большевикам, и добровольцам. Моя первая книга “Демоны глухонемые” вышла в январе 1919 г., в Харькове, и была немедленно распространена большевистским Центрагом. А второе ее издание готовится издавать добровольческий Осваг”.
Бела Кун, правда, собирался Волошина расстрелять, но того защищало покровительство Каменева и Луначарского, а еще надежнее – тога, венок и прочие атрибуты существа не от мира сего, местной достопримечательности, городского сумасшедшего.
Годы войны Волошина изменили. Редкий случай: сделали наглядно мудрее. Но подлинная безжалостная пристальность поэтического взгляда, не подчиненная ни возрасту, ни стереотипам, – все-таки там, тогда, в ноябре 17-го, когда он внезапно и сразу все понял и сказал.
Взгляд в упор – вернее и точнее, как часто бывает с первым впечатлением о человеке. Над схваткой – не получается.
Безусловная честность и простодушное бесстрашие Волошина, прошедшего через Гражданскую войну, позволяли ему молиться за тех и за других. Позиция чрезвычайно привлекательная, но человеку обычному, лишенному качеств истинного подвижника, – недоступная. Еще важнее то, что она имеет отношение к самой фигуре подвижника, а не к окружающим обстоятельствам. “Все правы”, как и “все неправы”, “все виноваты”, как и “все невиновны”, – неправда.
Это осознать и понять очень нужно.
Нет истины в спасительной формуле “чума на оба ваши дома” – какой-то из домов всегда заслуживает больше чумы. Виноватых поровну – не бывает.
Попытка понять и простить всех – дело праведное, но не правдивое. Собственно, и самому Волошину такое полное равновесие не удалось: при всей аполитичности в жизни, при отважных хлопотах “за тех и за других” его стихи о терроре – все-таки стихи о красном терроре.
Невозможен такой нейтралитет и для его потомков. Каким “Расёмоном” ни представала бы сложная политическая или общественная коллизия, как бы правомерны и объяснимы ни были разные точки зрения, расёмоновский источник зла существует, вполне определенный, с именем и судьбой. Можно попробовать отстраниться, но тога на нас не сидит, и венок не держится на голове.
Волошин, к революции зрелый сорокалетний человек, поднимал тему искупления и покаяния. Эпиграфом к своему “Северовостоку” он взял слова св. Лу, архиепископа Турского, с которыми тот обратился к Аттиле: “Да будет благословен приход твой – Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя”.
Сам Волошин мог с основаниями писать: “И наш великий покаянный дар, ⁄ Оплавивший Толстых и Достоевских ⁄ И Иоанна Грозного…”: он хронологически и этически был близок к этим Толстым и Достоевским. Но именно такими, как у Волошина, отсылками к великим моральным авторитетам создан миф, с наглой несправедливостью существующий и пропагандирующийся поныне: мол, мы, русские, грешим и каемся, грешим и каемся. И вроде всё – индульгенция подписана, вон даже Грозный попал в приличную компанию.
С какой-то дивной легкостью забывается, что современные русские не каются никогда ни в чем.
Мы говорим и пишем на том же языке, что Толстой и Достоевский, но в самосознании так же далеки от них, как сегодняшний афинянин от Сократа или нынешняя египтянка от Клеопатры.
Просит прощения за инквизицию и попустительство в уничтожении евреев Католическая церковь. Штаты оправдываются за прошлое перед индейцами и неграми. Подлинный смысл политкорректности – в покаянии за века унижения меньшинств. Германия и Япония делают, по сути, идею покаяния одной из основ национального самосознания – и, как результат, основ экономического процветания.
Когда речь идет о невинных жертвах, подсчет неуместен: там убили столько-то миллионов, а там всего лишь столько-то тысяч. Но все же стоит сказать, что российский рекорд в уничтожении собственных граждан не превзойден.
Тем не менее в современной России никто никогда ни в чем не покаялся. При этом – считая своими Пьера Безухова и Родиона Раскольникова и прячась за них: знаете, мы, русские, такие – грешим и каемся, грешим и каемся. Все-таки те – они – совсем другие. То есть, конечно, мы – совсем другие.
Есть в медицине такое понятие – фантомная боль. Человеку отрезали ногу, а ему еще долго кажется, что болит коленка, которой давно нет. Нравственность Толстого, Достоевского, Волошина – наша фантомная боль.
По дороге из деревни
Сергей Есенин 1895-1925
Монолог Хлопуши. Из поэмы “Пугачев”
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умёт,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
[1921]
С каким восторгом такое читается, слушается, произносится в молодости! Откуда я знал, что эти красочные пятна прихотливой формы называются “имажинизм”, какое мне было до этого дело. Да и Есенину, в сущности, дела не было. В 1919 году он, Рюрик Ивнев, Вадим Шершеневич и Анатолий Мариенгоф объединились в группу имажинистов, собирались в кафе “Домино” на Тверской, потом в “Стойле Пегаса” у Никитских ворот, вели стиховедческие беседы, соревновались в подыскивании корневых рифм. Как резонно пишет Мариенгоф, “формальная школа для Есенина была необходима… При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает”.
Но еще до провозглашения своих имажинистских предпочтений Есенин так и писал. Четверостишие 15-летнего поэта: “Там, где капустные грядки ⁄ Красной водой поливает восход, ⁄ Клененочек маленький матке ⁄ Зеленое вымя сосет”. И вымя есть в монологе Хлопуши, цвет не указан, а во второй части – и то же действие, что у клена: “Кандалы я сосал голубыми руками… ”
Когда увлеченный самоцельностью образа поэт пользуется словарем не первого порядка, несуразица неизбежна, а в поисках своеобразия непременно появляются излюбленные слова. Если они броские, а имажинист – стихийный или рафинированный – к тому и стремится, лексические любимцы становятся назойливы и конфузны. Впрочем, как говорили во времена моей юности на танцплощадке, каждый понимает в меру своей испорченности. Утешаешься тем, что испорчен не ты один. Все-таки сейчас вряд ли кто рискнет на голубом глазу написать: “И всыпают нам в толстые задницы ⁄ Окровавленный веник зари”.
С есенинской живописностью мало кто сравнится в русской поэзии. В прозе был в то же время его ровесник Бабель, чья яркость восходит к французской художественной традиции, в противовес русской оттеночности, приглушенности (первые в жизни рассказы Бабель написал по-французски, позже провозглашал: “Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?”).
Есенинские истоки – русские книжные. Известно, что еще в школе он прочел “Слово о полку Игореве”, внимательно изучал поэзию Кольцова, Сурикова, Никитина, позже увлекся “Поэтическими воззрениями славян на природу” Афанасьева. Есенин, как Чапаев, языков не знал и не хотел знать: “Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски”. Это письмо из поездки по Соединенным Штатам с Айседорой Дункан, где, обнаружив, что его никто не знает, пил в отелях и бил по головам фоторепортеров, не сочинив за четыре месяца ни одного американского стихотворения. Европа тоже осталась без поэзии.
Кусиков рассказывал, как в 23-м году неделю уговаривал Есенина съездить из Парижа в Версаль. Тот нехотя согласился, приехали, но: “Тут Есенин заявил, что проголодался… сели завтракать, Есенин стал пить, злиться, злиться и пить… до ночи… а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль; наутро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертке… так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть”.
Видеть не желал, а знать – знал и так. В драматической поэме “Страна негодяев”, произведении справедливо забытом, но самом большом у Есенина, в полтора раза длиннее “Пугачева” и вдвое – “Анны Снегиной”, об Америке говорится подробно. Там на фоне заблудшего коммуниста Чекистова (он же Лейбман) и сочувствующего Замарашкина выделяется настоящий большевик Никандр Рассветов, который побывал в Штатах и рассказывает: “От еврея и до китайца, ⁄ Проходимец и джентельмен, ⁄ Все в единой графе считаются ⁄ Одинаково – business теп… ⁄ Если хочешь здесь душу выржать, ⁄ То сочтут: или глуп, или пьян. ⁄ Вот она – мировая биржа! ⁄ Вот они – подлецы всех стран”. Обида на невозможность “выржать” душу – неизбывна у российского человека по сей день, что в Новом Свете, что в Старом.
Мариенгофу из Остенде: “Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни… Свиные тупые морды европейцев”.
Сахарову из Дюссельдорфа в том же 1922 году: “Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, переведенные мои и Толькины, но на кой все это, когда их никто не читает? Сейчас у меня на столе английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж”.
С чего бы такая спесь? У меня на столе изданный в Москве сборник 1920 года “Плавильня слов”, авторы – Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. Издание неописуемого убожества, на толстой оберточной бумаге, объем – 40 страниц. Тираж – 1500 экземпляров, то есть на родине всего лишь втрое больше, а ведь это с участием суперзвезды, Есенина.
Ему не нравилось решительно все, что было хоть сколько-нибудь незнакомо. О знакомом же лучше никто не сказал: “Радуясь, свирепствуя и мучась, ⁄ Хорошо живется на Руси”. Каковы деепричастия!
Русскость в нем жила природная, естественная, но крестьянином он себя назначил по литературной профессии. Мариенгоф в “Романе без вранья” сообщает: “Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только – после настойчивых писем, жалоб и уговоров… За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски”. При этом: “Мужика в себе он любил и нес гордо”. Противоречия тут нет. До семнадцати лет жил в деревне, хватит, потом в большом городе, Москве. И вообще, писатель и человек – люди разные.
Есенин настаивал на себе-самородке и, видимо, был прав. Хотя его культурность нельзя недооценивать – ту быстроту реакции, с которой он впитывал все, что считал полезным: достижения Клюева, Городецкого, Маяковского, более образованных друзей-имажинистов. Результат, достигнутый по дороге из деревни, – ошеломляющий. Ни до, ни после ничего более натурального в русских стихах не найти.
Простота его обманчива. Это родовое свойство простоты, но подражатели не устают ловиться на старую наживку. Время от времени кто-нибудь назначается новым Есениным: Павел Васильев, Рубцов, Высоцкий, не говоря о мелочи. Высоцкий – разумеется, по кабацкой линии и, главное, по драйву. Мне рассказывал приятель-пианист, как они, музыкальная молодежь, привели Высоцкого к Рихтеру, перед которым он благоговел. Поговорили, потом Высоцкий ударил по струнам, запел, захрипел, побагровел, на шее вздулись жилы. Рихтер все несколько песен просидел не шелохнувшись на краешке стула, не отрывая глаз от певца. Высоцкий быстро ушел, молодежь кинулась в восторге: “Ну, Святослав Теофилович? Мы же видели, вы так слушали!” Рихтер облегченно вздохнул: “Господи, как я боялся, что он умрет”.
Зря, что ли, Высоцкий играл Хлопушу в любимовском спектакле на Таганке? Вот в чем основная привлекательность Есенина – непрерывное ощущение внутренней силы, даже в поздних меланхолических стихах. А в таких вещах, как монолог Хлопуши, – бешеный напор, заставляющий усматривать в авторе разрушительные и саморазрушительные силы. Мы вместе с ним на краю.
Бог знает, страшно догадываться, но, может, он ходил не только по своему, но и по чужому краю? По крайней мере заглядывал туда, подходил близко? Знаменитый стих “Не расстреливал несчастных по темницам” – и современниками (Мандельштам говорил: “Можно простить Есенину что угодно за эту строчку”), и потомками расценивается как горделивое свидетельство непричастности. Но ведь тут скорее заклинание: странно и дико гордиться тем, что ты не убийца, не палач – если и помыслы чисты, если не было позывов или обстоятельств, в силу которых все-таки подходил близко, стоял рядом, очень-очень рядом, не делал, но мог. Ходасевич в очерке “Есенин” откровенно намекает на это. (Пушкин, со ссылкой на Дмитриева, сообщает, что Державин при подавлении Пугачевского бунта повесил двух мятежников “более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости”.)
Что до саморазрушения, о Есенине-самоубийце знали даже те, кто ни строчки его не прочел. В открывшемся в 1928 году Литературном музее при Всероссийском союзе писателей экспонировалась веревка, на которой он повесился: культ так культ. После его смерти прошла маленькая эпидемия, вызванная гибельным соблазном, о чем писал Маяковский в стихотворении на смерть поэта: “Над собою чуть не взвод расправу учинил”.
Соблазн этот мне никогда не был внятен, при всей преданной юной любви к Есенину, с годами перешедшей в спокойное восхищение. Естественные для юноши мысли о самоубийстве клубились, но по-настоящему не посещали – так, легкие романтические мечты. Позже я понял почему. На самой последней грани остановит мысль: сейчас погорячишься – потом пожалеешь.
Про смерть поэта
Осип Мандельштам 1891-1938
«Кому зима – арак и пунш голубоглазый…»
Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.
Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, —
И спичка серная меня б согреть могла.
Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.
Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.
Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу,
Кому – крутая соль торжественных обид.
О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.
1922
Две строчки сколько бы ни читал – сердце сжимается: “Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, – / И спичка серная меня б согреть могла”. Прочел стихотворение довольно поздно, а строки знал давно, вроде даже всегда. Острое чувство жалости, вызванное знанием дальнейшей судьбы поэта. Такое – с последними днями Пушкина: как больно было ему. Как больно и унизительно было Мандельштаму в пересыльном лагере на Второй речке под Владивостоком. Как страшно и холодно. Со школьных лет в голове засело – субтропики, Сихотэ-Алиньский заповедник, тигры: почти Индия. Я был там поздней осенью с желтой травой и мокрым суглинком, во Владивостоке и вокруг, в Партизанске и прочих лагерных местах: Сибирь и Сибирь, что и значится на карте – тем более в декабре, когда умирал Мандельштам. Хотя бы физическая география – вне идеологии. В отличие от географии политической: то, что теперь Партизанск, всегда называлось – Сучан.
В статье о Франсуа Вийоне Мандельштам прозрачно пишет о себе: “Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений”. Рядом с ним был “кто-то”: изредка – друзья и почитатели, иногда – Ахматова, почти всегда – жена. В сучанские холода он остался один, некому оказалось поднести серную спичку, предсказанную за шестнадцать лет до того. Мандельштам ощутимо предчувствовал смерть: когда писал о чужой, имел в виду свою.
Вдова вспоминает, как “говорила ему: “Что ты себя сам хоронишь?”, а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит”. Это было в воронежской ссылке, когда уже стало по-настоящему опасно. Когда сочинялись строки: “У чужих людей мне плохо спится, ⁄ И своя-то жизнь мне не близка”. Когда, сходя с ума, в периоды жестокого прояснения Мандельштам говорил жене, “что уничтожают у нас людей в основном правильно – по чутью, за то, что они не совсем обезумели… ”.
Поэтов надо читать не выборочно, а подряд, целиком. Настоящий поэт творит не штуку, а процесс – это уж потом, все узнав, можно выбирать поштучно, на вкус, время и место. Последовательно считываются стихи, проза, письма. В январе 37-го Мандельштам пишет из Воронежа Тынянову: “Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень… ” В апреле Чуковскому: “Я – тень. Меня нет. У меня есть только одно право – умереть… ” Три месяца всего прошло – и плоть осознала себя тенью, до окончательного перехода оставалось двадцать месяцев.
Когда читаешь подряд, неясностей не остается или почти не остается. Непонятность, в которой упрекали Мандельштама (а также Пастернака, Маяковского, Цветаеву, Заболоцкого, Бродского и т. д. и т. д.), – от выхватывания из целого, из контекста. Контекст – жизнь поэта, который догадывается: “Быть может, прежде губ уже родился шепот… ” Мандельштам был обычный великий пророк – профессия, которая всегда сопровождается толкованиями.
Каким зреньем он был вооружен в марте 37-го, когда писал: “Миллионы убитых задешево ⁄ Протоптали тропу в пустоте”?
Тогдашнее “небо крупных оптовых смертей” – иное, чем то, которое прорицатель увидел раньше: “О небо, небо, ты мне будешь сниться! ⁄ Не может быть, чтоб ты совсем ослепло ⁄ И день сгорел, как белая страница: ⁄ Немного дыма и немного пепла!” Это о чем? О сожженной рукописи или о ядерном взрыве? А ведь написано в 1911-м, до Первой мировой, даже до “Титаника”, который первым просигналил о том, что по разуму и логике устроить жизнь и мир не получится. Всегда доступно только это – “Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, ⁄ И шарить в пустоте, и терпеливо ждать”. Мандельштамовская непонятность с гадалкой и петухом оборачивается такой ясностью, что перехватывает горло. Что есть поэтическая невнятица? “Для меня в бублике ценна дырка… Бублик можно слопать, а дырка останется… Настоящий труд – это брюссельское кружево, в нем главное – то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы”.
Среди воронежских стихов есть шуточный: “Это какая улица? ⁄ Улица Мандельштама. ⁄ Что за фамилия чертова – ⁄ Как ее ни вывертывай, ⁄ Криво звучит, а не прямо. ⁄ Мало в нем было линейного, ⁄ Нрава он был не лилейного, ⁄ И потому эта улица ⁄ Или, верней, эта яма ⁄ Так и зовется по имени ⁄ Этого Мандельштама… ” В примечаниях объясняется, что улица, на которой Мандельштамы поселились в Воронеже, называлась 2-я Линейная, что дом стоял в низине. Комментарии точны, но мы-то знаем, о чем это: мандельштамовская яма – на Второй речке под Владивостоком, неизвестно где, но он о ней написал за три года до того, как его туда бросили.
… Включаю телевизор, где благообразная литературная женщина рассказывает о русском кладбище под Парижем: “Дорогие могилы, великие имена, как страшно, что они тут, что над ними не березки, а кипарисы”. Текст привычный, на разные лады слышанный не раз. На экране – чистые дорожки, подстриженная трава, цветы, надгробья: от скромных, как у Георгия Иванова, до солидных, как у Галича. Голос дрожит, слеза набухает. Искренность – вне сомнений: “Как страшно… ”
Один вопрос, один всего: “Мандельштам умер на родине, где его могила?” Без долгого перечня и ботанических подробностей – один вопрос и одно имя человека, который написал за четырнадцать лет до смерти: “Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает… Да ничего он не заслуживает… ”
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































