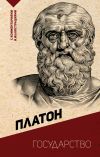Автор книги: Платон
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– А ты как думаешь? – спросил он <…>
– Людям, не страдающим болезнью, любезный Полемарх, врач ведь не полезен.
– Правда.
– А не плавающим не полезен кормчий.
– Да.
– Стало быть, тем, кто не воюет, не нужен и справедливый?
– Нет, этого я не думаю.
– Значит, справедливость полезна и во время мира?
– Полезна <…>
– А справедливость во время мира для какой нужды или приобретения почитаешь ты полезной?
– Для сделок, Сократ.
– Сделками ты называешь сношения или что другое?
– Разумеется, сношения.
– Но с кем лучше и полезнее сноситься, когда хочешь сыграть в шашки? С человеком справедливым или с игроком?
– С игроком.
– А при кладке плит и камней, неужели лучше и полезнее обратиться к человеку справедливому, чем к домостроителю?
– Отнюдь нет.
– В каких же сношениях справедливый будет, например, лучше цитриста, как цитрист бывает лучше справедливого в игре на цитре?
Человек, играющий на цитре. А цитра – это струнный щипковый музыкальный инструмент с плоским деревянным корпусом неправильной формы, поверх которого натянуто от 17 до 45 струн (в зависимости от размера инструмента).
– Мне кажется, в денежных.
– Может быть, кроме употребления денег, Полемарх, потому что, когда надобно за деньги сообща купить или продать лошадь, полезнее, думаю, снестись с конюхом. Не так ли?
– Видимо.
– А когда корабль – с кораблестроителем или кормчим.
– Естественно.
– В каком же случае для употребления золота или серебра сообща полезнее других человек справедливый?
– В том, Сократ, когда бывает нужно вверить деньги и сберечь их.
– То есть когда надобно не употребить, а положить их, говоришь ты?
– Конечно.
– Значит, справедливость в отношении к деньгам тогда бывает полезна, когда деньги бесполезны?
– Должно быть.
– Подобным образом, для хранения садового резца в общественном и домашнем быту полезна справедливость, а для употребления его нужно искусство садовника?
– Очевидно.
– И чтобы сохранить щит и лиру без употребления, скажешь, полезна справедливость, а когда нужно употребить их, требуются искусства оружейное и музыкальное?
– Необходимо.
– Так и во всем другом – справедливость при полезности бесполезна, а при бесполезности полезна?
– Должно быть.
– Не слишком же важное у тебя дело справедливость, друг мой, если она полезна для бесполезного. Рассмотрим-ка следующее. Не правда ли, что человек в сражении, в кулачном бою или в каком-нибудь другом случае, умеющий ударить, умеет и поберечься?
– Конечно.
– И умеющий сохранить себя от болезни, не подвергаясь ей, умеет и сообщать ее?
– Я думаю.
– А воинский лагерь тот ли лучше оберегает, кто способен также проникнуть в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?
– Конечно.
– Значит, кто – отличный чего-нибудь сторож, тот и отличный вор той же вещи.
– Естественно.
– Итак, если человек справедливый умеет сохранять деньги, то умеет и похищать их.
– Ход речи действительно требует такого заключения.
– Следовательно, справедливый человек оказывается каким-то вором <…> Так что выходит, что справедливость – есть искусство воровать в пользу друзьям и во вред врагам. Не так ли ты говорил?
– О нет, клянусь Зевсом, я и сам не знаю, что говорил. Впрочем, мне все еще представляется, что справедливость велит приносить пользу друзьям и вредить врагам.
– Но друзьями тех ли ты называешь, которые всякому только кажутся добросердечными, или тех, которые в самом деле добросердечны, хотя бы и не казались ими? Такой же вопрос и о врагах.
– Естественно любить тех, – отвечал он, – которых почитают добросердечными, и ненавидеть тех, которых признают лукавыми.
– А не обманываются ли люди в этом отношении? То есть не кажутся ли им добросердечными многие недобросердечные, и наоборот?
– Обманываются.
– Значит, для таких людей добрые – враги, а злые – друзья.
– Конечно.
– И в этом случае справедливость все-таки требует, чтобы они приносили пользу злым и вредили добрым?
– Явно.
– Между тем добрые-то справедливы и несправедливыми быть не могут.
– Правда.
– Так, по твоим словам, справедливо делать зло и не делающим несправедливости.
– О нет, Сократ, – отвечал он, – такая мысль преступна.
– Стало быть, справедливо вредить несправедливым и приносить пользу справедливым, – сказал я.
– Поступающий так, кажется, лучше.
– Но так-то, Полемарх, многим ошибающимся в людях случится признавать за справедливое – вредить друзьям, потому что они кажутся им злыми, и приносить пользу врагам, потому что они, по их мнению, добры. А тогда ведь мы будем утверждать противное тому, что приписали Симониду.
– Да, такое часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.
Друзьями для Полемарха, как и вообще у древних греков, считались вовсе не родственные души. Друг – это хороший, то есть полезный человек.
– А как определили, Полемарх?
– Сказали, что друг – это тот, кто кажется добросердечным.
– Каким же образом поправиться?
– Друг и кажется добросердечным и действительно таков, – отвечал он. – А кто только кажется добросердечным, в самом же деле не таков. Тот, хоть и кажется, а не друг. Подобное же определение и врага.
– Из твоих слов видно, что друг будет добр, а враг – зол.
– Да.
– А как, по-твоему, прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло – врагу, если он человек негодный?
– Без сомнения, это, мне кажется, хорошо сказано.
– Однако ж к человеку справедливому идет ли наносить вред кому бы то ни было из людей? – спросил я.
Древние греки считали, что приносить пользу человеку – это делать его лучше, а вредить человеку – делать его хуже.
– Уж конечно, – сказал он, – людям лукавым и враждебным надобно вредить.
– А что, лошади, когда им вредят, лучше ли становятся или хуже?
– Хуже.
– По качествам собак или лошадей?
– По качествам лошадей.
– Стало быть, и собаки, когда им вредят, становятся хуже по качествам не лошадей, а собак?
В представлении древних греков каждая вещь или существо имели свою природную функцию, которая была развита в наибольшей степени по сравнению с другими: например, у лошади – это скорость бега, у собаки – способность поймать зверя. Это есть «совершенство» вещи или существа, благодаря которому они хорошо функционируют именно как эта вещь или существо. Греки считали, что, если наносить вред любому существу, то оно становится хуже как раз в отношении присущего ему совершенства.
– Конечно.
– Ну, а когда вредят людям, друг мой, не скажем ли мы также, что они становятся хуже по качествам человеческим?
– Конечно скажем.
– Но справедливость – не человеческая ли добродетель?
– И это безусловно.
– Значит, люди, когда им вредят, по необходимости становятся несправедливее, друг мой.
– Вероятно.
– Но могут ли музыканты посредством музыки образовать не-музыкантов?
– Невозможно.
– Или конюшие посредством науки коннозаводства – не-конюших?
– Нельзя.
– А справедливые посредством справедливости – несправедливых? Или вообще, добрые посредством добродетели – злых?
– Это невозможно <…>
– И вредить – свойство не хорошего человека, а наоборот.
– Очевидно.
– А справедливый – это хороший человек?
– Конечно.
– Следовательно, Полемарх, не дело справедливого человека вредить – ни другу, ни кому-либо иному. Это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
– Ты, Сократ, говоришь совершенную правду.
– Поэтому, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное – справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить.
– Согласен с этим <…>
– Прекрасно. Но раз выяснилось, что справедливость состоит не в этом, то какое же другое определение можно было бы предложить?
Среди нашего разговора Тразимах неоднократно порывался прервать речь, но все был удерживаем другими, тут же сидевшими, которым хотелось выслушать беседу до конца. Когда же мы остановились, и я предложил этот вопрос, он уже не удержался и подбежал к нам, как будто с тем, чтоб изорвать нас. Я и Полемарх испугались, а он, крича на средине комнаты, сказал:
– Какая болтовня давно уже обуяла вас, Сократ! Какими глупостями меняетесь вы, уступая друг другу! Если уж в самом деле ты хочешь узнать, что такое справедливость, то не ограничивайся одними вопросами и не любуйся опровержением предлагаемых тебе ответов. Ведь известно, что спрашивать легче, нежели отвечать. Так отвечай сам и скажи, что ты почитаешь справедливым. Да не говори мне, что это должное, что это полезное, что это выгодное, что это прибыточное, что это пригодное. Все, что говоришь, говори ясно и точно, а таких пустяков не принимаю.
Тразимах принадлежал к числу людей, ничего не знающих и почитающих себя всезнающими. Это был самый ветреный и пустой софист.
Пораженный этими словами, я посмотрел на него со страхом и подумал: что если бы он взглянул на меня прежде, чем я на него? Мне и слова бы не вымолвить. Но так как неистовство Тразимаха началось речью, то мой взгляд на него был первый, а потому, имея возможность отвечать, я с трепетом сказал:
– Не гневайся на нас, Тразимах. Если я и он при исследовании предмета в чем-нибудь погрешили, то будь уверен – погрешили против воли. Подумай, что, ища золота, мы охотно не уступили бы друг другу в искании и не мешали бы самим себе найти его: таким же образом, ища справедливости, которая драгоценнее всякого золота, могли ли мы столь безумно уступать один другому и не стараться открыть ее всеми силами? Нет, не мысли этого, друг мой. Напротив, я думаю, что мы не в состоянии, и потому от вас, людей сильных, заслуживаем больше сожаления, чем гнева.
Выслушав это, он усмехнулся слишком принужденно и заявил:
– Вот она и есть, клянусь Гераклом, обыкновенная Сократова ирония. Я уж и здесь всем заранее говорил, что ты не пожелаешь отвечать, прикинешься простачком и станешь делать все что угодно, только бы увернуться от ответа, если кто тебя спросит.
– Разумеется, ты – мудрец, Тразимах, – сказал я, – тогда ты знаешь, что если кого спросишь, как велико число двенадцать, и, спрашивая, наперед скажешь: «Только не говори мне, братец, что двенадцать равны дважды-шести, или трижды-четырем, или шестью-двум, или четырежды-трем, иначе твоей болтовни я не приму, то уже для тебя, думаю, понятно, что никто не будет в состоянии отвечать на такой вопрос. А когда бы спросили тебя: что ты это говоришь, Тразимах? Как же не сказать ничего того, что ты наперед сказал? Да если это-то справедливо, неужели надобно говорить отличное от справедливого? Или как тебе кажется?» Что отвечал бы ты на это?
– Хватит, – сказал Тразимах, – ты опять за прежнее.
– А почему бы нет? – сказал я. – Прежнее или не прежнее, но так может подумать тот, кому ты задал свой вопрос. А считаешь ли ты, что человек станет отвечать не то, что представляется ему самому, все равно, существует ли запрет или его нет?
– Не намерен ли и ты так же делать? – спросил он. – Не хочешь ли и ты говорить то, что я запретил?
– Неудивительно, – отвечал я, – если к этому приведет меня исследование.
– А что, когда я укажу на другой ответ о справедливости, – сказал он, – который отличен от всех тех и лучше их? Какое тогда изволишь избрать себе наказание?
– Какое больше, – отвечал я, – кроме того, которому должен подвергнуться человек незнающий? Вероятно, надобно будет поучиться у знающего. На такое наказание я охотно соглашусь.
– Сладко ты поешь, – сказал он, – но за то, что будешь учиться, заплати деньги.
– Пожалуй, если бы они были, – сказал я.
– Есть, есть! – вскричал Главкон. – Как скоро нужны деньги, Тразимах, говори, мы все здесь внесем за Сократа.
– Чтобы Сократ был верен своему обычаю, то есть сам не отвечал, а подхватывал ответы другого и опровергал их <…>
Видно было, что Тразимаху и самому сильно хотелось говорить <…>
– Слушай, – сказал он, – справедливым я называю полезное сильнейшему. Ну, что же не хвалишь? Видно не хочешь?
Это известное учение софистов, что якобы нет ничего справедливого по природе, но что все справедливо или несправедливо по закону и соглашению.
– Наперед надобно понять, что ты говоришь, – сказал я, – теперь пока еще не понимаю. Справедливое, говоришь, есть полезное сильнейшему: но что же это такое, Тразимах? Не разуметь ли тебя следующим образом? Если наш Полидамас – самый сильный боец, и для его тела полезно бычье мясо, то и нам, которые слабее его, полезна и вместе справедлива та же самая пища.
Полидамас был из фессалийского города Скотиуссы и прославился как сильный боец. В Персии, при царе Охе, он убивал львов и, вооружившись, сражался нагой. О нем упоминал Плутарх и многие другие.
– Ты крайне бесстыден, Сократ, принимаешь слово в таком смысле, в каком только можно уронить его.
– Совсем нет, – отвечал я, – но вырази свою мысль яснее.
– Да разве ты не знаешь, – сказал он, – что одни из государств управляются тиранами, другие – народом, а иные – вельможами?
– Как не знать?
– И не тот ли сильнее в каждом государстве, кто управляет?
– Конечно.
– Но всякая власть дает законы, сообразные с ее пользой: народная – народные, тиранская – тиранские, то же и прочие. Дав же законы, полезные для себя, она объявляет их справедливыми для подданных и нарушителя этих законов наказывает как беззаконника и противника правде. Так вот я и говорю, любезнейший, что во всех государствах справедливое – одно и то же: это – польза установленной власти. Но власть господствует, стало быть, кто правильно мыслит, тот и заключит, что справедливое везде одно – именно польза сильнейшего.
– Теперь понимаю, что ты говоришь, – сказал я. – Остается поучиться, истинны ли эти слова, или нет. Ведь и твой ответ – таков, Тразимах, что полезное справедливо: мне-то ты запрещал отвечать подобным образом, а между тем сам прибавил только «для сильнейшего».
– Конечно прибавка маловажная.
– Да и неизвестно еще, важна ли она. Известно лишь то, что надобно исследовать, правду ли ты говоришь. И я тоже согласен, что справедливое есть нечто полезное: но ты прибавил и утверждаешь, что полезное для сильнейшего, а я не знаю этого. Стало быть, надобно исследовать.
– Исследуй, – сказал он.
– Так и будет, – продолжал я. – Скажи-ка мне: почитаешь ли ты действительно справедливым повиноваться правительству?
– Да.
– А правители во всех государствах непогрешимы, или могут и погрешить?
– Без сомнения, могут и погрешить, – отвечал он.
– Следовательно, приступая к постановлению законов, одни из них предписывают правое, другие неправое?
– Я думаю.
– Предписывать же правое значит ли предписывать полезное самому себе, а неправое – неполезное? Как ты полагаешь?
– Я полагаю так.
– Но что предписано, то подчиненные должны исполнять, и это есть дело правое?
– Какое же иначе?
– Стало быть, по твоим словам, справедливо будет исполнять не только полезное сильнейшему, но и противное тому – неполезное.
– Что ты говоришь?
– Кажется, то же, что и ты. Рассмотрим получше: не согласились ли мы, что правители, давая предписание подчиненным, иногда погрешают против того, что в отношении к ним самим есть наилучшее, и между тем для подчиненных исполнять предписания правителей есть дело правое? Не согласились ли мы в этом?
– Я думаю, – отвечал он.
– Так рассуди, – сказал я, – ты согласился, что справедливо будет исполнять неполезное для сильнейших и правителей, когда они неумышленно предписывают зло самим себе, и в то же время справедливо будет, говоришь, исполнять то, что они предписали. В таком случае, мудрейший Тразимах, не придем ли мы к необходимости признавать справедливым исполнение противного тому, что ты говоришь? Тут ведь подчиненным предписывается исполнять неполезное для сильнейшего.
– Да, это, Сократ, очень ясно, клянусь Зевсом, – сказал Полемарх.
– Особенно, если засвидетельствуешь ты, – подхватил Клитофон.
– А к чему тут свидетельство? Ведь сам Тразимах сознается, что правители иногда предписывают злое для самих себя, и что исполнять это – со стороны подчиненных есть дело правое.
– Конечно, по мнению Тразимаха, исполнять повеления, даваемые правителями, есть дело правое, Полемарх.
– И пользу сильнейшего счел он также делом правым, Клитофон. Допустив же то и другое, он тотчас согласился, что сильнейшие иногда предписывают низшим и подчиненным исполнять дела, несообразные с своею пользою. А при согласии на это, польза сильнейшего становится уже делом не более правым, как и непольза.
– Но пользою сильнейшего, – заметил Клитофон, – названо то, что сам сильнейший признает для себя полезным. Это-то надобно исполнять низшему, и это-то Тразимах почитает справедливым.
– Однако же он говорил не так, – отвечал Полемарх.
– Не все ли равно, Полемарх, – сказал я. – Если Тразимах теперь говорит уже так, то так и будем понимать его. Скажи-ка мне, Тразимах, то ли хотел ты назвать справедливым, что сильнейшему представляется полезным для сильнейшего, было ли бы это в самом деле полезно или не полезно? Так ли мы должны понимать тебя?
– Вовсе не так. Неужели ты думаешь, что сильнейшим я называю погрешающего, когда он погрешает?
– Да, мне думалось, что это твоя мысль, – сказал я, – как скоро правителей признал ты не непогрешимыми, а подверженными ошибкам.
– Какой ты лжетолкователь в разговорах, Сократ! Врачом ли, например, назовешь ты человека, погрешающего касательно больных, – именно в отношении к тому, в чем он погрешает? Логиком ли – человека, погрешающего в умозаключении, именно тогда, когда он подвергается этому самому роду погрешностей? Я думаю, что мы так только говорим, будто погрешил врач, погрешил логик, грамматик: в самом же деле ни один из них и никогда не погрешает, будучи тем, чем мы кого называем. Говоря собственно, или с свойственною тебе самому точностью, из мастеров никто не грешит; потому что погрешающий погрешает от недостатка знания в том, в чем он – не мастер: то есть ни мастер, ни мудрец, ни какой правитель не погрешает тогда, когда он – правитель; хотя всякий говорит, что врач погрешил, правитель погрешил. Так-то понимай ты и мой теперешний ответ. Настоящий смысл его таков: правитель, раз он правитель, не погрешает. Не погрешая же, он предписывает наилучшее самому себе, и подчиненный должен исполнять это. Одним словом, как и прежде было сказано, справедливым я называю того, кто делает полезное сильнейшему.
– Пускай, Тразимах, – сказал я, – так ты почитаешь меня лжетолкователем?
– Без сомнения, – отвечал он.
– Видно, думаешь, что вопросы, которые я предлагал тебе, предлагал с умыслом хитрить в разговоре?
– Это мне совершенно известно, – сказал он, – только ведь ничего не выиграешь, потому что, сколько ни хитри ты, замысел твой не спрячется, сколько ни укрывайся – не пересилишь меня в речи.
– Да и не намерен, почтеннейший, – сказал я. – Но чтобы опять не случилось с нами того же, определи, как будешь ты разуметь правителя и человека сильнейшего, выполнение пользы коего низший должен почитать делом справедливым: так ли, как о нем обыкновенно говорят, или в смысле точном, как ты сейчас сказал?
– Я буду разуметь правителя в смысле точном, – отвечал он. – Хитри теперь и клевещи, сколько можешь, умаливать не стану. Да только не успеть тебе.
– Неужели, думаешь, я до того безумен, – продолжал я, – что решусь стричь льва – клеветать на Тразимаха?
Решится стричь льва – это выражение, применимое к тем, кто решается брать на себя какое-нибудь невозможное дело. Пословицу употребляли также и римляне.
– Ты было и решался, – сказал он, – да куда тебе!
– Но довольно об этом, – промолвил я. – Скажи-ка мне: врач в смысле точном, о котором ты сейчас говорил, есть ли собиратель денег, или попечитель о больных? Да говори о враче истинном.
– Попечитель о больных, – отвечал он.
– А кормчий? Истинно кормчий есть ли правитель корабельщиков, или корабельщик?
– Правитель корабельщиков.
– Ведь не то, думаю, надобно брать в расчет, что он плавает на корабле и что, следовательно, должен называться корабельщиком. Потому что кормчий называется не по плаванию, а по искусству и по управлению корабельщиками.
– Правда, – сказал он.
– Но для каждого искусства есть ли что-нибудь полезное?
– Конечно есть.
– И искусства, – спросил я, – не к тому ли естественно направляются, чтобы отыскивать полезное для всякого и производить это?
– К тому, – отвечал он.
– А для каждого искусства есть ли нечто полезное вне его, в чем оно имеет нужду? Или каждое из них достаточно само для себя, чтобы сделаться совершеннейшим?
– Как это?
– Например, пусть бы ты спросил меня, сказал я: довольно ли телу быть телом, или оно в чем-нибудь нуждается? Я отвечал бы, что непременно нуждается. Для того-то врачебное искусство ныне и изобретено, что тело худо и что таким быть ему не следует. Стало быть, это искусство приготовлено для доставления пользы телу. Говоря так, правильно ли, кажется тебе, сказал бы я, или нет?
– Правильно, – отвечал он.
– Что же теперь? Самое это врачебное искусство – худо ли оно? Равным образом и всякое другое – нуждается ли в каком-нибудь совершенстве, как, например, глаза – в зрении, уши – в слышании? И потому для искусств требуется ли еще искусство, которое следило бы за их пользою и производило ее? В самом искусстве есть ли какой-нибудь недостаток, и каждое из них имеет ли нужду в ином искусстве, которое наблюдало бы его пользу? А это наблюдающее не чувствует ли надобности опять в подобном, и так до бесконечности? Или оно само заботится о своей пользе? Или для усмотрения пользы относительно худого своего состояния не нуждается ни в самом себе, ни в другом, так как ни одному искусству не присуще ни зло, ни заблуждение, и искусство не обязано искать пользы чему-нибудь иному, кроме того, для чего оно – искусство. Само же, как правое, оно – без вреда и укоризны, пока всякое из них сохраняет именно ту целость, какую должно иметь? Смотри-ка, в принятом тобой точном смысле так ли это, или иначе?
– Кажется, так, – сказал он.
– Значит, искусство врачебное, – спросил я, – старается доставить пользу не врачебному искусству, а телу?
– Да, – отвечал он.
– И конюшенное – не конюшенному, а коням, и всякое другое – не само себе, так как ни в чем не нуждается, а тому, в отношении к чему оно есть искусство?
– Видимо, так, – сказал он.
– Но искусства-то, Тразимах, над тем, для чего они – искусства, конечно начальствуют и имеют силу.
Тразимах согласился, хоть и с трудом.
– Стало быть, и всякое также знание имеет в виду и представляет пользу не сильнейшего, а низшего и подчиненного себе.
В конце концов, Тразимах согласился и с этим, хотя и пытался сопротивляться, и, когда он согласился, я сказал:
– Так, не правда ли, что всякий врач, как врач, предписывает пользу, имея в виду не врача, а больного? Ведь мы согласились, что врач в смысле точном есть правитель тел, а не собиратель денег. Не согласились ли мы?
Тразимах подтвердил это.
– Не правда ли также, что и кормчий в смысле точном есть правитель корабельщиков, а не корабельщик?
– Правда.
– Следовательно, такой-то кормчий и правитель будет предписывать пользу, имея в виду не кормчего, а корабельщика и подчиненного.
Тразимах кивнул.
– Поэтому, Тразимах, – сказал я, – и всякий другой, в каком бы то ни было роде управления, как правитель, предписывает полезное, имея в виду не себя самого, а подчиненного и того, в отношении к кому он есть деятель. На него он и смотрит, для его пользы и пригодности он и говорит все, что говорит, и делает все, что делает.
Когда наш разговор дошел до этого, и для всех было явно, что речь о справедливости обратилась в свою противоположность, и тогда Тразимах, вместо того чтобы отвечать, спросил меня:
– Скажи мне, Сократ, есть ли у тебя нянька?
– К чему это? – возразил я. – Не лучше ли было бы тебе отвечать, чем предлагать такой вопрос?
– Да к тому, – сказал он, – что она не обращает внимания на нечистоту твоего носа и не утирает тебя, когда нужно. Ты у нее даже не отличаешь овец от пастуха.
– Как же это именно? – спросил я.
– Так, что ты думаешь, будто овчары, или волопасы, заботятся о благе овец либо быков, кормят их и ходят за ними, имея в виду что-нибудь другое, а не благо господ и свое собственное. И будто не те же мысли в отношении к подчиненным у самих правителей обществ, управляющих ими по-надлежащему, какие – в отношении к овцам у пастухов: иное ли что-нибудь занимает их день и ночь, кроме того, как бы отсюда извлечь свою пользу? Ты слишком далек от понятия о справедливом и справедливости, о несправедливом и несправедливости. Ты не знаешь, что справедливость и справедливое на самом деле есть благо чужое, то есть польза человека сильнейшего и правителя, а собственно для повинующегося и служащего это – вред. Людьми, особенно глупыми и справедливыми, управляет-то, напротив, несправедливость; подчиненные сами устрояют пользу правителя, как сильнейшего, и служа ему, делают его счастливым, а себя – нисколько. Смотреть надобно на то, величайший простак Сократ, что человек справедливый везде выигрывает менее, нежели несправедливый: и во-первых, в сношениях частных, когда тот и другой вступают в какое-нибудь общее дело, – нигде не найдешь, чтобы конец этого дела приносил более пользы справедливому, чем несправедливому, а всегда менее. Во-вторых, в отношениях общественных, если бывают какие-нибудь денежные сборы, то из равных частей справедливый вносит больше, несправедливый меньше, а когда надобно получать, – первому не достается ничего, а последнему много. Да пусть даже тот и другой – лица правительственные: у справедливого, даже если ему не придется понести какого-нибудь иного ущерба, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может уделять им достаточно внимания, из общественных же дел он не извлекает никакой пользы именно потому, что он человек справедливый. Мало того, он вызывает недовольство своих домашних и родственников за то, что, вопреки справедливости, не хочет ничего для них приготовить. А у человека несправедливого все это обстоит как раз наоборот. Говорю, что и недавно сказал: обладание властью дает большие преимущества. Так на то-то смотри, если хочешь судить, насколько всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым. Легче же всего узнаешь это, когда дойдешь до несправедливости совершеннейшей, которая обидчика делает самым счастливым, а обижаемых и нежелающих обижать – самыми несчастными. Такова тирания, которая не понемногу похищает чужое – тайно и насильственно, не понемногу овладевает достоянием храмов и государственной казны, имуществом домашним и общественным, но всецело. Обидчик, в частных видах преступлений, не укрывается, но подвергается наказанию и величайшему бесчестью. Совершатели этих злодеяний по частям называются и святотатцами, и поработителями людей, и подкапывателями стен, и обманщиками, и хищниками: напротив, кто не только похищает имущество граждан, но и самих содержит в узах рабства, тот, вместо этих постыдных имен, получает название счастливца – не только от граждан, но и от других, уверенных в совершенной его несправедливости, потому что порицатели несправедливости порицают ее не за то, что она делает неправду, а за то, что угрожает им собственными страданиями. Так-то, Сократ: несправедливость на известной степени – и могущественнее, и свободнее, и величественнее справедливости. Поэтому, как я вначале сказал, справедливость есть польза сильнейшего, а несправедливость – польза и выгода собственная.
Сказавши это и своею порывистою и обильною речью заливши наши уши, как банщик, Тразимах думал уйти, однако же бывшие тут не пустили его, но принудили остаться и сказанное подтвердить причинами. В этом именно я и сам имел великую нужду, а потому продолжал:
– О, божественный Тразимах! Поразив нас такою речью, ты намереваешься уйти и не хочешь достаточно научить, либо научиться, так ли оно в самом деле, или не так. Определение этого предмета неужели считаешь делом маловажным, а не правилом жизни, которым руководствуясь, каждый из нас мог бы прожить с наибольшею пользою?
– Но разве я понимаю это иначе? – промолвил Тразимах.
– Однако же о нас-то по крайней мере, – сказал я, – ты, кажется, нисколько не заботишься, и тебе нет дела, худо ли, хорошо ли мы живем, не зная того, что, по твоим словам, ты знаешь. Нет, добрый человек, постарайся показать это и нам. Не в худое место положишь ты свое добро, облагодетельствовав им нас, слушающих тебя в таком количестве. Что же касается меня, то я все-таки говорю тебе, что не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости, хотя бы даже оставили ее в покое и не мешали ей делать, что хочет. Да, добрый человек, пусть она несправедлива и в состоянии обижать либо тайно, либо насильственно: но меня-то не убедит, что с нею соединено больше выгоды, чем со справедливостью. Да может быть и еще кто-нибудь из нас то же чувствует, а не один я. Докажи же нам, почтеннейший, удовлетворительнее, что мы несправедливо думаем, предпочитая справедливость несправедливости.
– Но как же я докажу тебе? – спросил он. – Если не веришь сейчас сказанному, то что еще с тобою делать? Могу ли я свое слово, будто ношу, вложить в твою душу?
– Ах, ради Зевса, только не это! Прежде всего ты только настаивай на том, что утверждал сначала, а если изменишь свое мнение, то изменяй открыто и не обманывай нас. Возвратимся к прежнему предмету. Видишь ли, Тразимах, определив сперва значение настоящего врача, ты уже не думал о том, что впоследствии надобно также удержать значение и настоящего пастуха. Напротив, думаешь, что если он пастух, то пасет овец, имея в виду не их благо, а пированье, как какой-нибудь едок и человек, приготовляющий себе роскошный стол, либо, если смотреть на проценты, как собиратель денег, а не как пастух. Между тем пастушество-то не заботится ни о чем, кроме того, над чем оно поставлено, как бы, то есть, вверенных себе овец привести в наилучшее состояние. Ибо, что касается до него самого, то его состояние уже достаточно хорошо, пока оно не имеет нужды ни в чем, чтобы быть пастушеством. Потому-то и считал я недавно необходимым для нас делом согласиться, что никакое правительство, будет ли оно общественное или домашнее, как правительство, не должно иметь в виду ничего, кроме блага подчиненных и управляемых. Ты думаешь, что правители обществ, управляющие по-надлежащему, управляют добровольно?
– Ради Зевса, не думаю, – отвечал он, – а точно знаю.