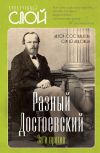Автор книги: Пол Контино
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Михаил может возвратить себе свое истинное я только через другого; он может стать «самим собою, только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого» [Бахтин 1986: 329]. Таким другим для Михаила является Зосима, человек, которого, как он думает, ему нужно убить. Когда он возвращается, чтобы совершить убийство, происходит нечто чудесное:
Вдруг, смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился.
– Где же вы были? – спрашиваю его.
– Я, – говорит, – я, кажется, что-то забыл… платок, кажется… Ну, хоть ничего не забыл, дайте присесть-то…
Сел на стул. Я стою над ним. «Сядьте, говорит, и вы». Я сел. Просидели минуты с две, смотрит на меня пристально и вдруг усмехнулся, запомнил я это, затем встал, крепко обнял меня и поцеловал…
– Попомни, – говорит, – как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь, попомни это! [Достоевский 1972–1990, 14: 281].
Михаил воспринимает Зосиму как объективирующего его инфернальным, сартровским «взглядом». Однако через мгновение его собственная оглядка на него с улыбкой радостно превращается в буберовский взгляд, сопровождающийся переходом на «ты», поскольку «впервые он обращается [к Зосиме], используя дружеское местоимение “ты”»143143
«В Я и Ты» Бубер использует образ созерцания для описания настоящего диалога и взаимности: «…Я и Ты со-стоят не только в отношении, но и находятся в нерушимой чистосердечной “ответности” друг перед другом. Здесь, и только здесь моменты отношения связывает стихия речи, в которую они погружены. Здесь предстоящее расцвело в полноту действительности Ты. Единственно в этой сфере наше созерцание и созерцание нас, наше познание и познание нас, наша любовь и любовь к нам даются как действительность, которую невозможно утратить» [Бубер 1995: 74]. Бахтин был знаком с творчеством Бубера. Краткое сравнение двух мыслителей проводится в [Perlina 1984].
[Закрыть].
Этот момент напоминает о том, что может произойти в любых отношениях человека с врачом или пастырем. Линч определяет взаимность как «взаимодействие между людьми <…>, из которого рождается нечто новое и свободное» [Lynch 1965: 169], и указывает на «критический момент» в отношениях врача и пациента, когда в результате большой работы больной начинает видеть в нем не врага, но своего союзника:
Прежде пациент чувствовал, что ему необходимо постоянно быть начеку, но теперь он погружается в новую плодотворную пассивность, которая действует почти без действия, поскольку теперь он чувствует, что его стремление не противоречит, но совпадает со стремлением другого [Lynch 1965: 170].
Сидя, Михаил расслабляется, уходит его вечно настороженный взгляд, направленный на другого. Он становится внимателен к Зосиме, видит его «таким, каков он есть, по всей истине» [Вейль 2017: 334].
Причиной испытанного Михаилом облегчения стало неизменное внимание Зосимы к нему. Зосима подает пример кенотизма в двух отношениях. Во-первых, он символически воплощает кенотический путь, когда добровольно переходит с позиции превосходства над другим на позицию равенства с ним: «Сел на стул. Я стою над ним. “Сядьте, говорит, и вы”. Я сел» [Достоевский 1972–1990, 14: 281]. Во-вторых, напоминая Христа в «Великом инквизиторе», он хранит спокойное, тактичное молчание в течение тех двух минут, когда на него «смотрит… пристально» Михаил [Достоевский 1972–1990, 14: 281]144144
Джордж Стейнер пишет о молчании Христа в присутствии Инквизитора и Его поцелуе следующее: «Отказ Христа участвовать в поединке вводит драматический мотив исключительного величия и такта» [Steiner 1985: 342]. Акцент Стейнера на тактичности по отношению к другому очевиден в его более поздней работе «Реальные присутствия». Другой, о котором он в ней пишет, – это произведение искусства, но аналогия, которую он использует для описания такого подхода к искусству, – это «наша встреча со свободой присутствия в другом человеческом существе или попытка общения с этой свободой, [которые] всегда влекут за собой сближение» [Steiner 1989: 175]: «Там, где между свободами существует cortesia**
Вежество, учтивость (ит.).
[Закрыть], сохраняется жизненно важная дистанция. Сохраняется определенная сдержанность. Понимание терпеливо завоевывается и всегда носит временный характер. Есть вопросы, которые мы не задаем нашему “собеседнику”…» [Steiner 1989: 176]. Зосима демонстрирует подобную учтивость.
[Закрыть].
За те две минуты, которые он проводит с Зосимой, Михаил таинственным образом обретает свое «чистое я» и собственный голос. Перед уходом он сам произносит проникновенное слово, прося Зосиму «попомнить» этот его второй приход. Зосима помнит; особенно ему памятны умиление и радость Михаила [Достоевский 1972–1990, 14: 282], и завершает он свой рассказ торжественной каденцией молитвенного поминовения: «А многострадального раба божия Михаила памятую в молитвах моих и до сего дня на каждый день» [Достоевский 1972–1990, 14: 283].
Однако как обстоит дело с рассудительностью, «умением видеть нравственный аспект жизненных ситуаций» [Turner 2013: 180]? Разве публичное признание Михаила не угрожает его безвинным жене и детям? По правде говоря, горожане не верят Михаилу и в его «болезни» [Достоевский 1972–1990, 14: 283] обвиняют Зосиму, который усматривает в этом «милость Божию». Но в полной ли мере они с Михаилом рассматривают другой вариант выхода? Святой Фома Аквинский отмечает, что «рассудительность нуждается в предосторожности, чтобы благодаря ей мы могли так схватывать благо, что при этом избегали бы зла» [Фома Аквинский 2002–2015, II–II–II: 52] Кэрил Эмерсон задается вопросом, не порождает ли «рай» Михаила, даже после исповеди, «ад» для других [Emerson 2004: 169]. Михаил умирает радостно, но, спрашивает она, «что на самом деле выиграл от этого реальный мир любящих людей? Воистину, единственное, что в этом было хорошего, – правда» [Emerson 2004: 162].
Между тем «правда» в этом романе оказывается крайне важна. Рассудительность нельзя отделить от истины. При всей настороженности к возможным последствиям, благоразумное принятие решений не может быть сведено к просчитыванию этих последствий. И возможные результаты также нельзя ограничивать теми, которые мы предвидим в «малом времени» [Emerson 2004: 172]. В конечном счете Эмерсон считает историю о Михаиле «необходимой» для опровержения Достоевским взглядов Великого инквизитора и защищает решение Михаила, используя «теологически осмысленную» концепцию «большого времени» Бахтина145145
Как подчеркивает Кэрил Эмерсон, Грэм Печи удачно охарактеризовал раннее творчество Бахтина как «поэтику с богословским уклоном». См. [Pechey 2007: 153].
[Закрыть]. Чувство «большого времени» открывает «некий более полный смысл будущего», без которого «было бы очень трудно любить» [Emerson 2004: 171]. Если рассудительность настояна на благодатных дарах надежды и милосердия, то она должна в равной мере учитывать и конкретику «малого времени» здесь и сейчас, и эсхатологическую перспективу «большого времени». Святой Фома подчеркивает неотъемлемую связь любви (caritas) с применением благодатного дара рассудительности:
…посредством человеческих действий можно обрести нравственные добродетели в том случае, когда эти действия производят добрые дела, направленные к достижению не превосходящий естественные способности человека цели, и тогда приобретенные таким образом добродетели могут существовать без любви, как это можно видеть на примере многих язычников. В той же части, в какой производимые этими действиями добрые дела направлены к достижению сверхъестественной конечной цели, они связаны с добродетелями истинными и совершенными, которые не могут быть приобретены посредством человеческих действий, но только всеяны в нас Богом. И такие нравственные добродетели не могут существовать без любви. В самом деле, <…> нравственные добродетели не могут существовать без рассудительности, а рассудительность [в свою очередь] не может существовать без нравственных добродетелей, поскольку последние правильно определяют человека к тем целям, которые служат отправной точкой для действия рассудительности [Фома Аквинский 2002–2015, II–I: 190–191].
В отличие от лишенной любви мистификации инквизитора, решение Михаила, принятое под руководством Зосимы, отражает подлинную тайну. «Едва ли можно сказать, как именно на практике милосердие формирует рассудительность, ибо милосердие, участвуя в жизни Триединого Бога, по сути своей является даром, который не подвластен ни воле, ни разуму человека» [Pieper 1966: 37] (курсив мой. – П. К.). В драме Михаила и Зосимы читатель видит это коллективное «формирование рассудительности милосердием», представленное Достоевским в «иносказательной, художественной форме».
Реальность такого благодатного «формирования» истинна для Михаила, поскольку он признается Зосиме: «Но Господь мой поборол диавола в моем сердце. Знай, однако, что никогда ты не был ближе от смерти» [Достоевский 1972–1990, 14: 283]. «Высший реализм» Достоевского признает горизонтальное и вертикальное измерения реальности. Вертикальные и горизонтальные линии пересекаются, образуя крест – образ, центральный для инкарнационного реализма. Благодать нисходит в те безмолвные две минуты, когда два человека сидят вместе. Проникновенное слово – само оно вдохновлено «свыше» – произносит тот, кто желает другим добра, кто желает, чтобы другой обрел собственный голос. Как поясняет в своем комментарии Линч, аналогичным образом можно интерпретировать и благодать:
Самая лучшая и самая человеческая составляющая человека – это способность желать, говорить «я желаю»; одно из самых великолепных качеств внешнего мира, будь то вещи, Бог, учитель, родитель или врач, – это способность оказывать помощь таким образом, чтобы создать в других внутреннюю способность желать по-настоящему. Таким образом, благодать следует понимать как акт, посредством которого абсолютно внешняя и свободная реальность сообщается с абсолютно внутренним и свободным существованием. Богословие благодати говорит в основном об абсолютном действии и желании Бога; оно, как и все мы, должно больше говорить о другом абсолюте, с которым оно так глубоко связано, – об абсолютном действии и желании человека [Lynch 1965: 157]146146
Соглашаясь с главной мыслью Линча, я хотел бы внести уточнение по поводу выражения «абсолютное желание человека». Учитывая реальность человеческой греховности, определение «абсолютный» кажется здесь избыточным.
[Закрыть].
Благодаря совместному влиянию Зосимы и Божьей благодати Михаил делает публичное признание и совершает то, чего по-настоящему хотел. Однако подлинная свобода, которую он демонстрирует, коренным образом отличается от той извращенной свободы, которую он утвердил бы, убив Зосиму. Дело в том, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский изображает два вида свободы, ненастоящую и настоящую. Ненастоящая свобода выражается в извращенном волеизъявлении, то есть в надрыве, бесконечной зависимости от «взгляда» другого, даже тогда, когда все делается назло ему.
Ненастоящая свобода презирает взаимность, отношения и благодать. Позже, в книге шестой, Зосима представляет себе окончательный, инфернальный образ этого дьявольского состояния:
О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил Себя Бог и всё создание Свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти… [Достоевский 1972–1990, 14: 293] (курсив мой. – П. К.).
Вспомним «ад в груди и в голове» [Достоевский 1972–1990, 14: 239], который Алеша наблюдает в сердце и голове Ивана, когда его брат заявляет: «Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и неправ» [Достоевский 1972–1990, 14: 223]. Гордые души в аду знают, что они неправы: они проклинают Бога, «несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой» [Достоевский 1972–1990, 14: 293]147147
Идея Харта заключается в том, что бесспорное знание потребовало бы выбрать Бога [Hart 2019].
[Закрыть]. В своем извращенном утверждении свободы они желают вопреки источнику своего существования и тем самым – самим себе. Они отвергают реальность, лазейку божественного прощения, и сами обрекают себя на уничтожающие их страдания. «Врата ада заперты изнутри» людьми, которые «обрели свою страшную свободу и стали рабами, узниками» [Льюис 2005: 190]. Но в видении Зосимы – и в видении романа в целом – голос любящего Бога взывает даже к обитателям ада.
Для Достоевского подлинная свобода находит свое выражение во Христе. Христос уважает свободу личности и призывает ее к воплощению своего потенциала в решительных действиях. Подлинные и свободные личности причастны к тринитарному кенозису: они признают собственную недостаточность и то, что в совершении решительного действия им обязательно помогают другие, со своей же стороны они признают, что сами призваны помогать другим в решении их задач.
Бог просит от человека <…> усилий, пусть даже небольших, направленных на то, чтобы отрешиться от своей личной самодостаточности, противостоять ее побуждениям и хотеть жить любя и будучи любимым. <…> Новый этос, открытый Христом, – это <…> акт самоуничижения всякого элемента личной автономии и самодостаточности и жизнь в любви и согласии [Yannaras 1984: 53]148148
Этот фрагмент также цитируется Кэрил Эмерсон [Emerson 1988: 523].
[Закрыть].
Михаил избавляется от самодостаточности, внимательно вглядываясь в образ кенотичного Зосимы, который сам склонился перед слугой, выбросил пистолет на дуэли, а теперь молча сидит с другом. Благодаря такому освобождению от самодостаточности Михаил восстанавливает собственное я и может исполнить свое желание, открыто, публично возложив на себя ответственность за совершенный им поступок. Признавшись горожанам, Михаил освобождается от самодостаточности еще больше. Ему никто не верит, но он не обращает внимания на это и принимает «милость Божию», дарованную его семье [Достоевский 1972–1990, 14: 283]. Как он сообщает Зосиме, он «долг исполнил» [Достоевский 1972–1990, 14: 283]. Тем самым он кладет конец своему аду «страшного уединения» [Достоевский 1972–1990, 14: 276], как он по праву называет это состояние в своих апокалиптических рассуждениях, отражающих его собственную историю. Переход в другое измерение открывает ему возможность почувствовать «радость <…> и мир» [Достоевский 1972–1990, 14: 283].
История Михаила указывает на основополагающую роль, которую в инкарнационном реализме играет добродетель смирения. Путем кенозиса человек избавляется от самодостаточности, чтобы открыться для помощи другого; или же он освобождается от сосредоточенности на себе или стремления к власти, чтобы помочь другому. Обе формы кенозиса требуют избавления от гордыни – и смирения. Поэтому в предыдущей главе и говорилось о принятии «и/и». С одной стороны, человек адекватно воспринимает свои возможности; с другой стороны, он понимает, что не может жить в суверенном царстве «авось». В конечном счете, как и Михаил, он должен просто действовать – неидеально, реально, смиренно. Исповедь учит Михаила смирению и претворяет в жизнь тот христологический переход, о котором говорится в эпиграфе: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
Зосима как старецДействия Зосимы как старца отражают смиренные усилия, требуемые «деятельной любовью». Такая любовь «трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок» [Достоевский 1972–1990, 14: 290]. Она предполагает не «скорый поступок», но готовность проявлять долготерпение [Достоевский 1972–1990, 14: 285]. Она проявляется в упорном, прилежном труде: «В тишине воспитайте его [народ]» [Достоевский 1972–1990, 14: 285] – и побуждает людей: «Делай неустанно. Если вспомнишь в нощи, отходя ко сну: “Я не исполнил, что надо было”, то немедленно восстань и исполни» [Достоевский 1972–1990, 14: 291]. Деятельная любовь характеризуется настойчивостью и медленным формированием привычки, а не «скорым поступком» [Достоевский 1972–1990, 14: 285]. Отнюдь не поддерживая романтический индивидуализм, старец подчеркивает инкарнационную, тринитарную реальность жизни человека в обществе других и его ответственность, которая из этой реальности вытекает. Предчувствуя приближение смерти, Зосима демонстрирует свою зависимость от церковных таинств. Он «возжелал исповедаться и причаститься», а затем соборовался [Достоевский 1972–1990, 14: 148]149149
Отец Сергий Гаккель утверждает, что Зосима не приобщается Святых Тайн и «умирает “непричащен и непомазан”, что служит еще одним проявлением его обособленности от священных структур и предписаний его церкви» [Hackel 1983: 150]. То, как Гаккель описывает Зосиму, скорее применимо к отцу Ферапонту, который «в церковь подолгу не являлся» и не соблюдал «правило, общее для всех» и «общий устав» [Достоевский 1972–1990, 14: 288].
[Закрыть]. Часто повторяемая Зосимой фраза, которую он услышал от своего брата Маркела, утверждает реальность общественных связей: «…всякий пред всеми за всех виноват» [Достоевский 1972–1990, 14: 270].
Но отражает ли утверждение Зосимы истинное положение дел? Быть виноватым за «всех» и «вся»? Охватывая «все», не затмевает ли его максима реальные, ограниченные обязательства перед конкретными мужчинами и женщинами? На самом деле Зосима не проповедует мечтательную, туманную «любовь к человечеству»150150
На самом деле выражение «любовь к человечеству» имеет двоякий смысл. Второй относится к Христу Алеши и Ивана, восходя к «просветленной любви к человечеству», о которой говорил Исаак Сирин [Alfeyev 2008: 73].
[Закрыть], за которую выступает легко раздражающийся светский либерал Миусов. Выражение максимы иными словами у Зосимы подчеркивает и особенное, и общее: «…каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле» [Достоевский 1972–1990, 14: 149]. Здесь акцент делается и на «каждом» из мужчин и женщин, с которыми «каждый» из нас сталкивается в повседневной жизни, и на тех, кого мы не знаем, но с кем мы солидарны151151
В состоявшемся несколько лет назад разговоре Кэрил Эмерсон отметила, что в русском оригинале совершенно отчетливо делается упор на каждом из нас. При этом она подчеркнула, что в русском значение слова «виновен» ближе к «guilty» («виноватый», «виновный»), чем к «responsible» («несущий ответственность»). Однако «guilt» (вина) затрудняет понимание фразы: каким образом мы можем быть guilty (виноватыми) за все? Ее анализ представляется полезным: «Как мне не дано знать, какие действия вызвали меня, так мне не дано знать, к чему могут привести мои действия», и далее: «…наш свет мог бы воссиять и не воссиял, и кто теперь может определить эффект этой упущенной выгоды?» [Emerson 2004: 172]. Понять эту максиму помогает и комментарий Роуэна Уильямса:
Взять на себя ответственность – значит действовать и говорить так, чтобы возможности других прояснялись, а не контролировались. А это может произойти только в том случае, когда осуществляется воображаемое проникновение в сущность другого: я становлюсь ответственным, когда действительно могу «ответить» за то, что не является мной, когда я могу озвучить потребности или надежды другого, не сводя их к моим собственным [Williams 2008: 171].
[Закрыть]. Бог спасает людей и каждого в отдельности, и вместе152152
Через весь «Католицизм» Де Любака проходит тезис: «Католицизм по сути своей социален <…> в самом глубоком смысле этого слова, <…> прежде всего по существу своего мистицизма, своего вероучения. <…> молитва – это, по сути, молитва всех и за всех» [De Lubac 1988: 15–16].
[Закрыть].
Часто – и более точно – при переводе на английский оригинальных слов Зосимы используется слово guilty, а не responsible. Здесь уместно вспомнить о различии, которое Мартин Бубер делает между ответственной, экзистенциальной «виной» и невротическим «чувством вины»153153
См. [Buber 1989], где в качестве примера рассматривается Достоевский. См. также широкое обсуждение и полезный обзор различий между здоровой и нездоровой виной в [Katchadourian 2010], а также анализ «экзистенциальной вины» как необходимой коррекции психоаналитического акцента на невротическом чувстве вины в [Friedman1988: 218].
[Закрыть]. Экзистенциальная вина подразумевает ответственность за то, что я сделал и не сделал, и побуждает к принятию мер по исправлению положения, пусть даже небольшими шагами. Как писал живший в VI веке монах авва Дорофей из Газы, «главная причина всякого смущения, если мы основательно исследуем, есть то, что мы не укоряем самих себя154154
См. [Norris 1993: 174].
[Закрыть]» [Дорофей 2010: 122]. Напротив, чувство вины – это самобичевание, обращенное внутрь себя. Оно проявляется в бездействии, стыде, отрицании, а зачастую и в бурном, неистовом надрыве155155
Я впервые услышал о различии между «настоящей виной» и «чувством вины» осенью 1976 года на практических занятиях у Эдварда Вейсбанда. Относительно недавно Вейсбанд опубликовал впечатляющий анализ того, как чувства вины и стыда ведут к общему надрыву, проявляющемуся в отвратительном «карнавальном» [Weisband 2018: 15] насилии:
Объектами насилия при перформативных трансгрессиях являются жертвы; однако подобные действия также направлены на самих преступников, превращая их в самоистязателей. <…> Для психодинамики реификации характерно приписывание личностям других вещественности на основе замкнутых категорий, но при этом отношение к себе как к «вещи», по сути, ведет к «овеществлению» своей свободы. Это вызывает стремление желать нежелаемого. То, как развиваются психические структуры и экономика, как стыд и тревога переплетаются в человеческой личности, указывает на врожденное противоборство тревоги и садизма, вины и стыда [Weisband 2018: 183].
Вейсбанд анализирует ряд режимов прошлого столетия, практиковавших геноцид: нацистский, сталинский, маоистский, турецкий, камбоджийский, руандийский и боснийский. Его анализ можно распространить на Великого инквизитора – пророческое изображение Достоевским тиранического надрыва, аутодафе и массового насилия. Его также можно связать с язвительной критикой С. С. Аверинцевым бахтинского прославления карнавала: «“За смехом никогда не таится насилие” – как странно, что Бахтин сделал это категорическое утверждение! Вся история буквально вопиет против него; примеров противоположного так много, что нет сил выбирать наиболее яркие» [Аверинцев 1992: 13]. В анализе Вейсбанда приводится множество подобных примеров.
[Закрыть].
В более позднем варианте афоризма Зосимы поднимается другая проблема:
Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быти. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление стоящего пред ним, может, прежде всех и виноват [Достоевский 1972–1990, 14: 291].
Не упраздняет ли это наставление реальную ответственность преступника? Опять же, нет: Зосима признает необходимость суда, но только после того, как тот, кто судит, возьмет на себя личную ответственность за зло, совершенное им самим: «Когда же постигнет сие, то возможет стать и судиею» [Достоевский 1972–1990, 14: 291]. Прежде всего, Зосима отвергает гордыню самооправдания, когда человек перекладывает «свою же лень и свое бессилие на людей» [Достоевский 1972–1990, 14: 290]. Оправдывая себя, «кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщешь» [Достоевский 1972–1990, 14: 290]. В целом роман призывает читателей соединить «за всех» Зосимы с утверждением Алеши об искупительной жертве Христа «за все» [Достоевский 1972–1990, 14: 224]. Деятельная любовь, ответственность за все, становится возможной по милости Божией [Достоевский 1972–1990, 14: 54].
В своем приятии обычного времени Зосима отвергает любой короткий путь к бесконечному. Не соблазняя своих слушателей идеей ухватиться за вневременное, он напоминает им, что для личных изменений обязательно требуется время. Так, «старое горе» Иова «переходит постепенно в тихую умиленную радость» [Достоевский 1972–1990, 14: 265] (курсив мой. – П. К.). Он утверждает «таинство настоящего момента»156156
Так называется классический труд французского иезуита XVIII века Жан-Пьера де Коссада.
[Закрыть], подчеркивая ценность отведения малого времени – «раз в неделю, в вечерний час» – на чтение Писания, «сначала лишь только хоть деток». Он признает совокупный потенциал таких малых усилий: «…прослышат отцы, и отцы приходить начнут» [Достоевский 1972–1990, 14: 266]. Зосима надеется, что наступит день, когда каждый человек «изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию» [Достоевский 1972–1990, 14: 288], однако такая надежда не заслоняет от него важность тех малых дел, которые можно сделать сейчас в качестве шага на пути к этой цели: каждый мог бы «хотя бы только иногда» смиренно поднести чай одному из своих слуг [Достоевский 1972–1990, 14: 288]. Он предостерегает от утопических мечтателей, которые хотели бы возвести «здание» социального равенства «лишь умом <…> без Христа», ибо, «отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью» [Достоевский 1972–1990, 14: 288]. XX век подтвердил провидческий характер слов Зосимы.
Мистицизм Зосимы – инкарнационный. Поводом для экстаза в буквальном смысле становится «сошествие на землю», когда человек повергается на землю, лобызает ее и поливает своими слезами: «Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным» [Достоевский 1972–1990, 14: 292]. Такие моменты – самый настоящий дар свыше, и случаются они редко. Как видно по мистическому видению Алеши о Кане, они наступают только «в свое время». Прежде чем заговорить об экстазе, Зосима советует монашеской братии проявлять благоразумие в определении своевременности действий: «Знай меру, знай сроки, научись сему» [Достоевский 1972–1990, 14: 292]157157
Мера и рассудительность неотделимы друг от друга: «Несомненно, для святого Фомы термин “мера” в равной степени относился и к зависимости желания и действия от веления рассудительности, и к тому, как реальность формирует знания. Он прямо сравнивает с точки зрения “меры” соотношение реальности и знания, а также соотношение практического разума и конкретного морального действия» [Pieper 1989: 164].
[Закрыть]. Утверждение мистического опыта у Зосимы всегда вписывается в контекст его всеобъемлющего акцента на обыденном и общинном. Из всех книг Нового Завета Зосима особенно превозносит Евангелие от Луки: «Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелию от Луки» [Достоевский 1972–1990, 14: 267]. Как никакое другое Евангелие, Евангелие от Луки подчеркивает адресованный христианам призыв ежедневно брать крест свой (Лк. 9:23). Кайрос**
Благоприятный момент (греч.)
[Закрыть] возникает при движении в хроносе158158
См. замечательный доклад Максвелла Парлина «Лука, Деяния и деятельная любовь: важность земного времени в “Братьях Карамазовых”». Неопубликованная работа. Представлена в четверг 26 ноября 2019 года на конгрессе Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, проходившем в Сан-Франциско (Калифорния).
[Закрыть].
То, как Зосима понимает наши отношения с другими людьми, также указывает на его инкарнационное богословие. Зосима придает колоссальное значение силе примера, особенно для юных. Он говорит об отрицательном влиянии дурного примера. Зосима рассказывает о том, как в ребенке может быть посеяно «семя дурное», если он видит образ злобного взрослого, который «любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе» [Достоевский 1972–1990, 14: 289–290]. И он говорит о том, что память о благом примере может накопить преобразующую силу, стать источником собственных благих дел, как, например, было в случае с «неизгладимым впечатлением», произведенным на него его умирающим братом Маркелом.
Рассказчик представляет Зосиму в первый же день действия романа, когда он словом и делом сеет семена добра. В исповедальных диалогах с посетителями монастыря он выступает как посредник в таинстве исцеления. Пока Алеша молча стоит рядом и наблюдает, Зосима являет собой пример христоподобной деятельной любви, приветствуя людей и вникая в их конкретные нужды, балансируя между открытостью и закрытостью. С одной стороны, он уважает свободу каждого собеседника, открывается навстречу его мукам и желаниям. Но, с другой стороны, Зосима властно подчеркивает необходимость брать на себя ответственность за свои поступки, понимать пределы своих возможностей и предпринимать решительные действия. Он показывает, «что подлинного понимания можно достигнуть, лишь оставаясь внутри данной структуры темпоральности» [Lynch 2004: 33]. Как учитель и исповедник Зосима занимается медленной, обыденной работой деятельной любви и отвергает иллюзорные озарения.
Слова, произносимые Зосимой в этих диалогах, «прозаичны»: он говорит прямолинейно и просто, как и подразумевается значением корневого слова «проза». Он увещевает госпожу Хохлакову, говоря ей, что для перемен требуется время: «Любовь же деятельная – это работа и выдержка» [Достоевский 1972–1990, 14: 54]; монашеской братии он настойчиво внушает, что такая любовь «трудно приобретается <…> долгою работой и через долгий срок» [Достоевский 1972–1990, 14: 290]. Зосима утверждает не внезапное и апокалиптическое, но постепенное преображение личности159159
Бахтин вносит свой вклад в оценку Достоевского как «апокалиптического» автора, когда утверждает, что «вершины», «кульминационные пункты» «существенных» исповедальных диалогов романиста «возвышаются над сюжетом в абстрактной сфере чистого отношения человека к человеку» [Бахтин 2002: 296]. «Над», «абстрактная сфера», «чистое» – все эти выражения предполагают конец времен, атемпоральность, вечность, которые связаны с апокалипсисом, а не прозаической реальностью земных «здесь» и «сейчас». Сила исповедальных диалогов заключается в том, что исповедник зачастую дотягивается до «глубинного я», «чистого, глубинного я изнутри» [Бахтин 1986: 338] другого человека. Однако это «чистое я» никогда не выходит за рамки требований ситуации, времени и места. Действительно, такие исповедники, как Зосима и Алеша, должны часто «приземлять» человека, с которым они беседуют, уделяя пристальное внимание конкретному этапу его развития. Авторитетное слово, которое они произносят, никогда не бывает статичным, оно рождается из кенотического внимания к конкретному человеку, в конкретной ситуации, в конкретное время. Прозаический исповедник помогает другому принять настоящий момент и действовать, не выходя за его рамки, «событийно». «Событийно» – это выражение Бахтина [Бахтин 2002: 41]. Морсон и Эмерсон отмечают, что значение этого слова «можно было бы передать как “наполненный событиями”; Бахтин имеет в виду концепцию истины, которая наделяет богатым потенциалом каждый момент бытия. Эта альтернативная, прозаическая концепция истины не оказывается “поставлена над бытием”, но ежемоментно возникает из опыта “открытого настоящего”. Здесь соединяются три глобальные концепции Бахтина – прозаики, незавершенности и диалога» [Morson, Emerson 1989: 236]. Если мы воспринимаем процесс творчества Достоевского как полифонический – то есть видим, что он уважает своих персонажей как реальных других людей, с которыми находится на равных, – то мы можем считать концепцию «сюжета» Достоевского созвучной его концепции «бытия». Таким образом, если Зосима и Алеша в исповедальных диалогах помогают другим принять те или иные ситуации, они делают это в рамках сюжета, а не выходя за его пределы, в рамках «открытого настоящего» каждого момента романного времени.
[Закрыть]. Он показывает, как любовь и внимание другого помогают человеку «возлюбить себя». Он возвращает людям надежду – на их способность изменяться и предпринимать решительные действия. Для того чтобы личность изменилась, требуется время, но в нашем распоряжении нет вечности, поэтому так дорог настоящий момент.
Зосима несет миру эти истины в начальных сценах романа, где действие разворачивается поздним утром одного из августовских дней. Алеша боится приезда своей семьи в монастырь [Достоевский 1972–1990, 14: 31], и его опасения оправдываются: оказавшись в келье Зосимы, Федор практически с ходу начинает корчить из себя шута. Зосима понимает, что стариком движет стыд: «А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь всё и выходит» [Достоевский 1972–1990, 14: 40]. Его слова проникают в душу Федора, и тот отвечает: «“Вы меня сейчас замечанием вашим <…> как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. <…> Учитель!” – повергся он вдруг на колени, – “что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?”» [Достоевский 1972–1990, 14: 41]160160
Проявляя характерное уважение к незавершенности Федора, рассказчик добавляет: «Трудно было и теперь решить: шутит он или в самом деле в таком умилении?» [Достоевский 1972–1990, 14: 43].
[Закрыть].
Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес:
– Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное – не лгите [Достоевский 1972–1990, 14: 41].
Зосима не принимает решение за Федора. В своей внимательности к старику – он «молча разглядывал» [Достоевский 1972–1990, 14: 38] Федора – он видит, что Федор знает, где пролегает путь истинный: «Сами давно знаете, что надо делать». Он уважает способность Федора измениться, но также напоминает ему о конкретной ответственности, которую тот несет. Словно проницательный психотерапевт, Зосима не советует Федору совершить резкий поворот вспять, полностью отказаться от прежнего образа жизни. Будучи реалистом, он советует Федору начать с малого: «…да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три». Он подчеркивает, как важно говорить правду, хотя и дает совет не лгать со снисходительным юмором, «с улыбкой» [Достоевский 1972–1990, 14: 41], и, отправляясь беседовать с женщинами, «с веселым лицом» упрекает Федора: «А вы все-таки не лгите» [Достоевский 1972–1990, 14: 42–43].
Затем, за оградой монастыря, Зосима встречается с пятью крестьянками. К каждой он относится сочувственно, но говорит с ними без обиняков. Зная, что отпущенное ему время истекает – «хвораю и знаю, что дни мои сочтены» [Достоевский 1972–1990, 14: 51], – говорит он посетившему его монаху, – он не теряет время попусту. Действительно, он в двух случаях обращается к следующей посетительнице, пока предыдущая еще продолжает говорить: «…но старец уже обратился к одной старенькой старушонке» [Достоевский 1972–1990, 14: 47]; «А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда» [Достоевский 1972–1990, 14: 47] (курсив мой. – П. К.). Он не проявляет неуважения и не ослабляет своего внимания. Активно сопереживая, Зосима входит в особое положение каждой из женщин, никогда не утрачивая собственной внешней позиции по отношению к ним, в том числе и ощущения ограниченности своего времени. Он не давит своим авторитетом, но выясняет и оценивает правильность того, как женщины понимают себя, а также их стремлений.
Первая встреча проходит без слов. Зосима просто наложил на голову «кликуши» епитрахиль, прочел молитву, и та «тотчас затихла и успокоилась» [Достоевский 1972–1990, 14: 44]. Читатель сразу вспоминает женщину, коснувшуюся края одежды Христа и исцелившуюся от кровотечения, которым страдала 12 лет (Мф. 9:20). Отраженный в Зосиме образ Христа становится более явным, когда рассказчик вспоминает, как в детстве стал свидетелем «странного <…> и мгновенного» исцеления беснующихся женщин, подведенных к святым дарам, что его скептически настроенные родители объясняли «притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими “клерикалами”». И хотя теперь рассказчик не сомневается в том, что исцеления были подлинными, он интерпретирует это в натуралистическом ключе как «вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самою полною верой в то, что оно совершится» [Достоевский 1972–1990, 14: 44]. Однако в контексте всего романа прикосновение Зосимы к кликуше является не столько плацебо или демонстрацией, сколько подлинной передачей благодати, аналогичной той, которая заключена в святых дарах. Зосима учит, что преображение требует времени, но емкая концепция «и/и» Достоевского оставляет место для подобных «мгновенных» исцелений – пусть даже временных. Эту женщину «и прежде <…> водили к нему» [Достоевский 1972–1990, 14: 44], и, вероятно, приведут снова. Сакраментальная жизнь обыденна и повседневна.
Вторая женщина испытывает глубокое горе, предвосхищающее горе Снегирева во второй половине романа. Настасья и ее муж Никита пережили потерю всех своих четверых детей. Только что умер их младший, трехлетний Алексей. Чтобы описать «надорванное горе» этой женщины161161
Виктор Террас переводит «надорванное горе» как «ruptured grief» [Terras 2002: 147].
[Закрыть], рассказчик использует слово, однокоренное с надрывом: «Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более растравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать беспрерывно рану» [Достоевский 1972–1990, 14: 45]. Впрочем, эта женщина не страдает от такого надрыва, какой мы наблюдаем у Михаила и других. Она испытывает «потребность раздражать беспрерывно рану», но не напоказ. Надрывное горе искушает ее спрятаться от всех, в том числе и от мужа, Никиты: «Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу. <…> …и не видала б я ничего вовсе!» [Достоевский 1972–1990, 14: 45]. Сначала Зосима слишком торопится утешить ее. Он цитирует святого, который уговаривал возрадоваться такую же безутешную мать: «…твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов Его пребывает» [Достоевский 1972–1990, 14: 46]. Зосима верит в слова, которые произносит, но они предлагают слишком быстрое утешение, как и муж этой женщины. Когда Зосима понимает это, он тактично подстраивается под нее, замедляет темп и воспринимает ее надрывное горе таким, какое оно есть. Его следующие слова сказаны не свысока, но обращены к ней, поскольку он подтверждает ее потребность горевать. Но он также понимает и вникает в ее глубокое желание не оставаться одной и не порывать с мужем. В конце концов, она преодолела 300 верст, чтобы увидеться с Зосимой, а до этого совершила паломничество в три других монастыря. Далее – и это в особенности показательно – она вспоминает и рассказывает о своем Никитушке [Достоевский 1972–1990, 14: 47] (курсив мой. – П. К.), которого оставила три месяца назад. В заключительных словах Зосима прямо называет ее уход от мужа «грехом». Но Настасья чувствует, что, наставляя ее, Зосима желает ей добра: «Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай». Его проникновенное слово достигает ее «глубинного я»:
«Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал. Никитушка, ты мой Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь!» – начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не по-страннически, а по-городски [Достоевский 1972–1990, 14: 47].
Сын этой старушки жив. Однако прошел уже год, как Прохоровна не получала от него вестей, и у нее возникает искушение помолиться за него как за мертвого, как бы использовать Бога для того, чтобы послать сыну духовный импульс. Здесь, сообразно ситуации, авторитет Зосимы принимает более суровую форму. Он журит женщину за то, что она затеяла «великий грех, колдовству подобно» [Достоевский 1972–1990, 14: 47]: «колдовство», о котором она думает, напоминает ту магию, которую Великий инквизитор называет «чудом» [Достоевский 1972–1990, 14: 232]162162
Как утверждает Роджер Кокс, «для инквизитора не существует ни чуда, ни тайны, ни авторитета – только “магия”, “мистификация” и “тирания”» [Cox 1969: 210].
[Закрыть]. Хотя Зосима укоряет ее за то, что она путает эти два понятия, он также откликается на ее самые сокровенные желания как матери и верующей. Называя ее по имени, обращаясь к ее сокровенному я, он дает ей обещание, пронизанное отблеском тайны: «И вот что я тебе еще скажу, Прохоровна: или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или наверно письмо пришлет. Так ты и знай. Ступай и отселе покойна будь. Жив твой сынок, говорю тебе» [Достоевский 1972–1990, 14: 47]. Когда эта отчитанная Зосимой женщина возвращается домой, она действительно получает письмо от сына, который обещает непременно приехать. Происходит событие, которое, как это ни парадоксально, госпожа Хохлакова упорно называет «чудом предсказания» [Достоевский 1972–1990, 14: 150].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?