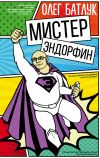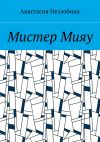Читать книгу "Тимбукту"

Автор книги: Пол Остер
Жанр: Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Пол Остер
Тимбукту
1
Мистер Зельц знал, что Вилли не жилец на этом свете. Вилли кашлял уже шесть месяцев кряду, и Мистеру Зельцу было чертовски ясно, что на улучшение нечего и надеяться. Медленно, но неуклонно, ни разу не сдав своих позиций, кашель рос и крепчал. Третьего февраля (именно тогда кашель проявил себя в первый раз) он еще притворялся тихим мокротным побулькиванием в легких, но теперь, в разгар лета, развернулся уже в полную силу. Вилли корчился от неудержимых приступов надсадного, визгливого кашля, сопровождавшихся извержением брызг слюны и сгустков слизи. Мало этого: в последние дни в хриплой музыке бронхов зазвучала новая, тревожная нота – колючая, сухая, твердая, после чего приступы стали почти постоянными. Когда Вилли заходился кашлем, Мистеру Зельцу казалось, что его грудная клетка вот-вот разорвется, не выдержав внутреннего давления. Мистер Зельц догадывался, что скоро появится кровь, и когда роковой миг наконец настал (а было это субботним днем), он словно услышал вопль, исторгнутый ангельскими хорами в небесах. Мистер Зельц видел, как это случилось, своими собственными глазами, стоя на обочине шоссе где-то между Вашингтоном и Балтимором. Вилли отхаркнул несколько ярко-алых сгустков в носовой платок, и с этого момента Мистеру Зельцу стало понятно, что последняя надежда растаяла в воздухе. От Вилли Г. Сочельника веяло смертью: это было ясно как божий день. Конца оставалось ждать недолго.
Что было делать бедному псу? Мистер Зельц жил у Вилли с самого щенячества и просто не мог представить мир, в котором он останется один, без хозяина… Каждая его мысль, каждое воспоминание, каждая крупица земли и воздуха носили на себе следы присутствия Вилли. Привычка – вторая натура, и есть доля истины в поговорке о старом псе, который не учит новых трюков. Но дело было не только в любви и привязанности: страх, мучивший Мистера Зельца, имел онтологическую природу. Ему казалось, что если Вилли исчезнет из этого мира, то и сам мир, с большой вероятностью, исчезнет вместе с ним.
В подобных мучительных раздумьях встречал Мистер Зельц воскресное августовское утро, плетясь по улицам Балтимора вслед за своим изможденным недугом хозяином. Пес без хозяина – считай, мертвый пес. Как только Вилли испустит последний вздох, у Мистера Зельца в перспективе не останется ничего, кроме собственной неминуемой кончины. Уже на протяжении многих дней Вилли предупреждал Мистера Зельца о грозящих тому опасностях. Мистер Зельц тщательно запоминал наставления хозяина о том, как скрываться от живодеров, констеблей и лицемеров из так называемых обществ за гуманное обращение с животными, которые подкрадываются к тебе в фургонах без окон и опознавательных знаков. Какими бы сладкими речами они ни завлекали тебя, от приюта для бродячих животных добра не жди. Сначала ловчие сети и пневматические ружья, заряженные ампулами с транквилизатором, затем кошмар клеток, залитых светом флуоресцентных ламп, а в конце тебя ждет смертельная инъекция или газовая камера. Если бы Мистер Зельц принадлежал к какой-нибудь породе, у него еще оставался бы шанс, что кто-то заберет его из приюта. Но верный спутник Вилли был продуктом чудовищного кровосмешения. В нем просматривались колли, Лабрадор, спаниель и еще пара-другая пород, не поддававшихся точному определению. В довершение всех бед неухоженная шкура его была кое-где украшена репьями, из пасти дурно пахло, а в испещренных красными жилками глазах застыла вековая печаль. Такому никто не протянет руку помощи. Как любил выражаться бездомный бард, исход игры предрешен. Короче говоря, если Мистер Зельц не позаботится о том, чтобы живехонько подыскать себе нового хозяина, то ему суждено кануть в Лету со скоростью падающего камня.
– А если живодеры тебя не поймают, – рассуждал Вилли тем туманным утром в Балтиморе, прислонившись к фонарному столбу, чтобы не упасть, – то могут приключиться тысячи других бед. Попомни, kemo sabe, или ты пристроишься на службу, или твои дни сочтены. Ты только погляди на это жуткое местечко – что ни дом, то китайский ресторан. А если ты полагаешь, что китайцы не пускают слюнки, когда ты проходишь мимо, то ты ничего не понимаешь в восточной кухне. Они без ума от собачатины, дружище. В обязанности каждого шеф-повара входит отлов бездомных собак, которых он потом забивает на задворках ресторана. Им нужно десять, двадцать, тридцать псов в неделю. В меню можно написать все, что угодно, – «утка», «свинина», – но гурманов-то не обманешь, завсегдатаи, они знают, что к чему. И если не хочешь очутиться на тарелке с каким-нибудь «мучу-чай-пань», не смей вилять хвостом у входа в кабак, где собираются китаезы. Ну что, уловил намек, Мистер Зельц? Познай своего врага – и держись от него в сторонке.
Мистер Зельц понимал. Он понимал каждое слово, сказанное Вилли. Сколько он себя помнил, у него не было проблем с английским. Ну, по крайней мере, не больше, чем у любого иммигранта, прожившего в Америке столько же, сколько прожил в ней Мистер Зельц, – семь лет. Конечно же, мамаша учила Мистера Зельца в первую очередь родному языку, английский был для него вторым, поэтому произношение его нельзя было назвать идеальным, но грамматикой он владел в совершенстве. Впрочем, для животного, обладавшего таким интеллектом, как Мистер Зельц, в этом не было ничего удивительного. Большинство собак неплохо понимают речь двуногих, в случае же с Мистером Зельцем обучение шло особенно быстро, потому что хозяин всегда говорил с ним как с равным. С самого начала между Вилли и собакой установились панибратские отношения, а если учесть при этом, что Мистер Зельц был не просто другом Вилли, но его единственным другом, и Вилли до такой степени был влюблен в звук собственного голоса, что, как и положено заправскому болтуну, практически не замолкал с того момента, как продирал глаза рано поутру, и до того времени, пока не валился с ног пьяный вечером, уже не вызовет ни малейшего удивления тот факт, что Мистер Зельц досконально разбирался в тончайших оттенках туземной речи. Скорее вызывает удивление то, что сам он толком говорить не научился. Нельзя сказать, чтобы он совсем не пытался, но сама биология противилась ему, ибо данная собакам от рождения судьбой конфигурация гортани, зубов и языка ограничивала его речевые способности крайне скудным ассортиментом, включавшим в себя тявканье, повизгивание, поскуливание и рычание. Мистер Зельц отлично понимал, что речь его разборчивой не назовешь, но Вилли всегда внимательно выслушивал все его реплики, а что могло быть важнее этого? Мистеру Зельцу никто не препятствовал вставлять время от времени свои краткие комментарии, причем хозяин никогда не перебивал его. А если бы вы посмотрели в этот момент на лицо Вилли, то поклялись бы, что он жадно ловит каждое слово своего друга, отчаянно пытающегося вести себя как положено представителю рода человеческого.
Но в то угрюмое балтиморское утро Мистер Зельц держал рот на замке. Ему остались последние дни, возможно, даже часы вместе с хозяином. Неразумно было тратить их на пустую болтовню и долгие речи, которыми они позволяли себе забавляться в прежние дни. Некоторые ситуации требуют немалого такта и выдержки, а в нынешнюю суровую годину было гораздо уместнее держать язык за зубами и вести себя как положено хорошему, воспитанному псу. Поэтому Мистер Зельц без возражений позволил Вилли взять себя на поводок. Он не скулил, хотя во рту у него уже тридцать шесть часов не было маковой росинки, не обнюхивал воздух в поисках дамских ароматов, не останавливался ежесекундно, чтобы поднять ногу у каждого фонарного столба или пожарного гидранта. Он попросту плелся следом за Вилли, принимая посильное участие в поисках того адреса, по которому направлялся хозяин, – Калверт-стрит, 316.
Мистер Зельц ничего не имел против Балтимора как такового. Запах у этого города был ничуть не хуже, чем у многих других городов, в которых они перебывали за долгие годы. Хотя Мистер Зельц отлично понимал цель их путешествия, его огорчала сама мысль о том, что человек может провести свои последние часы на земле в месте, где он никогда раньше не бывал. Собака ни за что не совершит такого ляпсуса. Она сначала распростится с белым светом, а затем примет все меры для того, чтобы отдать Богу душу в родных пенатах. Но к сожалению, Вилли, перед тем как умереть, предстояло сделать еще два дела, и, с присущим ему упрямством, он вбил себе в голову, что только один человек на земле может помочь ему в этом. Это была женщина по имени Би Свенсон, и так как, по последним сведениям, эта самая Би Свенсон проживала в Балтиморе, то туда они и отправились ее искать. Все это звучало неплохо, но если какие-нибудь обстоятельства помешают планам Вилли, то Мистер Зельц останется один-одинешенек посреди этого города мраморных лестниц и пирожков с крабьим мясом. И что ему прикажете тогда делать? Один телефонный звонок – и все проблемы были бы решены за полминуты, но Вилли испытывал непреодолимое отвращение подлинного философа к использованию телефона для решения вопросов жизни и смерти. Он лучше будет сбивать ноги в кровь день за днем, чем возьмет эту штуковину и станет говорить в нее с невидимым собеседником. Вот таким-то образом их и забросило за двести миль на улицы Балтимора, где они блуждали без карты в поисках адреса, который вполне мог и не существовать.
Что касается тех двух дел, которые Вилли должен был сделать перед тем, как умереть, то ни одно из них не было важнее другого. Оба дела Вилли считал одинаково важными, и поскольку сделать их по отдельности времени не оставалось, он изобрел комбинацию, которую называл не иначе как чезапикским гамбитом. Это был хитроумный замысел, благодаря которому Вилли рассчитывал, как говорится, убить двух зайцев. О первом деле мы уже упоминали: косматому приятелю Вилли следовало подыскать новых хозяев. Второе же дело касалось самого Вилли: он должен был передать свои сочинения в надежные руки. В настоящий момент труд всей его жизни покоился в ячейке автоматической камеры хранения на автовокзале на Райетт-стрит, в двух с половиной кварталах к северу от того места, где сейчас находились Вилли и Мистер Зельц. Ключ от ячейки лежал у Вилли в кармане, и если Вилли не удастся вложить этот ключ в надежные руки, то каждое написанное им слово будет безвозвратно утеряно и погибнет, когда невостребованный багаж, в соответствии с инструкцией, подвергнут уничтожению.
За двадцать три года, прошедших с того дня, когда Вилли взял себе фамилию Сочельник, он успел исписать семьдесят четыре общих тетради от корки до корки. Там были стихотворения, рассказы, эссе, дневниковые записи, эпиграммы, воспоминания и первые тысяча восемьсот строчек незаконченной поэмы «Дни бродяги». Большинство этих опусов Вилли сочинил, сидя на кухне бруклинской квартиры своей матери, но после того как четыре года назад мать умерла, он был вынужден творить под открытым небом, часто подвергаясь натиску стихий в общественных парках и пыльных скверах, где он пытался поверить свои думы бумаге. В глубине сердца Вилли не питал насчет себя никаких иллюзий. Он знал, что непригоден для жизни в этом мире, но он также знал, как много талантливых строк содержат исписанные тетрадные листы, и посему считал себя вправе держать голову высоко. Возможно, если бы он педантичнее принимал лекарства, или обладал от природы более крепким телосложением, или же не питал такого пристрастия к хмельному питию, которое подают в шумных барах, то он еще одарил бы мир рядом блистательных творений. Но сейчас было уже слишком поздно сожалеть об ошибках и упущениях. Вилли поставил точку в конце последнего предложения, и ждать конца оставалось совсем недолго. Слова, запертые в ячейке камеры хранения, были единственным, чем он мог оправдать свое существование. Если эти строки исчезнут, все будет так, словно он никогда и не жил.
Вот в связи с чем впервые прозвучало имя Би Свенсон. Вилли знал, что шансы разыскать ее невелики, но если это все же удастся, то, по убеждению Вилли, Би Свенсон перевернет небо и землю, чтобы помочь ему. Когда-то, в незапамятные времена, миссис Свенсон была учительницей Вилли по английскому в старших классах, и если бы не она, он вряд ли осмелился бы поверить в свое писательское призвание. В те дни Вилли еще звали Уильям Гуревич и представлял он собой костлявого шестнадцатилетнего юнца, одержимого страстью к книгам и авангардному джазу. Она взяла его под свое крыло и поощряла первые литературные опыты, в таких неумеренных выражениях восхваляя его талант и настолько преувеличивая достоинства его стиля, что вскоре он начал думать о себе как о следующей великой надежде американской литературы. Дело не в том, права она была или нет как педагог: результаты не столь важны на этом этапе, надежды – важнее. Миссис Свенсон распознала талант Вилли, рассмотрела искру божью в потемках его неоперившейся души, а ведь никому еще ничего не удавалось добиться в жизни, если рядом не было человека, который бы в него верил. Это – бесспорный факт, и в то время как остальным ученикам Мидвудской средней школы миссис Свенсон казалась всего лишь приземистой женщиной средних лет с дебелыми руками, складки жира на которых подпрыгивали и колыхались, когда она писала что-нибудь на доске, Вилли видел в ней само совершенство, ангела, сошедшего с небес и принявшего человеческое обличье.
Но после летних каникул, когда занятия возобновились, миссис Свенсон в школе не появилась. Ее мужу предложили новую работу в Балтиморе, и поскольку она была не только педагогом, но и женой, что ей оставалось, кроме как покинуть Бруклин и последовать за мистером Свенсоном в Балтимор? Для Вилли это был жестокий удар, смягчало который лишь то обстоятельство, что, хотя его наставница и находилась далеко, она его все же не забывала. В течение нескольких лет миссис Свенсон поддерживала оживленную переписку со своим юным другом, читала и рецензировала рукописи, которые он присылал ей, дарила Вилли на день рождения пластинки со старыми записями Чарли Паркера и снабжала адресами маленьких литературных журналов, которые могли бы напечатать его работы. Пылкое хвалебное рекомендательное письмо, написанное ею в год окончания школы, помогло Вилли получить стипендию в Колумбийском университете. Миссис Свенсон стала его музой, ангелом-хранителем и счастливым талисманом в одном лице. В то время Вилли было не о чем мечтать – казалось, он живым попал на небо. Но в 1968 году произошел внезапный срыв, обострение шизофрении, припадок сумасшедшего фанданго, отплясанного на высоковольтных проводах. Вилли поместили в клинику, и после шести месяцев шоковой терапии и психотропных медикаментов он вышел оттуда непоправимо переменившимся. Вилли пополнил ряды душевно увечных. После больницы Вилли уже не писал стихов и рассказов и ему редко удавалось отвечать на письма миссис Свенсон. Причины не столь уж и важны. То ли у него голова не тем была занята, то ли он начал стесняться общения с наставницей, а может, он просто потерял веру в Федеральную почтовую службу и пришел к убеждению, что почтальоны постоянно заглядывают в доставляемую ими корреспонденцию. Так или иначе, некогда объемистая переписка с миссис Свенсон свелась к скудному обмену открытками от случая к случаю, в основном к рождественским поздравлениям с типографским текстом. Так продолжалось лет десять, пока, году в 1976-м, переписка не прекратилась вовсе. С тех пор они не обменялись ни строчкой, ни словом.
Мистер Зельц все это знал и был немало этим обеспокоен. Семнадцать лет миновало с тех пор. Кто тогда был президентом? Джеральд Форд? Даже это с трудом удается вспомнить через столько лет. Кого пытается обмануть Вилли? Себя? Чего только не могло случиться за эти годы! Достаточно подумать о переменах, которые происходят за семнадцать часов или семнадцать минут, – что же говорить о семнадцати годах! Начнем хотя бы с того, что миссис Свенсон могла сменить адрес. К тому же старушке сейчас уж никак не меньше семидесяти, и если она не впала в маразм или не живет в трейлере где-нибудь во Флориде, то, скорее всего, давно лежит в сырой земле. Вилли и сам допускал такую возможность, когда этим утром они ступили на балтиморскую землю, но, черт побери, сказал он, если у них в стволе остался только этот последний патрон, то почему бы не рискнуть, в конце концов? Ведь жизнь – игра, и нужно быть готовым проиграться до последней нитки.
Ох уж этот Вилли! Он знал столько баек, говорил на столько ладов одновременно, шевелил губами так часто, что Мистер Зельц уже не понимал, когда хозяину можно верить. Где правда, где ложь? Сразу и не скажешь, когда имеешь дело с таким непредсказуемым и сложным типом, как Вилли Г. Сочельник. Мистер Зельц мог поручиться только за то, что он видел собственными глазами, что испытал на собственной шкуре. Он жил вместе с Вилли всего семь лет, поэтому ему приходилось верить Вилли на слово во всем, что касалось предыдущих тридцати восьми. Если бы Мистер Зельц не провел все свое щенячество под одной крышей с матерью Вилли, то биография хозяина оказалась бы скрыта покровом мрака. Но, слушая рассказы миссис Гуревич и сравнивая их с рассказами ее сына, Мистер Зельц умудрился составить себе общее представление о том, как выглядел мир Вилли до тех пор, пока в нем не появился он. Конечно, картина была не полной: многих деталей не хватало, многое приходилось восстанавливать по догадкам, – но Мистер Зельц обладал изрядной толикой проницательности, чтобы отделить зерна от плевел.
Несомненно, мир этот был беден и печален, и атмосфера его чаще бывала пропитана отчаянием и горечью, чем радостью и весельем. Если принять во внимание, через что прошла семья Гуревичей, перед тем как очутиться в Америке, то казался чудом уже сам факт появления Вилли на свет. Из семи детей, родившихся в семьях дедушек и бабушек Вилли в Варшаве и Лодзи, после войны уцелело только двое: Давид Гуревич и Ида Перльмуттер – будущие отец и мать Вилли. Только у них на запястьях не оказалось вытатуированных лагерных номеров, только им удалось ускользнуть из цепких лап смерти. Это вовсе не означает, что им не пришлось хлебнуть лиха, – Мистер Зельц наслушался таких историй, от которых у него дыбом вставала шерсть на загривке. Например, Давиду и Иде пришлось десять дней скрываться на чердаке одного дома в Варшаве, в такой тесноте, что можно было только лежать и передвигаться ползком. Затем месяц они пробирались из Парижа в свободную зону на юге Франции, ночевали в стогах и воровали у крестьян яйца, чтобы не умереть с голоду. Потом был Манд, лагерь для беженцев, все деньги ушли на взятки, чтобы получить временные паспорта. Далее последовали четыре месяца бюрократического ада в Марселе, где Давид и Ида ждали испанские транзитные визы. После этого был долгий паралич в Лиссабоне, мертворожденный сын в 1944 году. Два года они с надеждой глядели в сторону Атлантики, но война все шла и шла, а их сбережения все таяли и таяли. К тому времени, когда родители Вилли в 1946 году наконец очутились в Бруклине, они не столько начинали новую жизнь, сколько вели загробное существование в интервале между двумя смертями. Давид, в Польше некогда подававший надежды как адвокат, теперь с трудом выпросил место у троюродного брата и следующие тринадцать лет каждое утро отправлялся на подземке с Седьмой авеню на пуговичную фабрику на 28-й стрит, Уэст. Первый год Ида вносила свою лепту в семейную кассу, давая уроки фортепьяно юным отпрыскам еврейских семейств, но эти занятия кончились одним прекрасным утром в ноябре 1947 года, когда Вилли высунул свое крошечное личико между ног матери и неожиданно отказался умирать.
Вилли вырос американцем, мальчишкой из Бруклина, игравшим в стикбол на улице, читавшим украдкой под одеялом комиксы и слушавшим Бадди Холли и Биг Боппера. Ни мать, ни отец ничего не понимали в этих радостях жизни, но Вилли это мало трогало, поскольку в те годы важнейшей целью его жизни было убедить себя в том, что родители у него не настоящие. Они казались ему чужими и непонятными с их нелепым польским акцентом и странными угловатыми манерами. Бессознательно он чувствовал, что выживет, только если сумеет противостоять им во всем. Когда отец скоропостижно скончался в сорок девять лет от сердечного приступа, скорбь Вилли помогло перенести тайное чувство облегчения. Еще на пороге отрочества, в двенадцать лет, он сформулировал свою жизненную философию: повсюду искать беды себе на голову. Чем больше страданий выпадает на твою долю, тем ближе ты оказываешься к истине, к неприглядной сути существования, а что может быть ужаснее, чем когда твой старик сыграет в ящик всего через шесть недель после того, как тебе исполнилось двенадцать? Подобное событие накладывало на тебя трагический отпечаток, снимало с дистанции крысиных бегов навстречу тщетным упованиям и сентиментальным иллюзиям, омрачало твой лик тенью подлинных душевных терзаний. На самом же деле Вилли особенно и не страдал. Отец для него всегда оставался загадочной фигурой; он мог молчать неделями, а затем вдруг разражаться внезапными вспышками гнева. Не раз он награждал Вилли оплеухой по самым пустяковым поводам. Нет, жизнь без этого мешка со взрывчаткой у тебя под боком была не столь уж и тяжела. Честно говоря, привыкнуть к отсутствию отца не составило ни малейшего труда.
По крайней мере, к такому выводу пришел наш славный герр доктор Зельц. Хотите – соглашайтесь с его мнением, хотите – нет, но если не верить ему, то кому же верить? Неужели, выслушивая все эти истории на протяжении семи лет, он не заслужил права именоваться ведущим мировым авторитетом в области изучения Вилли?
Итак, Вилли остался один с матерью. Мать Вилли трудно было назвать легким в общежитии существом, но она хотя бы не распускала рук и выказывала по отношению к сыну немало любви и достаточно сердечной теплоты, чтобы компенсировать те периоды, когда она постоянно попрекала Вилли, поучала его и изводила прочими способами. В целом нельзя сказать, чтобы Вилли не старался быть хорошим сыном. В те редкие моменты, когда он не думал о себе, он даже предпринимал сознательные попытки любить свою мать. Если между ними и существовала какая-то напряженность, то обусловлена она была не столько личными чувствами, сколько противоположными взглядами на жизнь. Из собственного тяжелого опыта миссис Гуревич знала, что мир полон зла и опасностей, и жила в соответствии с этим знанием, пытаясь делать все, что было в ее власти, для того чтобы не дать миру погубить себя. Вилли тоже считал, что мир настроен к нему враждебно, но, в отличие от матери, полагал, что всякое сопротивление бесполезно. Разница между ними заключалась не в том, что одна была оптимисткой, а другой пессимистом. И мать, и сын были пессимистами, но если пессимизм первой вел к жизни в мире страхов, то пессимизм второго выливался в шумное и напускное презрение ко всему сущему. Там, где мать сжималась в комок, сын шел напролом. Там, где мать осторожно пыталась ни в коем случае не заступать за красную линию, сын бесшабашно пересекал ее. Большую часть времени они пререкались между собой. Поскольку Вилли знал, как легко завести мать, он не упускал ни единого случая, чтобы не вступить с ней в конфликт. Если бы только у нее хватило ума относиться к высказываниям сына с достаточным равнодушием, Вилли не стал бы так яростно отстаивать свои взгляды. Но противостояние вдохновляло его, подталкивало к переходу на все более и более экстремистские позиции, и к тому времени, когда школа осталась позади, а впереди распахнулись двери колледжа, Вилли уже полностью сжился с некогда избранной им ролью – бунтаря, возмутителя спокойствия, проклятого поэта, ночующего в канавах обреченного на погибель мира.
Одному богу известно, сколько наркотиков удалось впихнуть в себя этому парню за те два с половиной года, что он провел на Морнингсайд Хайте. Назовите любое запрещенное вещество, и окажется, что Вилли курил его, или нюхал, или впрыскивал в вены. Одно дело – ходить по коридорам, изображая из себя нового Франсуа Вийона, и совсем другое – ввести в себя столько отравы, что ею можно засыпать всю территорию городской свалки Нью-Йорка в Джерси Медоулэндз. Такого натиска не выдержит биохимия даже самого стойкого организма. Судя по всему, Вилли рано или поздно все равно должен был сойти с ума, но кто сможет уверенно утверждать, что психоделическая вседозволенность его студенческих дней не ускорила процесс? Когда соседи по общежитию в один прекрасный день застали Вилли распростертым нагишом на полу его комнаты и распевающим наподобие мантры имена из телефонной книги Манхэттена, отправляя при этом ложкой в рот из горшка свои собственные экскременты, академической карьере будущего хозяина Мистера Зельца был положен преждевременный и необратимый конец.
За сим последовал дурдом, из которого Вилли вернулся в квартиру матери на Гленвуд-авеню. Это было явно не самое лучшее место для него, но куда еще в мире могло направиться несчастное существо, подобное Вилли? Первые шесть месяцев заметных улучшений не отмечалось. Если не считать того, что Вилли переключился с наркотиков на алкоголь, ничего не изменилось. Прежняя напряженность, прежние конфликты, прежнее взаимонепонимание. И тут ни с того ни с сего накануне сочельника 1969 года у Вилли случилось видение, которое изменило все вокруг, произошла мистическая встреча, перевернувшая все его сознание и придавшая всей его жизни совершенно иной ход.
Дело было в половине третьего ночи. Мать легла в постель уже несколько часов назад, а Вилли расположился на диване в гостиной с пачкой «Лаки страйк» и бутылкой бурбона. Он писал и краешком глаза следил за экраном телевизора. Телевизор вошел в его жизнь совсем недавно, как побочный продукт долгого пребывания в психушке. Изображения, сменявшиеся на экране, не особенно интересовали Вилли; большее удовольствие доставляли ему гул кинескопа и серо-голубые тени, отбрасываемые им на стены гостиной. Шла программа «Для тех, кто не спит» (что-то насчет гигантских кузнечиков, пожирающих обывателей города Сакраменто, штат Калифорния), но основная часть эфирного времени была посвящена обычному надсадному восхвалению чудесных новшеств: ножей, которые никогда не тупятся, лампочек, что никогда не перегорают, и волшебных лосьонов, что навсегда избавляют потребителя от кошмара плешивости. «Болтай, болтай, – бормотал Вилли следом за диктором, – старые уловки, вечные враки». Но только он собрался встать и выключить телевизор, как на экране начался новый рекламный ролик, в котором Санта-Клаус появился из чего-то, что выглядело как каминная труба в гостиной пригородного дома где-нибудь в Массапекуа, Лонг-Айленд. Дело было перед Рождеством, поэтому реклама с актерами, наряженными Санта-Клаусом, сама по себе не удивила Вилли. Но этот Санта-Клаус не походил на других: щечки у него пылали огнем, а борода была белизны необыкновенной. Вилли ждал, когда начнется текст, абсолютно уверенный в том, что речь пойдет о средстве для чистки ковров или о квартирной сигнализации, но внезапно Санта-Клаус обратился к Вилли со словами, которые полностью переменили его судьбу.
– Уильям Гуревич, – сказал Санта-Клаус. – Да-да, Уильям Гуревич из Бруклина, штат Нью-Йорк, я с тобой говорю!
В ту ночь Вилли выпил только половину бутылки, к тому же прошло уже восемь месяцев с момента, когда он в последний раз страдал полномасштабными галлюцинациями. Поэтому Вилли знал, что на такую чепуху его не купишь. Он осознавал разницу между реальностью и игрой воображения. Если Санта-Клаус обращался к нему с экрана маминого телевизора, это могло означать лишь одно – то, что он, Вилли, выпил гораздо больше, чем ему казалось.
– Да пошел ты, мистер! – заявил Вилли и без долгих раздумий выключил ящик.
К несчастью, выдержки у него хватило ненадолго. Потому ли, что он от природы страдал любопытством, а может, чтобы увериться в том, что опять не сошел с ума, но Вилли решил снова включить телевизор, хотя бы на самую-самую чуточку. Ведь это никому не повредит, разве не так? Лучше узнать горькую правду, чем следующие сорок лет каждое Рождество мучиться сомнениями, что же он на самом деле видел.
И что бы вы думали? Санта-Клаус был тут как тут. Он погрозил Вилли пальцем и неодобрительно покачал головой. В глазах его читалось разочарование. Затем он открыл рот и начал говорить (с того самого места, на котором остановился десять секунд назад). Вилли не знал, что ему делать: то ли расхохотаться во все горло, то ли выпрыгнуть в окно. Но что случилось, то случилось. Это было невероятно, но оно произошло, и Вилли понял, что отныне мир никогда не станет для него таким же, как прежде.
– Это было крайне невежливо с твоей стороны, Уильям, – сказал Санта-Клаус. – Я пришел, чтобы помочь тебе, но мы не сдвинемся с места, если ты не предоставишь мне возможности высказаться. Ты следишь за моими словами, сынок?
На последний вопрос явно надо было ответить, но Вилли колебался. Хватит с этого шута горохового и того, что он, Вилли, его слушает. Не хватало еще, чтобы он стал с ним разговаривать.
– Уильям! – воззвал Санта-Клаус. В голосе его слышались неодобрение, упрек и такой напор, что Вилли почувствовал – этому парню лучше не перечить. Если Вилли хочет выбраться из кошмара, то надо подыгрывать этому седобородому громиле.
– Слушаю, босс! – промямлил Вилли – Впитываю каждое ваше слово!
Здоровяк самодовольно улыбнулся. Камера наплывом взяла крупный план его цветущего лица. Следующие несколько секунд Санта-Клаус задумчиво теребил свою бороду, словно не знал, с чего начать.
– Ты знаешь, кто я такой? – внезапно спросил он.
– Я знаю, на кого ты похож, – ответил Вилли, – но это еще не означает, что я знаю, кто ты такой. Сначала я думал, что ты какой-нибудь гребаный актеришка. Затем решил, что ты – джинн из бутылки. Теперь я просто теряюсь в догадках.
– Я тот, на кого я похож.
– Ну, если так, старина, тогда я – зять императора Хайле Селассие.
– Я – Санта-Клаус, Уильям. Иначе говоря – святой Николай. Или, если уж совсем по-простому, Дед Мороз. Единственная добрая сила, оставшаяся в этом мире.
– Санта, ты говоришь? А ну-ка, повтори по буквам: эс-а-эн-тэ-а, верно?
– Ты не ошибся. Мое имя пишется именно так.
– Именно этого я и ожидал. А теперь переставим-ка слегка эти буквы, и что у нас выйдет: эс-а-тэ-а-эн – сатана! Ты, дедушка, сам дьявол во плоти и существуешь только в моем воображении и больше нигде.