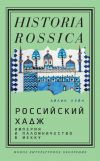Текст книги "Православие, инославие, иноверие. Очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи"
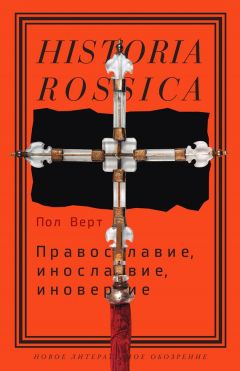
Автор книги: Пол Верт
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Малочисленность источников об этой конкретной общине, к сожалению, не позволяет дать результатам крещений более полную оценку. Несомненно, вмешательство Блударова имело долгосрочный эффект, выразившийся в том, что протестующим не удалось вернуться в статус язычников. Однако их протесты помогли избавиться от крещения соседним нехристианам, поскольку и церковь и государство теперь призывали своих подчиненных действовать в будущем с большей осторожностью. В результате в последующие годы произошло мало крещений, и большинство восточных марийцев официально оставались язычниками до конца Российской империи[117]117
В Уфимской епархии в 1899 г. из 88 800 марийцев только 6425 (6,7 %) официально являлись христианами, причем многие из последних фактически оставались язычниками. См.: Златоверховников И. Уфимская епархия. С. 17, 28, 206.
[Закрыть].
В некоторых отношениях события в Ведрес-Калмаше были довольно необычны. В XIX веке крещения в таких масштабах происходили редко, по крайней мере в Волжско-Камском крае[118]118
Мне известны только два других случая крещения такого масштаба. В 1830 г. было обращено в христианство около 2000 чувашей в имении князя Орлова в Симбирской губернии (РГИА. Ф. 796. Оп. 110. Д. 767, особенно Л. 1–2, 67–68 – доклад архиепископа Казанского о крещении чувашей). Департамент уделов инициировал свою собственную кампанию по крещению почти 1000 чувашей в 1857–1858 гг., после того как в результате ревизии владений было выявлено большое число язычников (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 428. Л. 1–4, 13–50).
[Закрыть], и они не оставляли после себя такого письменного свидетельства, какое имеется в нашем распоряжении в данном случае. Бирский уезд сам по себе был нетипичен – в нем проживало многочисленное языческое население, не имевшее официально признанного духовенства, которое могло бы придать инициативам МГИ больший охват и, возможно, легитимность в глазах коренного населения. Уникальная ситуация, в которой власти оказались в Бирском уезде, – обязанность управлять нерусскими крестьянами с помощью норм, созданных главным образом для русского и православного населения, – в значительной степени послужила причиной массовых крещений местных марийцев. Тем не менее сама специфичность нашего случая позволяет высказать более широкий вывод: крещение и другие смены веры в России глубоко вплетались в крупные противостояния, связанные с властью и властвованием. Задача историков состоит в том, чтобы выявить эти противостояния и включить проблему религиозности в более широкий социальный, культурный и политический контекст, присущий каждому случаю.
События в Ведрес-Калмаше также симптоматичны для динамики реформы государственных крестьян. Они отвечают общей схеме, когда МГИ сначала вторгалось в общины государственных крестьян, что часто сопровождалось крайностями в действиях окружных начальников, а затем, по крайней мере частично, отступало от прямых форм вмешательства. Еще в 1843 году, получив доклады о злоупотреблениях окружных начальников в других местах империи, Киселев потребовал от своих подчиненных проявлять большую сдержанность в делах с крестьянами и впоследствии сам предпринимал меньше новых инициатив[119]119
Об этих мнениях в целом см.: Дружинин Н.М. Государственные крестьяне. Т. 2. С. 517–523. Киселев все больше считал окружную администрацию, включая институт окружных начальников, бесполезной, и в итоге эта инстанция была упразднена в 1860 г. См.: Историческое обозрение. С. 48–50.
[Закрыть]. Доклады из Ведрес-Калмаша, по-видимому, способствовали складыванию в Петербурге впечатления, что окружные начальники неправильно истолковывали намерения начальства, а потому превышали свои полномочия и что возможности МГИ трансформировать жизнь местных крестьян не были безграничны. Словом, если использование крещения для того, чтобы подвергнуть влиянию власти местное сообщество, и было нечастым происшествием, то события в Ведрес-Калмаше все же являлись частью более широкой истории реформ Киселева.
И наконец, в описанные выше конкретные процессы были вплетены элементы важных расхождений в представлениях о власти и управлении. Если чиновники в центре считали законность основой должного управления, то чиновники на местах утверждали, что требования законности не были достаточно гибкими и что временами их нужно было отменять в пользу «местных соображений»[120]120
Расхождения между соответствующими взглядами на крещение и управление можно интерпретировать как проявление присущих Российской империи глубоких противоречий между сферой юстиции и административной практикой. См.: Wortman R.S. The Development of a Russian Legal Consciousness. Chicago, 1976 [русский перевод: Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004. – Прим. ред.]; Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siиcle Russia. Ithaca; London, 1992. Р. 17–127 [русский перевод: Энгельштейн Л. Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX веков. М.: Терра, 1996]; Zelnik R. E. Law and Disorder on the Narova River: The Kreenholm Strike of 1872. Berkeley, 1995. Р. 148–176.
[Закрыть]. Далее, если и центральные, и местные власти соглашались в том, что крещение было важным катализатором гражданского и нравственного развития нерусских, то в условиях 1840-х годов, когда контроль МГИ над деревней был непрочен, такие деятели, как Блударов и Строковский, скорее были склонны видеть в православии инструмент для установления и укрепления своей власти над культурно чуждым населением. Их действия решительно отклонялись от принципов «наставления», которые сформулировал Киселев. Наконец, эти расхождения заставляют предположить, что для «приручения» «полудикого и грубого» нерусского населения властям империи, возможно, в первую очередь нужно было приручить самих себя.
Перевод Наталии Мишаковой
Глава 2
АРБИТРЫ СВОБОДНОЙ СОВЕСТИ: КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СМЕНА ВЕРЫ В РОССИИ
(1905–1917)
© 2007 Indiana University Press
Одной из основных характеристик российского самодержавия была его глубокая вовлеченность в дела религии. До самого своего падения в 1917 году режим упорно поддерживал не только превосходство православия над так называемыми иностранными исповеданиями, а христианства над иноверием, но и веры над безверием и «нигилизмом». В этом контексте даже неправославные исповедания пользовались в той или иной форме государственным патронажем, который был призван обеспечить официально признанным религиозным элитам власть в их сообществах[121]121
Crews, Robert D. Empire and the Confessional State: Islam and Religious Politics in Nineteenth-Century Russia // American Historical Review. 2003. Vol. 108. № 1. P. 50–83.
[Закрыть]. И так же как каждый подданный империи принадлежал к известному сословию, что влекло за собой определенные обязанности и привилегии, так он или она были приписаны к одной из терпимых конфессий. Частью по идеологическим причинам, частью из-за несовершенств государственной администрации конфессия даже лежала в основании метрической регистрации в империи, так как клирики вели учет рождений, браков и смертей, на основании чего устанавливался возраст детей и их статус как законнорожденных, определялись наследственные права и устанавливалось, подлежит ли индивид освобождению от воинского призыва и имеет ли право поступить на государственную службу[122]122
О метрических записях см. гл. 5 настоящего издания, а также: Steinwedel, Charles. Making Social Groups, One Person at a Time: The Identification of Individuals by Estate, Religious Confession, and Ethnicity in Late Imperial Russia // Documenting Individual Identity: The Development of State Practices Since the French Revolution / Ed. Jane Caplan and John Torpey. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001. P. 67–82; Avrutin, Gene M. The Power of Documentation: Vital Statistics and Jewish Accommodation in Tsarist Russia // Ab Imperio. 2003. № 4. С. 271–300.
[Закрыть]. Если конфессиональная принадлежность являлась универсальным атрибутом всех подданных царя, то приписка к той или иной религии означала особые права и ограничения. Правила, регулирующие заключение браков, варьировались в зависимости от конфессиональной принадлежности подданых, и некоторые межконфессиональные браки были вовсе запрещены согласно требованиям церковных канонов[123]123
О браке и его религиозных основаниях см.: Freeze, Gregory L. Bringing Order to the Russian Family: Marriage and Divorce in Imperial Russia, 1760–1860 // Journal of Modern History. 1990. Vol. 62. № 4. P. 709–749; Wagner, William. Marriage, Property, and Law in Late Imperial Russia. Oxford: Clarendon Press, 1994; Crews, Robert D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, Mass., 2006; Freeze, ChaeRan. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. Hanover, N.H.: Brandeis University Press, 2002; Шейн В. К истории вопроса о смешанных браках // Журнал Министерства юстиции. 1907. № 3. С. 231–273.
[Закрыть]. Существенные правовые и административные стеснения, особенно в отношении места жительства и доступа к образованию и ряду занятий, налагались на евреев, тогда как «лица польского происхождения» – под которыми часто подразумевались попросту католики (как правило, из высших сословий) – были лишены права приобретать землю в Западном крае[124]124
Детальный анализ ограничений, налагавшихся на евреев, см.: Nathans, Benjamin. Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley: University of California Press, 2002 [русский перевод: Натанс Б. За чертой: Евреи встречаются с позднеимперской Россией. М., 2007. – Прим. ред.]. Об ограничениях против поляков/католиков см.: Rodkiewicz, Witold. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire, 1863–1905. Lublin: Scientific Society of Lublin, 1998. Р. 57–129; Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М.: Индрик, 1999.
[Закрыть]. По сути дела, в России не сложился гражданский строй, при котором все население страны объединялось бы одинаковыми правами и обязанностями, и конфессии являлись одним из главных факторов разделения общества на обособленные компоненты.
Эта ситуация вынуждала государство к осмотрительности в деле религиозного обращения. Если гражданские права различались в зависимости от конфессиональной принадлежности и если даже записи, устанавливавшие гражданское состояние, были по своему характеру конфессиональными, то очевидным образом государство было весьма заинтересовано в регламентации конфессиональной приписки и четком установлении критериев, по которым подданных можно было бы решительно отнести к той или иной религии. Эта задача, кроме того, обуславливалась идеологической приверженностью государства православию и христианству. В российской истории государство выступало за обращения в православие – если не всегда посредством прямой поддержки миссий, то по меньшей мере вводя некоторые поощрения потенциальным конвертантам[125]125
О государственной поддержке православного миссионерства в XIX в. см.: Werth P. At the Margins of Orthodoxy.
[Закрыть]. До 1905 года обращение из православия – или «отпадение», как оно определялось даже буквой закона, – было полностью запрещено, так же как обращение из любой христианской конфессии в нехристианские. Даже для обращения из одной неправославной веры в другую обычно требовалось разрешение государства, которое стремилось предотвратить вмешательство представителей одного «иностранного исповедания» в дела другого[126]126
Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 11, ч. 1. Ст. 4, 6, 8.
[Закрыть]. Словом, для того чтобы поддерживать существующую иерархию конфессий и укрепить порядок, опирающийся на конфессиональные различия, государство присвоило себе право действовать как верховный арбитр в делах религиозной идентичности в Российской империи.
Однако к концу XIX века государству становилось все труднее и труднее осуществлять эту прерогативу. Несомненно, большинство подданных империи по-прежнему принадлежали к конфессиям своих предков, пусть даже их приверженность своей вере иногда ослабевала в условиях социальных и экономических перемен. Но в целом российский конфессиональный ландшафт делался более подвижным и сложным. Все большее число номинально православных подданных добивались возвращения в конфессии, из которых они или их предки были ранее обращены, а новые религии и вероучения начинали находить все больше последователей в рядах православных. Вынуждаемые гражданскими и уголовными законами империи оставаться в православии вопреки своим убеждениям, такие верующие все чаще выражали недовольство положением, в котором они оказались, и надежду на то, что вскоре последует полное юридическое признание их религиозных верований. Да и многие из государственных чиновников все меньше принимали идею использования светского права и полицейской власти для утверждения религиозной дисциплины. Они доказывали, что это не является ни действенным, ни совместимым с современными ценностями. Как реакция на эти затруднения, в тон этим усиливающимся сомнениям самодержавие в апреле 1905 года существенно либерализировало законы, регулирующие обращение, а в октябре того же года без обиняков даровало «свободу совести» всему населению империи.
В данной главе исследуется воздействие, оказанное этой важной реформой на процессы, посредством которых в последнее десятилетие имперской России определялась конфессиональная принадлежность или религиозная «идентичность»[127]127
Я разделяю многие из критических замечаний, высказанных Р. Брубейкером и Ф. Купером насчет непомерно широкого и двусмысленного употребления термина «идентичность» в современном языке социальных наук (Brubaker and Cooper. Beyond «Identity» // Theory and Society. 2000. № 29. P. 1–47). Соответственно я использую это слово редко, предпочитая говорить о «принадлежности» и «статусе», ибо предметом моего исследования является процесс категоризации.
[Закрыть]. Меня интересуют прежде всего тяжбы относительно идентификации между государством, желавшим сохранить хоть какой-то контроль над религиозными переменами при новом конфессиональном порядке, и индивидами, которые хотели прежде всего, чтобы их формальный статус отвечал их самоопределению. Сосредотачиваясь в основном на судебных и административных решениях по прошениям верующих о «вероисповедном переходе» в период после 1905 года[128]128
В языке законодательных проектов и административной документации того времени заметна тенденция использовать слово «переход», а не «обращение». Это свидетельствует о признании того, что часто данная операция была переменой формального религиозного статуса, а не переворотом в религиозном сознании.
[Закрыть], я доказываю, что если государство и сделало важные уступки религиозным устремлениям подданных империи, то оно тем не менее не сдавало своих прерогатив в качестве верховного арбитра по вопросу конфессионального статуса и, следовательно, оставалось глубоко вовлеченным в религиозные дела подданных. Даже если некоторые чиновники продвигали религиозную реформу как часть широкого проекта ликвидации партикуляризма в пользу гражданского преобразования России и зачина общенациональной политической жизни (то, что по-английски можно назвать «national politics»), то глубинно конфессиональные основания государства налагали мощные ограничения и на способность, и на склонность большинства чиновников видеть в религиозной идентичности исключительно дело личного выбора[129]129
О выходе политической жизни на общенациональный уровень см: Steinwedel, Charles Robert. Invisible Threads of Empire: State, Religion, and Ethnicity in Tsarist Bashkiria, 1773–1917. Ph.D. diss. Columbia University, 1999. P. 267–313; Wcislo, Francis William. Reforming Rural Russia: State, Local Society, and National Politics, 1855–1914. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990.
[Закрыть]. Таким образом, с одной стороны, религиозное самосознание верующих и их индивидуальное чувство достоинства крепли, с другой – их религиозная идентичность хотя бы частично обуславливалась по-прежнему императивами государства.
Хотя религиозная реформа 1905 года определенно была следствием тогдашнего революционного кризиса, идея свободы совести имела важные предпосылки в годы и даже десятилетия, предшествовавшие революции. Уже к 1880-м годам отказ многих людей, в прежние времена якобы обращенных в православие, смириться с их номинальным статусом православных явился убедительным доказательством того, что религиозные убеждения несводимы к бюрократической приписке и что безоговорочный запрет на «отпадение» из православия нуждается в корректировке[130]130
Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора: Государство и церковь в эпоху Александра III. M.: AИРO-XX, 1996; Werth, Paul W. The Limits of Religious Ascription: Baptized Tatars and the Revision of «Apostasy», 1840s–1905 // Russian Review. 2000. Vol. 59. № 4. P. 493–511. О том, как появились эти группы, см.: Weeks, Theodore R. Between Rome and Tsargrad: The Uniate Church in Imperial Russia // Of Religion and Identity: Missions, Conversion, and Tolerance in the Russian Empire / Ed. Michael Khodarkovsky and Robert Geraci. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001; Гаврилин А.В. Очерки истории Рижской епархии XIX века. Рига, 1999. С. 73–182; Werth, Paul W. Coercion and Conversion: Violence and the Mass Baptism of the Volga Peoples, 1700–1764 // Kritika. 2003. Vol. 4. № 3. P. 543–570.
[Закрыть]. К началу XX века проблемы религиозной свободы оказались в центре внимания интеллектуальной и научной среды. Юристы более открыто критиковали существующее законодательство как устаревшее, вызванное к жизни преимущественно политической выгодой и досадно путающее понятия национальности и веры[131]131
См. пример такой критики: Рейснер M.A. Государство и верующая личность. Сборник статей. СПб., 1905. Пример позитивной оценки: Красножен M.Е. Иноверцы на Руси: К вопросу о свободе веры и о веротерпимости. Т. 1.: Положение неправославных христиан в России. 3-е изд. Юрьев, 1903.
[Закрыть]. Религия, экуменизм и индивидуальная свобода стали центральными темами для энергичной части русской интеллигенции Серебряного века; осуждение же православной церковью Льва Толстого в 1901 году сделало вопрос о религиозной свободе актуальным и для широкой публики[132]132
Read, Christopher. Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia, 1900–1912: The Vekhi Debate and Its Intellectual Background. New York: Barnes & Noble, 1980. Р. 13–39; Evtuhov, Catherine. The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1997; Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 452–499; Kolstш, Pеl. A Mass for a Heretic? The Controversy Over Lev Tolstoi’s Burial // Slavic Review. 2001. Vol. 60. № 1. P. 81–85; Фирсов С. Русская церковь накануне перемен: конец 1890-х – 1918 г. СПб., 2002. С. 99–125.
[Закрыть]. Словом, в начале XX века свобода вероисповедания и свобода совести, пусть и в различных формах, занимали видное место в публичном дискурсе.
Даже самодержавие, предпринимая накануне 1905 года скромные попытки реформ, обозначало теми или иными жестами готовность к некоторым послаблениям в конфессиональной политике. Хотя и взяв назад прямое высказывание о свободе совести, которое присутствовало в раннем проекте манифеста от февраля 1903 года, император Николай II в окончательной версии обещал «укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах Империи Российской»[133]133
ПСЗ-3. Т. 23. № 22581. О проекте манифеста см.: Власть и реформы: От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 445.
[Закрыть]. В конце 1904 года еще один указ пошел значительно дальше этого обязательства самодержавия лишь соблюдать собственные законы – на сей раз император наставлял правительство не только немедленно устранить «всякое, прямо в законе не установленное, стеснение», но и пересмотреть существующие нормы закона касательно неправославных конфессий[134]134
Там же. Т. 24. № 25495.
[Закрыть]. Состоявшийся пересмотр и привел к указу 17 апреля 1905 года, существенно либерализировавшему религиозный строй империи. Переход из одной христианской веры в другую был полностью легализован, некоторые секты получили по крайней мере молчаливое признание, а старообрядцы даже обрели нечто схожее со статусом признанной государством неправославной христианской конфессии[135]135
ПСЗ-3. Т. 25. № 26126.
[Закрыть].
Однако конфессиональный порядок, возникавший из этой реформы, не был ни завершенным, ни вполне прочным, ибо апрельский указ предусматривал разрешение многих вопросов только путем дальнейшей законодательной разработки. Манифест 17 октября 1905 года, изданный императором в пору еще более глубокого кризиса, только усложнил ситуацию – и тем, что открыто даровал российским подданным «свободу совести», и тем, что предусматривал введение Государственной думы, что значительно затруднило законодательный процесс. Поскольку новые законопроекты, призванные воплотить «свободу совести» в жизнь, стали предметом острых разногласий между законодателями и в конце концов так и не были одобрены, то в период 1905–1917 годов оставалось неясным, заменило ли – и если заменило, то как именно – объявление широкой, но туманно определенной «свободы совести» в манифесте 17 октября более скромные, но и более конкретные нормы апрельского указа[136]136
Подробный анализ законодательного процесса дается в работах: Waldron, Peter. Religious Reform after 1905: Old Believers and the Orthodox Church // Oxford Slavonic Papers. 1987. № 20. P. 110–139; Дорская A.A. Свобода совести в России: Судьба законопроектов начала XX века. СПб., 2001; Усманова Д. Мусульманская фракция и проблемы «свободы совести» в Государственной думе России, 1906–1917. Казань, 1999. С. 81–122; Ascher, Abraham. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late-Imperial Russia. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001. Р. 293–302.
[Закрыть].
Разумеется, неправославные охотно ссылались на октябрьский манифест, заявляя, что он устранил все недосказанности и оговорки, содержащиеся в апрельском указе[137]137
См., напр.: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2110. Л. 26 об. – 27; Ф. 821. Оп. 133. Д. 515. Л. 60 об. – 61.
[Закрыть]. Само же правительство было более осмотрительно. Департамент духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) отметил в 1906 году, что «свободу совести», о которой идет речь в манифесте, надо понимать «как расширение дарованных Указом 17 апреля вероисповедных облегчений и как предоставление каждому лицу полного самоопределения в вопросах веры»[138]138
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 260. Л. 121.
[Закрыть]. Однако последующая практика показала, что это определение не было в действительности полным, но вместо того обуславливалось главным образом нормами апрельского указа. В сущности, государство стало смотреть на манифест как на обещание «свободы совести», которое надлежало исполнить в новом законодательстве, а апрельский указ и серия дополнительных административных правил должны были регулировать вероисповедные дела вплоть до того момента, когда будет издано это новое законодательство. Попытки определить «свободу совести» не привели к сколько-нибудь реальному консенсусу даже с теоретической точки зрения. Один фланг составляли те, кто доказывал, что это понятие подразумевает устранение любых стеснений религиозной жизни, право не исповедовать никакой веры и, с оглядкой на современные события во Франции, полное отделение церкви от государства. Эти деятели стремились к тому, чтобы установить «правовое государство» и добиться признания веры вопросом личных убеждений. Они склонялись к оценке апрельского указа как определенного шага в деле расширения религиозной свободы, но при этом подчеркивали половинчатый характер этой меры, множество оговорок и ограничений и тот факт, что она так и не вводила полной свободы совести[139]139
См.: Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость. Сборник статей. СПб., 1905; Усманова Д. Мусульманская фракция. С. 81–86; Соколов В.К. Свобода совести и веротерпимость (историко-критический очерк) // Вестник права. 1905. № 5. С. 1–31; Скобельцина Ю. Свобода совести. СПб., 1906. Позиции социал-демократов и кадетов отражены в публикациях: За свободу совести. СПб., 1908; Проект закона о свободе совести, составленный партией народной свободы для внесения в Государственную думу. СПб., 1907.
[Закрыть]. Самым, вероятно, влиятельным из этих комментаторов был Михаил Рейснер, чьи работы изучались в ДДДИИ и послужили основанием для его первоначальных попыток наметить практический путь внедрения в жизнь свободы совести[140]140
Рейснер М.А. Государство и верующая личность. С. 390–423; Дорская А.А… Свобода совести в России.
[Закрыть]. Другие же наблюдатели полагали, что свобода совести может быть обеспечена лишь через сохранение известных ограничений, налагаемых на религиозную деятельность. Среди них было немало православных клириков, которые стояли на переднем фронте развернувшейся после 1905 года межконфессиональной борьбы. Они отвергали идею о том, что свобода индивидуальной веры требует неограниченной свободы публичного отправления веры, образования религиозных организаций и т. д. Для этих критиков свобода совести не означала свободы «пропаганды» (т. е. прозелитизма) или свободы «совращения» (т. е. такого обращения иноверцев, при котором использовалось осуждение религиозных истин и священных предметов их веры). С их точки зрения, совесть каждой личности заслуживала защиты от посягательств, особенно в том случае, если эти посягательства принимали крайнюю или «фанатическую» форму[141]141
Красножен М. К вопросу о свободе совести и о веротерпимости, Юрьев, 1905; Красножен М. Границы веротерпимости // Прибавления к Церковным ведомостям. 1905. № 34 (20 августа). С. 1429–1432; О безусловной свободе вероисповедания в России // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. 1905. № 18. С. 214–216; Никон, епископ Вологодский и Тотемский. Свобода совести имеет свои границы. СПб., б.д. [возможно, 1910]); Корен. Свобода совести, или инквизиция // Холмско-Варшавский епархиальный листок. 1905. № 39 (25 сентября). С. 469–471.
[Закрыть]. В своей важной справке 1906 года сам ДДДИИ выдвигал весьма широкое определение «свободы совести», но тут же добавлял, что эта свобода подлежит «ограничениям, основывающимся на требованиях государственного порядка»[142]142
ДДДИИ определял свободу совести как «право каждого обладающего достаточно созревшим самосознанием лица беспрепятственно и без всякого для него правового ущерба признавать или заявлять свою веру или даже отсутствие таковой». См.: Справка о свободе совести. СПб., 1906. С. 3. Проект справки см.: РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 39. Л. 7–59 об.
[Закрыть]. Итак, в течение последнего десятилетия старого режима смысл «свободы совести» оставался неясным и был предметом спора.
Если в каких-то отношениях реформа 1905 года упростила управление конфессиональным разнообразием в России (разрешив, например, многочисленным «упорствующим» переходить в неправославные исповедания), то в других отношениях она создала новые проблемы или оставила прежние проблемы нерешенными. С точки зрения смены конфессионального статуса после 1905 года четыре вопроса оказались особенно сложными: 1) переход некоторых бывших униатов в католицизм; 2) обращение из христианских в нехристианские исповедания; 3) обращение евреев в исповедания иные, чем иудаизм; 4) признание новых вероисповеданий и сект. Именно в ходе рассмотрения споров по этим четырем видам дел становилось все более очевидным неослабевающее напряжение между принципом личного самоопределения, с одной стороны, и императивами государства, с другой.
Наибольшее число переходов в другую веру после 1905 года пришлось на обращение из православия в католицизм. Среди перешедших было много бывших униатов, «воссоединенных» с православием бюрократическим путем в 1839 и 1875 годах. Апрельский указ узаконил обращения из одной христианской веры в другую, и такие переходы должны были бы совершаться запросто. Однако затруднения не замедлили возникнуть: указ не вводил даже временных норм, которые бы устанавливали, как именно подданные будут менять свою религиозную принадлежность. Бывшие униаты, которым переход в католицизм возбранялся десятилетиями, совершенно не желали дожидаться предписания четкой процедуры. Напротив, они немедленно устремились в католическую веру, и католические иерархи, не получив никаких разъяснений сверх апрельского указа, экспромтом ввели свой порядок принятия этих людей в католическую церковь. К тому времени, когда ДДДИИ издал в форме дополнения к апрельскому указу основные правила для перехода (циркуляр № 4628 от 18 августа 1905 года), десятки, если не сотни тысяч «упорствующих» были приняты в католическую церковь. Более того, католическое духовенство не было своевременно проинформировано об этом циркуляре, так что в некоторых случаях священники продолжали применять опробованный ими самостоятельно порядок вплоть до 1908 года[143]143
Циркуляр ДДДИИ № 4628 от 18 августа 1905 г. см.: РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 540. Л. 3–4. О самостоятельных действиях католического духовенства см.: Там же. Оп. 10. Д. 260. Л. 227–234; LVIA. Ф. 378. BS, 1905. В. 403.
[Закрыть]. Вследствие этого многие люди оказались принадлежащими, в сущности, к двум конфессиям одновременно: они были приняты в католицизм, но при этом не были официально исключены из рядов православных. Считая себя католиками, эти перешедшие сталкивались со множеством трудностей, когда обнаруживали, что власти не согласны с их самоидентификацией. Эти конвертанты подвергались преследованиям и даже наказаниям за то, что крестили детей в католичество или хоронили родственников на католических кладбищах. Учащимся школ и гимназий неожиданно отказывали в католическом религиозном обучении, заставляя их сдавать экзамен по православному Закону Божьему. Супругов извещали, что их, казалось бы, вполне обычный брак является на самом деле «смешанным» (т. е. межконфессиональным), что они нарушили закон, совершив брак по католическому обряду, и что их дети должны быть православными. А против многих католических священников возбуждались уголовные дела за «исполнение [католических] духовных треб лицам заведомо православного исповедания»[144]144
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 260. Л. 218, 233 oб., 231 oб.; Записка членов Государственного совета Мейштовича, Скирмунта и Лопатинского (15 января 1915 года) // РГИА. Печатные записки. Папка 743. С. 1–10 и приложения.
[Закрыть].
Правительство конечно же предвидело массовый исход номинально православных в католицизм после апрельского указа и поэтому не намеревалось сделать процедуру регистрации препятствием к таким обращениям. Но в той мере, в какой конфессиональная принадлежность оставалась одним из центральных аспектов социально-юридического статуса индивида, правительство не могло позволить, чтобы переходы совершались стихийно, без должной регистрации. Высокопоставленные чиновники по большей части стремились пойти навстречу конвертантам в ходе проведения такой регистрации. П.А. Столыпин и директор ДДДИИ А. Харузин отмечали в 1909 году, что большинство перешедших поступали благонамеренно и что образ действий правительства «должен отличаться особою осторожностью и обдуманностью». Генерал-губернатор Привислинского края Г. Скалон заявлял, что конвертантов следовало без всяких сомнений считать католиками и что в апрельском указе нигде не сказано, что смена веры зависит от предшествующего исключения из православных списков. Виленский губернатор отмечал в 1909 году, что требование, чтобы переходящие соблюдали все процедурные формальности, «могло бы быть несомненно истолковано как попытка вновь принудить к возвращению в православие и как мера произвольная»[145]145
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 260. Л. 218 oб. – 219, 222, 225 oб.
[Закрыть].
Однако, несмотря на эти добрые намерения, ничего конкретного не было сделано, и со временем – особенно после убийства Столыпина в 1911 году – власти стали менее снисходительными. Разительный пример – решение Сената по одному апелляционному делу. Сенат постановил, что любой человек, который остается православным согласно официальным записям, должен считаться «заведомо православным», пока в эти записи не внесено поправок. На этом основании в 1913 году ДДДИИ указал минскому губернатору, что такие люди «должны считаться заведомо православными до тех пор, пока они не будут по актам состояния перечислены в другое вероисповедание». Имелись также донесения о том, что минский губернатор стал утверждать, что даже на самый переход требуется «разрешение» властей, хотя циркуляры упоминали только о регистрации перехода[146]146
Записка членов Государственного совета. С. 5, 7, 73.
[Закрыть]. Видимо, окончательное решение последовало лишь тогда, когда три католика – члена Государственного совета подали в январе 1915 года протест против сложившейся ситуации. Взывая главным образом к чувству справедливости как таковому, эти сановники ссылались также на фактор мировой войны: «Крайне важно, чтобы люди, с оружием в руках отстаивающие честь и достоинство своей Родины и ежечасно рискующие своей жизнью, могли бы спокойно взирать на будущее своих семейств, будучи уверены, что ничто не угрожает ни их совести, ни их религиозным воззрениям»[147]147
Там же. С. 10.
[Закрыть]. Правительство в конце концов решило, что всех тех, кто ушел из православия до 1 ноября 1905 года, когда циркуляр № 4628 должен был стать известен всем и каждому, следует признать католиками с момента их принятия в католичество духовенством этой веры. Все остальные должны считаться православными до тех пор, пока не пройдут процедуру регистрации, предписанную циркуляром № 4628. Таким образом, спустя десять лет после начала реформы в апреле 1905 года правительство наконец ввело порядок, предусматривающий все возможные случаи. И все-таки примечательно, что это решение состоялось только в июле 1915 года, когда многие из перешедших в католицизм оказались под германской оккупацией и, следовательно, не могли им воспользоваться[148]148
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 260. Л. 219, 238–240. О переходе в католицизм после 1905 г. см. подробнее: Верт П. Трудный путь к католицизму: Совесть, вероисповедная принадлежность и гражданское состояние после 1905 г. // Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis. 2005. Vol. 26. Р. 447–475.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?