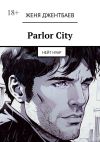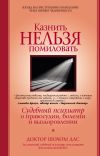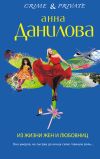Текст книги "Вечная ночь"

Автор книги: Полина Дашкова
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ладно, спасибо, я здесь выйду. Идти два шага, – сказала Оля шоферу.
Арка была ярко освещена. Оля увидела милицейскую машину с зажженными фарами. Рядом стояли и курили три милиционера. У нее почему-то екнуло сердце, она сразу подумала о детях, которые живут в этом бомжатнике, о Петюне и Люде, подошла и спросила, что случилось.
– Бомж повесился, – сердито ответил молодой лейтенант, отвернулся и сплюнул, – давно надо выселить их всех отсюда.
– А клоповник снести к чертовой матери, – добавил тот, что был в штатском.
Оля хотела пройти дальше, к своему подъезду, но все-таки решилась задать следующий вопрос:
– А дети?
Три милиционера посмотрели на нее удивленно.
– Какие дети?
– В этом доме живут мальчик и девочка, совсем маленькие. Квартира на четвертом этаже, справа от лестницы, номер я не знаю.
– Здесь нет номеров, – сказал лейтенант.
– Ну да, наверное. Не важно. Вы не могли бы проверить, все ли с ними в порядке?
«Что я делаю? Зачем?» – подумала она.
Осенью, после встречи с Петюней и Людой, она говорила о них со своей знакомой, которая работала заведующей в районной детской поликлинике.
– Допустим, мы добьемся лишения родительских прав мамаши-наркоманки, – сказала знакомая, – это трудно, но в принципе возможно. Детей отдадут в детский дом. Ты уверена, что им будет там лучше?
– По крайней мере, их там будут кормить, лечить, присматривать за ними. Они же совсем маленькие, – возразила Оля.
– Считаешь, государство о них позаботится? – усмехнулась знакомая.
– Ну, не знаю, хотя бы защитит, согреет.
– Может быть, – кивнула знакомая, – может быть. Ты возьмешь на себя право решать за них? Я точно не возьму. Слишком большая ответственность. У них есть мать, пусть шалава, но родная мамочка. Иногда она бывает трезвой и даже любит их по-своему.
– Идите домой, женщина, – сказал милиционер в штатском и бросил окурок.
– Значит, вы не станете проверять, все ли в порядке с детьми? – Оля сама не понимала, почему вдруг так разволновалась. – Ну, что вам стоит подняться? Мальчику года четыре, его зовут Петр. Девочка, Людмила, ей всего два.
– Это Райки Буханки дети, что ли? – спросил лейтенант и опять сплюнул.
– Ее, – ответил третий, молчавший до этой минуты, – других детей тут вроде бы нет.
– А, понятно, – кивнул лейтенант.
Из вонючего подъезда послышался вопль, двое милиционеров вывели лохматую толстую бабу в драной куртке и трикотажных штанах. Баба материлась, визжала. Ее стали запихивать в машину. Оле ничего не оставалось, как уйти домой.
Конечно, не стоило лезть в чужую, грязную жизнь, не стоило приставать к милиционерам. Глупо и бессмысленно. Вообще, наверное, все бессмысленно. У этих детей, Петюни и Люды, своя судьба. У Жени Качаловой тоже – судьба. Профессор Гущенко считает, что между жертвой и убийцей существует особая энергетическая связь еще задолго до того, как они встречаются. Их тянет друг к другу, и ничего изменить нельзя.
Оля вдруг подумала, что, если всерьез поверить в это, можно сойти с ума. Ей захотелось спросить Кирилла Петровича – как же он живет и работает с этим?
Глава двадцать первая
Сколько в одном человеке газов? Много. Хватит на всю ночь.
Старика Никонова перевели в бокс. Вместо него на соседнюю койку положили жирного пожилого дебила с бабьим лицом, узкими покатыми плечами и необычайно широким тазом. Дебил скинул одеяло и, повернувшись к Марку задницей, устроил настоящую газовую атаку.
«По крайней мере, здесь я в относительной безопасности», – утешался Марк, все еще не решаясь задать себе главный вопрос: что дальше?
Толстозадый сосед продолжал свою гнусную атаку. Марка тошнило от вони, он не мог уснуть.
Если случались у него периоды бессонницы, то часы перед рассветом оказывались самыми тяжелыми. Что-то происходило. Умирающая ночь заражала его страхом смерти. Ему едва исполнилось сорок, он был здоров, полон сил. Но ужас надвигающейся старости, физического небытия душил его бессонными ночами, перед рассветом.
Сон – репетиция смерти. Бессонница – репетиция того, что приходит вслед за смертью. Во сне ты все видишь, слышишь, чувствуешь запахи, отлично соображаешь, но не владеешь своим телом. Во время бессонницы ты не владеешь куда более важным орудием. Тебе отказывает самооправдание. Каждый поступок, совершенный вчера или двадцать лет назад, вспоминается во всем своем безобразии, и непонятно, что с этим делать, как быть с собой, со своей жизнью, с предстоящей неминуемой смертью, и что там, за ее пределами? Кокаиновый рай? Апофеоз пофигизма? Волшебный сад де Сада, наполненный красивыми, покорными, никогда не взрослеющими детьми? Или рогатые черти с красными сковородками?
Когда-то он хотел быть знаменитым. Он искренне считал себя гением и ненавидел других, которые не желали признавать его гениальности. Формула «они просто завидуют мне» давала временное облегчение, действовала как антидепрессант, но потом становилось еще хуже.
Он активно тусовался, пропадал в ночных клубах, нюхал кокаин. У него всегда было мало денег, не хватало на любимый наркотик, и он выискивал на тусовках некрасивых девиц из состоятельных семей, изображал влюбленность, тянул деньги.
Кокаин делал его обаятельным, остроумным, неутомимым. Он мог всю ночь заниматься сексом, как автомат, а потом за день написать какой-нибудь рассказ, в полной уверенности, что и то и другое он делает гениально.
Но когда кончалось действие наркотика, приходила депрессия, дикая, неуемная тоска, ненависть к миру, к людям, к самому себе. Начинались галлюцинации. Ему казалось, что кто-то невидимый, враждебный прикасается к нему, что под кожей у него шевелятся насекомые, клопы и черви.
Однажды он схватил нож, чтобы сделать надрез на руке, извлечь эту мерзость. Боль и вид собственной крови подействовали на него отрезвляюще. Он понял, что так продолжаться не может.
Кокаин, в отличие от других наркотиков, не вызывает физической зависимости, только психическую. Марк был достаточно сильным человеком, чтобы справиться с этим.
Он сумел избавиться от кокаиновой зависимости и поклялся себе, что больше никогда не подсядет.
Но без наркотиков депрессия почти не оставляла его. Не было никаких галлюцинаций, ничего вообще не было. Он не мог написать ни строчки. От людей тошнило, все казались уродами, хотелось остаться одному. Но наедине с собой он томился черной скукой. Ему нужны были постоянные внешние подтверждения своего присутствия во времени и пространстве. Правда, в последние пять лет время для него исчислялось простой формулой «все сдохнем», а пространство съежилось и отвердело в одном зубодробительном слове «бардак». Ничего более интересного он не мог не только сказать, но даже подумать.
Марку Хохлову было скучно всегда и везде.
Он не сомневался, что другим тоже. Большинство поступков совершается от скуки. Есть, конечно, иные мотивы. Жадность, похоть, зависть, инстинкт самосохранения, тщеславие, наконец. Но это вторично. В основе только скука. Жирная желеобразная гадина. Всю жизнь она пыталась уничтожить Марка, навалиться и задушить. Когда он был ребенком, она являлась ему в образе воспитательницы детского сада, учительницы, директора школы, наконец, собственных его родителей.
Скучным было детство. Вечный грязно-белый фон панельных стен, закопченных сугробов зимой, чахлой пыльной зелени летом. Окраина Москвы. Тухлые семидесятые. Синяя форма у мальчиков, черно-коричневая у девочек. Училки в кримплене. Кино про красных партизан. Колбаса по два двадцать. Ежевечерняя мелодия программы «Время». Бред собраний, сначала пионерских, потом комсомольских. Дни рождения с непременным жирным тортом, жидким чаем и липким лимонадом.
Так было устроено его зрение, что все уродливое увеличивалось, наливалось ярчайшими красками, надолго застревало в памяти. Окурок, размокший в унитазе школьного туалета. Раздавленный голубь на мостовой. Соседка по парте, тайком поедающая собственные козявки. Хлопья перхоти на синем сатиновом халате учителя труда. Глядя на любого человека, он видел не лицо, а гаденькие подробности: какой-нибудь прыщ, бородавку, родинку или испорченный зуб во рту.
Марк был еще маленьким мальчиком, а уже отличался особенной, изощренной наблюдательностью. Ничто не ускользало от его внимательного взгляда. Он замечал и сообщал товарищам, что учительница математики носит парик и рисует брови черным карандашом. Что у директрисы волосатые кривые ноги и под прозрачным капроном чулка получается лохматая воздушная прослойка. Что у англичанки жирная кожа, а пионервожатая чем-то набивает свой лифчик; что физкультурник пьет и у него вставная челюсть.
Дома было еще гаже, чем в школе. Психопатка мать, которую не интересовало ничего, кроме чешского хрусталя, афганских ковров, своего пищеварения и кровяного давления. Сентиментальна до соплей, но по сути равнодушна и безжалостна. Рыдала перед телеэкраном, когда показывали фильмы про войну и про любовь, и орала на собственного сына из-за пятна на рубашке или разбитой тарелки. Отец, тихий, с кислым нездоровым запашком, с тремя волосинами, прилипшими к бледной лысине.
Оскорбительно было иметь таких родителей, жить в такой квартире, учиться в такой школе. Марк чувствовал себя чужаком, попавшим по жестокому недоразумению в мир говорящих кукол и фанерных декораций. Он знал, что достоин большего, и, если кто-то рядом имел больше, чем он, эта несправедливость жгла ему душу.
Убогий советский ширпотреб давал богатую пищу для переживаний. Любая импортная мелочь была посланием из другого мира, из настоящей жизни, свободной и яркой. Пластинка жвачки, изящная подробная моделька гоночного автомобиля, толстенная шариковая ручка с множеством разноцветных стержней, джинсы, пусть даже индийские или польские.
У кого-то отец был летчиком и привозил разные штучки из-за границы. У кого-то мать работала кассиршей в большом универмаге и доставала нечто импортное, красивое, вкусное. Кто-то каждый день жрал бутерброды с настоящим финским сервелатом. Кто-то зимой ходил не в сером в елочку пальто с цигейковым воротником, а в невесомом пуховике с толстой молнией и серебряными нашивками. Кто-то умел стоять на руках, шевелить ушами, складывать язык трубочкой.
Один мальчик в пятом классе принес иностранный потрепанный журнал. На цветных фотографиях голые женщины в разных позах щедро показывали все, что принято скрывать. Пятиклассники жадно рассматривали глянцевые прелести на пустыре за школой, у помойных контейнеров. Это было вкуснее сервелата и круче джинсов. Образовалась очередь. Дети стукались лбами, толкали друг друга, пыхтели, шумно сглатывали слюну. Мальчик с журналом на несколько дней стал самой популярной личностью в классе.
В отличие от большинства взрослых, Марк никогда не забывал, как на самом деле испорчены и порочны дети, особенно когда собираются в коллектив, как озабочены они вопросами пола, совокупления, как горят глаза, сопят носы. Чистота детства – лицемерный миф. Лицемерие – одна из составляющих раствора пошлости, мутной кислотно-щелочной субстанции, в которой барахтается слепо-глухо-немое человечество.
Именно с этой фразы он начал когда-то свой первый рассказ. Тогда он мечтал об огромной, всемирной писательской славе.
Теперь ему хотелось денег.
Какая слава при его бизнесе? Наоборот, нужна полнейшая анонимность, лучше вообще стать невидимкой.
До того как он попал сюда, у него не было свободного времени. Он либо занимался своим бизнесом, либо активно отдыхал, оттягивался в ночных клубах, в казино. Единственным стимулятором, который он позволял себе после избавления от кокаиновой зависимости, была виагра. И еще деньги. Его бизнес постепенно стал приносить реальный, серьезный доход.
Он вкусно ел и отлично разбирался в московских ресторанах, он шнырял по дорогим магазинам, покупал себе шмотки и получал от этого почти эротическое удовольствие. У него были не просто рубашки, а от «Бум-бум», не просто джинсы, а от «Пук-пук». И трусы шелковые в клеточку от «Фак-фак». У него была цель, даже несколько целей, по нарастающей. Платиновый «Ролекс», «Мерседес»-кабриолет, квартира в центре, дом на Рублевке. Это могло бы хоть как-то примирить его с несправедливостью и мерзостью жизни. Пока он утешался скромной «Сейкой», тремя съемными квартирами, старым «Фольксвагеном», а шмотки покупал только на распродажах.
Газовая атака продолжалась. За решетчатым окном светало. Бессонная ночь готовилась умереть. Марк понял, что мучает его вовсе не вонь, не отсутствие нормальной еды, сигарет, кофе, а собственные мысли.
Когда нечего делать, поневоле приходится думать. Оказывается, это самое отвратительное занятие на свете, хуже любой ломки.
* * *
Дома Олю встретил мрачный обиженный муж. У Андрюши была нормальная температура, но красное горло. Катя уже спала. Оля принесла сыну в постель ромашковый чай с лимоном, посидела с ним, пока он пил.
– Мам, можно я завтра не пойду в школу? – спросил Андрюша.
– Ладно, не ходи.
– Как прошла съемка? – спросил Саня, когда она вышла на кухню покурить.
– Нормально. Завтра вечером посмотрим, что получилось.
– Зачем тебе это нужно, Оля?
– Что именно?
– Вся эта мерзость. Маньяки. Трупы, облитые маслом. Детское порно.
– Саня, я не смогу спокойно жить, пока не поймают Молоха, я постоянно думаю об этом. – У нее не было сил говорить, объяснять что-то.
– Ты собираешься опять работать с Соловьевым?
– Не знаю.
Несколько минут они сидели молча, не глядя друг на друга. Потом Саня встал и вышел.
Черта, проведенная из одной временной точки в другую, все-таки существовала. Оля чувствовала, как режет ступни этот воображаемый канат. Она опять бежала от себя к себе, через двадцать лет, в обратном направлении.
Что там? Плотное темное кружево листьев в центре Москвы, в конце июля. Пресный пресненский дождик. Дом с лилиями. Сумасшедшая старуха на крыльце. Лапки и мордочка мертвого соболя на ее суконной груди. Нарисованные брови. Кровавый вампирский рот. Конечно, это не кровь, а губная помада. Но все равно страшно.
Двадцать лет назад Оля встретилась с Димой Соловьевым именно там, в глубине двора, у дома с лилиями. Он ждал ее, сидел, курил на сломанной ограде, отделявшей двор от переулка. Они не разговаривали с марта. И вот он позвонил, сказал, что надо поговорить. Она уже знала: это в последний раз. Она все решила и считала, что сделала правильный, разумный выбор.
Ее ожидало дома, в платяном шкафу, свадебное платье, похожее на мыльную пену. Она выходила замуж за Филиппова, за надежного уютного Саню. Он тоже ждал ее дома, пил чай на кухне с ее родителями. Дима позвонил из автомата, попросил выйти во двор. Трое за кухонным столом смотрели на нее с пониманием. Конечно, иди, Оленька, поговори с ним, попрощайся по-хорошему.
Да, им с Димой следовало поговорить. Но они не сказали ни слова, даже не поздоровались. Они стали целоваться, как сумасшедшие. Шумел теплый дождь, качалась сломанная ограда. Они оторвались друг от друга. Она убежала, он не окликнул. Или все-таки окликнул, но она не услышала из-за шума дождя и проклятий сумасшедшей старухи.
На самом деле бедняга Слава Лазаревна к тому времени уже умерла. На крыльце сидел всего лишь призрак. Но за свою долгую безумную старость дворовая ведьма успела выкрикнуть столько страшных проклятий, что воздух в глубине двора был пропитан ими насквозь.
«Может быть, поэтому я тогда и убежала? – вдруг подумала Оля. – Сумасшедшая старуха проклинала меня с того света, когда я в последний раз встретилась с Димкой и целовалась с ним. Покойница Славушка помешала мне стать счастливой. Господи, как все просто получается, нет ни свободного выбора, ни личной ответственности. Кто-то другой виноват, не я. С меня взятки гладки. Между прочим, профессор Гущенко считает, что в основе большинства наших нелепых взрослых поступков лежат детские страхи».
– Вот смотри, Оленька, – говорил Кирилл Петрович, – ты до сих пор не можешь забыть то, что пугало тебя в детстве. Толпа. Подвижный пол в лифте. Безумная старуха. Иррациональный ужас, загнанный внутрь, в подсознание, косвенно влияет на твою взрослую жизнь. В определенном смысле, он формируют твою судьбу.
Профессор предлагал соотносить застарелые детские страхи с важными взрослыми поступками, с моментами выбора. Это было необходимо для того, чтобы лучше понять логику фобии. Логику серийного убийцы. Олина история про старуху Славушку очень понравилась Кириллу Петровичу.
– А теперь представим, – говорил он, – что такая бабка была не во дворе, а значительно ближе. В доме. Она – соседка по коммуналке, родственница или вообще главный взрослый твоего детства. Ты зависишь от нее. Каждый день наполнен ее злом и твоим страхом. Ты вдыхаешь вместе с воздухом миазмы зла. Эта жуткая смесь оседает в твоей душе, постепенно замещая все прочее. Ты перерождаешься, становишься другим существом. В тебе не остается ничего нормального, человеческого. Твоя личностная доминанта замещается абсолютно чуждой субстанцией, как если бы скелет состоял не из костной ткани, а из металла.
Окно в кухне было открыто, мелкий дождь стучал по карнизу, Оля ежилась от холода. Логика фобии, миазмы зла. Кирилл Петрович даже пытался гипнотизировать Олю, чтобы она вспомнила все как можно подробней. Но доктор Филиппова гипнозу не поддавалась, в самый ответственный момент на нее нападал приступ смеха, как от щекотки. А профессор Гущенко в период охоты на Молоха становился серьезней и напряженней с каждым днем.
Кирилл Петрович вообще был человеком замкнутым, скрытным, и это понятно. Мало кому приходилось так подробно, так глубоко влезать в сознание злодеев, уходить в их унылый жуткий внутренний мир и существовать там вместе с ними, по их законам. Детские страхи и психологические травмы он считал главной и единственной причиной половых психопатий. Оле он говорил, что сумасшедшая старуха из ее детства должна послужить пусковым механизмом для вживания в образ чудовища.
– Старуха Славушка поможет тебе думать и чувствовать, как Молох.
– Но у Молоха не было в детстве злой старухи, – однажды возразила Оля, – у него совсем другие проблемы. Мама его обожала, наверное, была еще и бабушка, добрая, заботливая. Они сдували с него пылинки, баловали, закармливали жирным и сладким. Он родился после войны, мама и бабушка знали, что такое голод, и еда казалась им символом здоровья, счастья, любви. Но была девочка, которая посмеялась над ним из-за его импотенции. Он убил ее за это. Постоянным травмирующим фактором стали не внешние обстоятельства, а его собственная ущербность, его неспособность решить свои внутренние проблемы на внутреннем уровне. Его бездарность и слабость. Миазмы зла были в нем самом.
Кирилл Петрович вдруг взбесился, стал кричать:
– Откуда ты знаешь? Что ты чушь несешь?
Оля всего лишь повторила то, о чем писала в поисковом профиле. Кирилл Петрович всегда терпимо относился к чужому мнению, но тогда вдруг сорвался. Лицо побагровело, на лбу вздулись синие жилы. На миг Оле показалось, что он сейчас кинется на нее с кулаками, даже стало не по себе, что они одни в кабинете. Но, конечно, он не кинулся, вылетел вон, хлопнув дверью.
А на следующий день стало известно, что новый министр подписал приказ о прекращении финансирования и роспуске группы профессора Гущенко. Кирилл Петрович сорвался потому, что уже знал о приказе. Более того, знал, что именно Оля косвенно виновата в этом. Ей пришла в голову идея о связи убийств с индустрией детского порно. В результате вскрылась сеть «Вербена», разразился скандал, полетели чиновничьи головы, и новый министр решил ликвидировать всю группу.
Прежний министр обожал все западное, американское, и пытался реформировать структуру МВД по образу и подобию полиции США. Новый объявлял себя патриотом и говорил, что для России унизительно подражать Западу. Институт профайлеров считал шарлатанством, пустой тратой денег и времени.
Впрочем, взаимное раздражение внутри группы к тому моменту достигло точки кипения. Гущенко собрал, как он сам выражался, «штучных» людей. Каждый внутри себя был гений. Каждый считал свою версию единственно верной и не желал слушать других. Когда Оля заявила, что видит определенную связь между старой, вроде бы раскрытой серией давыдовского душителя и серией Молоха и даже не исключает, что убийца – один и тот же человек, над ней стали откровенно издеваться.
Дима предупредил ее тогда: не говори им. Она не послушала и получила по полной программе.
– Интересно, а чем же он занимался с восемьдесят шестого по две тысячи третий? Кроликов разводил? Пейзажи рисовал? У маньяков не бывает таких долгих периодов бездействия. И как тогда быть с твоей идеей о миссионерстве Молоха и детском порно? Или ты считаешь, что слепые сироты из давыдовского интерната тоже снимались в голом виде?
Она не возражала. Может быть, включалась старая фобия, страх толпы? Она терпеть не могла коллективных заседаний, собраний. Каждый из ее коллег по отдельности был умным и вовсе не агрессивным человеком, но как только они собирались и начинали что-то обсуждать, превращались в толпу.
– Давайте думать вместе! – командовал Кирилл Петрович.
Оля ничего не могла делать по команде, вместе, тем более думать.
– А ты скорчи умное лицо и говори: «Мг-м», – советовал Дима.
Она не жаловалась ему, что не может работать в группе. Он и так знал это.
Они с Димой до сих пор понимали друг друга с полуслова и вообще без всяких слов. В детстве у них была такая игра. Они шли по улице на расстоянии не меньше десяти метров друг от друга, она впереди, он сзади, или наоборот. Тот, кто шел вторым, мысленно просил первого: остановись! И первый останавливался. Второй чесал нос, шевелил бровями, показывал язык, тянул правой рукой себя за левое ухо, и первый, не оглядываясь, делал то же самое.
Ни у кого ничего подобного не получалось. Ни у кого, кроме ее детей-близнецов, у Андрюши и Кати, и то, когда они были совсем маленькими.
«Я существовала столько лет, не думая о Димке. На самом деле, в тот мокрый июльский день я исковеркала себе жизнь. Я все эти годы тосковала по нему, но боялась признаться себе в этом. А потом, когда мы встретились и стали работать вместе, я просто больше не могла себе врать. Дима Соловьев – единственный человек, которого я любила и люблю до сих пор. Мы расстались. В этом только я виновата. Не мама, не Саня. Я. Ну и что с того? Что дальше? У меня двое детей, Саня их отец».
Она знала, что Дима сейчас сидит у себя в конторе, один в кабинете, уткнувшись в компьютерный монитор, пытается добыть и переварить очередную порцию информации и злится на себя потому, что ждет ее звонка. Но сам, конечно, не позвонит ни за что. Он ведь сказал на прощание, полтора года назад:
– Если захочешь меня видеть, звони. Я сам не буду.
Оля очень хотела его видеть, каждый день тянула руку к телефону и отдергивала, как будто ее било током. Позвонить Диме просто так, без всякой уважительной причины, значило начать все заново. А это невозможно.
– Невозможно, невозможно, – шептала Оля, пробуя на вкус это скользкое слово.
Исцарапанный пластик кухонного стола, дверца шкафа с отбитым уголком, тишина коридора, теплый мрак комнат, в которых спят муж и дети, все вдруг показалось маленьким, беззащитным, обиженным. Старая квартира, семейное гнездо, где давно пора делать ремонт, никто не хочет мыть полы и посуду, подтекают краны, гудит холодильник, грохочет стиральная машина, прорастает картошка, в последний момент теряется чей-нибудь второй носок, вечно занят телефон и орет телевизор.
У детей начинается переходный возраст. Они постоянно ссорятся, мирятся, выясняют отношения. Им срочно нужно купить по новому мобильному телефону с видеокамерой, по ноутбуку, по паре роликов и еще полный набор летней обуви и одежды, поскольку оба выросли за год и ни во что не влезают.
Андрюша пытается говорить басом, и от этого у него першит в горле. Он отрастил чуб до носа, сутулится и встряхивает головой, откидывает свой чуб резким независимым жестом. Кате какая-то добрая подружка сказала, что у нее квадратная фигура. Теперь она не ест хлеб и упорно каждое утро делает свою сложную гимнастику. Андрюша живет в наушниках, из которых слышится вой, грохот, шаманское бормотание. Катя без конца заполняет какие-то анкеты в глянцевых журналах для девочек. «Узнай свой характер!», «Хорошая ли ты подруга?», «Что мешает тебе избавиться от комплексов и стать крутой?». Лежа на полу посреди комнаты, Катя ставит плюсы и минусы, подсчитывает результаты. Она занимается этой ерундой потому, что ей не хватает внимания, общения. Узнать себя в этом возрасте можно, если много говорить о себе вслух, так, чтобы слушали, не упуская ни слова, вникали во все мелочи, которые посторонним кажутся чепухой.
– Твоих маньяков и психов ты любишь больше, чем нас! – крикнул однажды Андрюша.
Именно после этого она ушла из судебной медицины. Дело ведь не только в том, что разогнали группу Гущенко. Она могла остаться в институте и очень хотела остаться. Но опять сработала старая идиотская формула: «Определи, что ты хочешь, и поступай с точностью до наоборот».
– Ты спать собираешься? – Саня возник на пороге, сердитый, бледный, в своем заношенном халате и рваных шлепанцах.
– Сейчас иду. Ты ложись, Санечка, не жди меня.
– Сидишь тут, дымишь, как паровоз, мерзнешь. – Он шагнул к ней, обнял, уткнулся носом в ее макушку и пробормотал чуть слышно: – Оля, у нас все плохо, да?
– Почему? У нас все замечательно.
– Ты уверена?
– Конечно, Санечка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?