Текст книги "Страж мертвеца"
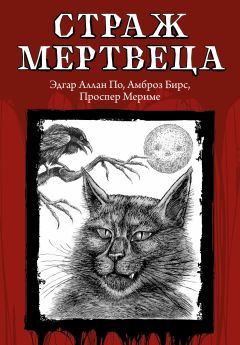
Автор книги: Проспер Мериме
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Эдгар Аллан По
Элеонора

Я принадлежу к роду, отличавшемуся пламенным воображением и пылкими страстями. Люди назвали меня сумасшедшим, но еще вопрос, не представляет ли сумасшествие высшей степени разумения, не возникает ли все славное и глубокое из расстройства мысли, из особенных настроений души, экзальтированной насчет рассудка. Те, кто видит сны наяву, открывают много вещей, ускользающих от тех, кто видит сны только ночью. В своих тусклых видениях они заглядывают в вечность и содрогаются, пробудившись и замечая, что стояли на краю великой тайны. Урывками они научаются мудрости, которая есть добро, и еще более простому знанию, которое есть зло. Они проникают без руля и без компаса в безбрежный океан «света неизреченнаго» и подобно путешественникам нубийского географа «agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi»[16]16
Вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем (лат.).
[Закрыть].
Хорошо, пусть я буду сумасшедший. Я согласен, что мое духовное существование представляет две фазы: одна – состояние бесспорно здравого рассудка, связанное с воспоминаниями о ранней эпохе моей жизни, другая – состояние тумана и сомнений, связанное с настоящим и с воспоминаниями о второй великой эре моего бытия. Итак, всему, что я буду рассказывать о ранней эпохе, верьте; а рассказу о позднейшем периоде доверяйте лишь в той мере, в какой он покажется вам заслуживающим доверия; или вовсе не верьте, или, если не верить не можете, сыграйте роль Эдипа этой загадки.
Та, которую любил я в юности и о которой пишу теперь спокойно и хладнокровно, была единственной дочерью единственной сестры моей покойной матери. Ее звали Элеонора. Мы всегда жили вместе, под тропическим солнцем, в долине Разноцветных Трав. Ни один путник не проходил без проводника по этой долине, так как она лежит далеко, среди гигантских холмов, нависших над нею со всех сторон и защищающих от солнечного света ее уютные уголки. Никакой тропинки не видно кругом, и, чтобы добраться до нашего счастливого приюта, надо было пробиваться сквозь листву тысяч лесных деревьев и погубить, растоптать миллионы благоуханных цветов. Так вышло, что жили мы одни – я, моя кузина и ее мать, – и мир для нас замыкался в пределах этой долины.
Из туманных областей за горами на верхнем конце наших владений пробиралась узкая и глубокая речка, светлая – только глаза Элеоноры были еще светлее – и тихая; извиваясь прихотливыми петлями, она исчезала в темном ущелье между холмами еще более туманными, чем те, откуда она выходила. Мы называли ее «рекою Молчания», потому что в течении ее было что-то успокоительное. Тихо, без ропота, катились ее струи и так нежно скользили, пробираясь по долине, что камешки, жемчужным блеском которых мы часто любовались, лежали не шевелясь на дне речки, не меняя места, застыв навеки в своем лучезарном сиянии.
Берега реки и серебристых ручейков, впадавших в нее извилистыми лентами, и промежутки между берегом и каменистым ложем реки, и вся долина до опоясывавших ее гор были одеты нежной зеленой травой, густой, короткой, ровной, издававшей запах ванили и так чудно украшенной желтыми лютиками, белыми маргаритками, пурпурными фиалками и рубиново-красными лилиями, что эта беспримерная красота говорила нашим сердцам о любви и славе Божией.
Там и сям по долине возвышались, подобно призракам, группы фантастических деревьев; их тонкие стволы не стояли прямо, но грациозно изгибались к свету, озарявшему в полдень центральную часть долины. Их кора, нежная – только щеки Элеоноры были еще нежнее – и гладкая, пестрела яркими оттенками серебра и черного дерева, так что если бы не изумрудная зелень листьев, которые свешивались с их вершин длинными гирляндами, играя с ветерком, их можно бы было принять за колоссальных сирийских змей, воздающих почести своему владыке Солнцу.
Пятнадцать лет бродили мы рука об руку по этой долине, прежде чем любовь вошла в наши сердца. Однажды вечером, в конце третьего люстра ее жизни и четвертого моей, мы сидели обнявшись в тени подобных змеям деревьев и смотрели на наше отражение в водах реки Молчания. Мы ничего не говорили в последние часы этого чудного дня и даже на следующий день обменялись лишь немногими и робкими словами. Мы вызвали бога Эроса из волн реки – и он воспламенил в нас бурную кровь наших предков. Страсти, которыми отличался наш род в течение многих столетий, явились вместе с грезами, повеяв упоительным блаженством на долину Разноцветных Трав. Все изменилось в ней. Странные блистательные, подобные звездам, цветы распустились на деревьях, где раньше не было ни одного цветка. Оттенки зеленого ковра сгустились, и на месте белых маргариток, исчезавших одна за другою, выросли десятками рубиново-красные лилии. Жизнь возникала всюду, куда мы ступали, потому что стройный фламинго, дотоле невиданный в нашей долине, развернул перед нами свои пурпурные крылья в толпе веселых пестрых птиц. Золотые и серебряные рыбки засуетились в реке, из недр которой поднялся тихий ропот и мало-помалу превратился в божественную мелодию – нежнее Эоловой арфы, музыкальнее всех звуков – только голос Элеоноры был еще музыкальнее. И огромное облако, которое мы давно замечали в области Геспера, выплыло оттуда, сияя пурпуром и золотом и осеняя нас своей мирной тенью, опускалось все ниже и ниже, пока края его не остановились на вершинах холмов, превратив их туманы в великолепие и как бы навеки заключив нас в волшебную тюрьму пышности и блеска.
Элеонора блистала красотой серафима, но была она девушка простая и невинная, как ее скоротечная жизнь среди цветов. Она не таила лукаво страсти, воспламенившей ей сердце, но вместе со мною раскрывала ее самые тайные уголки, когда мы бродили рука об руку по долине Разноцветных Трав и говорили о великих переменах, происшедших в ней.
Но однажды, в слезах, она упомянула о последней скорбной перемене, которая должна постигнуть человечество, и с тех пор уже не разлучалась с этой грустной темой, вводя ее во все наши беседы, как в песнях Ширазского поэта одни и те же образы повторяются снова и снова в каждой строфе.
Она знала, что Смерть прикоснулась к ее груди, что ей суждено было, подобно эфемериде, явиться совершенством красоты лишь для того, чтобы умереть, – но ужас могилы сосредоточивался для нее в одной мысли, которую она открыла мне однажды в сумерках на берегу реки Молчания. Она скорбела при мысли, что, похоронив ее в долине Разноцветных Трав, я покину навсегда наш мирный приют и подарю свою любовь, теперь всецело принадлежавшую ей, какой-нибудь девушке из чужого будничного мира. И я бросился к ногам Элеоноры и клялся ей и небесам, что никогда не скую себя брачными узами с дочерью Земли, никогда не изменю ее памяти – воспоминанию о благоговейном чувстве, которое она вдохнула мне. И я призывал Владыку Вселенной в свидетели моего обета. И проклятие, которое я призывал на свою голову от Него и от нея, святой, чье жилище будет в царстве блаженных духов, проклятие, которое должно было обрушиться на меня, если бы я изменил своему обету, карало меня такой ужасной казнью, что я не решаюсь говорить о ней здесь. И светлые глаза Элеоноры еще более просветлели при моих словах; она вздохнула, как будто смертная тяжесть свалилась с ее груди; она задрожала и горько заплакала, но приняла мой обет (ведь она была ребенок!) – и он усладил ей час кончины. И спустя несколько дней, спокойно расставаясь с жизнью, она сказала мне, что за все, что я сделал для успокоения ее души, она будет бодрствовать надо мною и являться мне в ночной тиши, если же этого не дано блаженным духам, – будет извещать меня о своем присутствии, вздыхать в дуновении вечернего ветра или веять на меня ароматом кадильниц ангелов. И с этими словами окончилась ее непорочная жизнь, положив предел первой эпохе моего существования.
Все, что я говорил до сих пор, истинно. Но, переступая грань на тропинке Времени, поставленную смертью моей возлюбленной, и переходя ко второй эре моего существования, я чувствую, что тени сгущаются в моем мозгу, и сам сомневаюсь в безусловной точности моего рассказа. Но буду продолжать. Годы влачились за годами, а я все еще жил в долине Разноцветных Трав; но в ней снова все переменилось. Блистательные цветы спрятались в стволы деревьев и больше не появлялись. Краски зеленого ковра побледнели; рубиново-красные лилии исчезли одна за другой, а на их месте выросли фиалки, темные, подобные глазам, которые грустно хмурились и плакали, покрытые росою. И жизнь исчезла с тех мест, где мы ступали, потому что стройный фламинго уже не развертывал перед нами своих пурпурных крыльев; он печально улетел за горы с толпою веселых пестрых птиц, явившихся вместе с ним. И золотые и серебряные рыбки уплыли через ущелье на нижнем конце нашей долины и никогда уже не появлялись на поверхности тихой речки. И мелодия, что была нежнее Эоловой арфы и музыкальнее всех звуков, кроме голоса Элеоноры, замерла мало-помалу в грустном ропоте, который становился все тише и тише, пока речка не вернулась к своему прежнему торжественному безмолвию; и огромное облако поднялось, оставляя на вершинах гор прежний тусклый туман, и вернулось в область Геспера, унося с собой всю пышность, и роскошь, и лучезарный блеск долины Разноцветных Трав.
Но Элеонора не забыла своего обещания, потому что я слышал бряцанье небесных кадильниц; и волны священных ароматов обвевали долину; и в минуты тяжкого уединения, когда скорбь давила мне сердце, ветерок приносил мне ее нежные вздохи; и часто в ночной тиши я слышал неясный шепот, а однажды – о, только однажды! – меня пробудило от сна, подобного смерти, прикосновение ее призрачных губ к моим губам.
Но пустота моего сердца не могла быть наполнена. Я жаждал любви, такой же, как та, что раньше наполняла мое существо. Наконец, долина стала меня терзать воспоминаниями об Элеоноре, и я навеки оставил ее для суетных и шумных успехов.
* * *
Я очутился в странном городе, где все стремилось изгладить из моей памяти сладкие грезы, которым я предавался так долго в долине Разноцветных Трав. Пышность и блеск гордого Двора, безумный звон оружия, лучезарная красота женщин отуманили и отравили мой мозг. Но душа моя оставалась верной своему обету, и присутствие Элеоноры по-прежнему обнаруживалось в безмолвные часы ночи. Но внезапно эти явления прекратились, и мир для меня оделся мглою, и я ужасался жгучих мыслей и страшных искушений, осаждавших меня; потому что из далеких, неведомых стран явилась к веселому Двору короля, у которого я служил, девушка – и перед ее красотой пало мое изменническое сердце, к ее ногам я склонился без колебаний в самом пылком, в самом низком обожании. Что была моя любовь к юной девушке долины перед страстью и бешенством, перед экстазом обожания, в котором изливалась моя душа у ног воздушной Эрменгарды.
– О, светлый серафим Эрменгарда! – вот все, о чем я мог думать. – О, небесный ангел Эрменгарда!
Когда я глядел в ее глубокие глаза, я мечтал только о них – и о ней.
Мы обвенчались, и я не страшился проклятия, которое навлек на свою голову, и его горечь не посетила меня. И однажды – но только однажды, в ночном безмолвии ко мне донеслись сквозь решетку окна нежные вздохи, приносившие мне прощение; и превратились они в знакомый сладкий голос, говоривший:
– Спи с миром, – потому что дух Любви царит и правит, и, отдав свое страстное сердце той, которую зовут Эрменгарда, ты освободился от обетов Элеоноре в силу решений, о которых узнаешь на небесах.
Перевод М. Энгельгардта, 1896 г.

Амброз Бирс
Настоящее чудовище

I
Последний человек, который приехал в Хэрди-Гэрди, не вызвал к себе ни малейшего интереса. Его даже не окрестили каким-нибудь красноречивым прозвищем, которым в лагерях старателей так часто приветствуют новичков. Во всяком другом лагере уже одно это обстоятельство обеспечило бы ему какую-нибудь кличку вроде Беспрозванного или Непомнящего. Но в Хэрди-Гэрди дело обстояло не так.
Его приезд не вызвал ни малейшей зыби любопытства на социальной поверхности Хэрди-Гэрди, ибо к общекалифорнийскому пренебрежению к биографии своих граждан это местечко присоединяло еще свое социальное равнодушие. Давно прошли те времена, когда кто-нибудь интересовался, кто приехал в Хэрди-Гэрди или вообще приехал ли кто-нибудь. Никто не жил теперь в Хэрди-Гэрди.
Два года назад лагерь мог похвастаться деятельным населением из двух или трех тысяч мужчин и не менее дюжины женщин. В течение нескольких недель люди упорно трудились, но золота не обнаружили. Они обнаружили только исключительную игривость характера того человека, который заманил их сюда своими побасенками о скрытых будто бы здесь богатых залежах золота. Материальной выгоды от этих трудов не было, таким образом, никакой, но из этого не следует, что они дали трудившимся хотя бы какое-то нравственное удовлетворение. Уже на третий день существования лагеря пуля из револьвера одного общественно-настроенного гражданина навсегда избавила фантазера от каких-либо нареканий. Тем не менее его вымысел не был лишен некоторого фактического основания, и многие из старателей еще долго околачивались в Хэрди-Гэрди и его окрестностях. Но все это миновало, и теперь все давно уже разбежались и разъехались.
Старатели оставили немало следов своего пребывания. От того места, где Индейский ручей впадает в реку Сан-Хаун-Смит, вдоль обоих его берегов и вплоть до ущелья, из которого он вытекает, тянулся двойной ряд покинутых хижин, которые, казалось, сейчас упадут друг другу в объятия, чтобы вместе оплакивать свою заброшенность; почти такое же количество построек взгромоздилось с обеих сторон на откосы; казалось, что, достигнув командующих пунктов, они наклонились вперед, чтобы получше рассмотреть эту сентиментальную сцену. Большая часть этих построек превратилась, словно от голода, в какие-то скелеты домов, на которых болтались неприглядные лохмотья чего-то, что могло показаться кожей, но в действительности было холстом. Маленькая долина ручья, изодранная и расковыренная киркой и лопатой, имела вид чрезвычайно неприятный; длинные извилистые полоски высыхающих шлюзных желобов отдыхали кое-где на вершинах остроконечных хребтов и неуклюже, словно на ходулях, переваливались вниз через нетесаные столбы. Все местечко представляло грубую, отталкивающую картину задержанного развития, которая в молодых странах заменяет величественную красоту развалин, создаваемую временем. Всюду, где оставался хоть клочок первосозданной почвы, появились обильные заросли сорной травы и терновника, и любопытствующий посетитель мог бы разыскать в их сырой, нездоровой ча`ще бесчисленные сувениры блестящего некогда лагеря – одиночный, потерявший свою пару сапог, покрытый зеленой плесенью и гниющими листьями, старую фетровую шляпу, бренные останки фланелевой рубашки, бесчеловечно изувеченные коробки из-под сардин и поразительное количество черных бутылок из-под рома, разбросанных повсюду с истинно великодушным беспристрастием.
II
Человек, вновь открывший Хэрди-Гэрди, очевидно, не интересовался его археологией, и его усталый взгляд не сменился сентиментальным вздохом, когда он оглядел печальные следы потерянного труда и разбитых надежд, удручающее значение которых еще подчеркивалось иронической роскошью дешевой позолоты, наведенной на развалины местечка восходящим солнцем. Он только снял со спины своего усталого осла вьюк со снаряжением старателя, который был немного больше самого осла, и, вынув из мешка топор, немедленно же направился по высохшему руслу Индейского ручья к вершине низкого песчаного холма.
Перешагнув через упавшую изгородь из кустарника и досок, он поднял одну доску, расколол ее на пять частей и заострил их с одного конца. Затем он принялся за поиски чего-то, постоянно нагибаясь к земле и что-то внимательно рассматривая. Наконец его терпеливое исследование, по-видимому, увенчалось успехом: он выпрямился вдруг во весь рост, сделал торжествующий жест, произнес слово: «Скэрри!» – и пошел дальше длинными, ровными шагами, отсчитывая их; затем он остановился и вбил один из приготовленных им кольев в землю. После этого он внимательно огляделся, отсчитал на поразительно неровной почве еще несколько шагов и вколотил второй кол. Пройдя двойное расстояние под прямым углом к своему прежнему направлению, он вбил третий и, повторив всю процедуру, вколотил в землю четвертый, а затем и пятый кол; перед тем как вбить пятый кол, он расщепил его верхушку и всунул в щель старый конверт, испещренный какими-то знаками, сделанными карандашом. Иначе говоря, он сделал заявку на участок на склоне горы согласно местным законам Хэрди-Гэрди и поставил обычные метки.
Необходимо объяснить, что одним из предместий Хэрди-Гэрди – эта метрополия впоследствии сама стала его предместьем, – было кладбище. В первую же неделю существования местечка комитет граждан предусмотрительно постановил устроить кладбище. Следующий день был отмечен спором между двумя членами комитета по поводу наиболее подходящего места для этого учреждения; а на третий день кладбище было уже, так сказать, «почато» двойными похоронами.
По мере оскудения местечка кладбище разрасталось и превратилось в густонаселенный пригород гораздо раньше, чем последний житель Хэрди-Гэрди, устоявший в борьбе с малярией и скорострельными револьверами, повернул своего вьючного мула хвостом к Индейскому ручью. А теперь, когда город впал в старческий маразм, кладбище, хоть и пострадавшее слегка от времени и обстоятельств – не говоря уже о шакалах, – достаточно отвечало скромным потребностям своего населения. Оно занимало участок земли в добрых два акра, выбранный ввиду его непригодности для какой-либо другой эксплуатации; на нем находились два-три скелетообразных дерева (одно из них обладало толстым, выдававшимся вперед суком, на котором до сих пор еще красноречиво болталась полуистлевшая от сырости веревка), с полсотни песчаных холмиков, штук двадцать грубых надгробных досок с весьма своеобразной орфографией, и воинственная колония кактусов. В общем, это «жилище Господне» отличалось совершенно исключительным запустением. И вот в самом «людном», если можно так выразиться, месте этого интересного учреждения мистер Джеферсон Домэн и вбил заявочный столб и прикрепил к нему свою заявочную записку. Если, написал он, ему придется при производстве работ удалить кого-нибудь из мертвых, он обеспечит ему право на подобающее вторичное погребение.
III
Мистер Джеферсон Домэн был родом из Элизабеттауна в штате Нью-Джерси, где шесть лет назад он оставил свое сердце на хранение златокудрой скромной особе по имени Мэри Мэттьюз – в залог того, что он вернется просить ее руки.
– Я знаю, что вы не вернетесь живым, что вам никогда ничего не удастся, – таким заявлением мисс Мэттьюз продемонстрировала свое представление о том, что такое успех, и попутно свое умение поощрить человека. – Если вы не вернетесь, – прибавила она, – я сама поеду к вам в Калифорнию. Я буду складывать монеты в мешочки по мере того, как вы будете выкапывать их из земли.
Это чисто женское представление о характере золотых залежей не встретило отклика в мозге мужчины. Мистер Домэн решительно раскритиковал ее намерение, заглушив ее рыдания, закрыв ей рот рукой, засмеялся ей прямо в глаза, стирая ее слезы поцелуями, и с веселым кличем отправился в Калифорнию, чтоб работать для нее в течение долгих одиноких лет с твердой волей, бодрой надеждой и стойкой верностью. Тем временем мисс Мэттьюз уступила монополию на свой скромный талант собирать монеты в мешки некоему игроку, мистеру Джо Сименсу из Нью-Йорка, который оценил это ее качество больше, чем ее гениальную способность вынимать потом деньги из мешков и наделять ими своих любовников. Но в конце концов он выразил свое неодобрение этой последней способности мисс Мэри решительным поступком, который сразу обеспечил ему положение конторщика в тюремной прачечной в Синг-Синге, а ей – кличку Молли Рваное Ухо.
Молли написала мистеру Домэну трогательное письмо с отречением; она вложила в письмо фотографию, из которой явствовало, что она уже не вправе больше лелеять мечту стать когда-нибудь миссис Домэн, и она так наглядно изобразила в этом письме свое падение с лошади, что солидному жеребцу, на котором мистер Домэн поехал в «Красную Собаку», чтобы получить это письмо, пришлось расплачиваться за вину какой-то неведомой лошади весь обратный путь в лагерь. Домэн истерзал ему шпорами все бока.
Это письмо не достигло своей цели: верность, которая была до сих пор для мистера Домэна вопросом любви и долга, стала теперь для него также и вопросом чести; фотография, изображавшая когда-то хорошенькое личико, печально изуродованное теперь ударом ножа, заняла прочное место в его сердце.
Узнав об этом, мисс Мэттьюз, говорят, выказала меньше удивления, чем следовало ожидать, принимая во внимание низкую оценку, которую она давала благородству мистера Домэна: об этом ведь свидетельствовал тон ее последнего письма. Вскоре после этого письма от нее стали реже, а потом и совсем прекратились.
Но у мистера Домэна был еще один корреспондент, мистер Барней Бри из Хэрди-Гэрди, проживавший прежде в «Красной Собаке». Этот джентльмен, хоть он и был заметной фигурой среди старателей, не принадлежал к их числу. Его познания в ремесле золотоискателей заключались главным образом в поразительном знакомстве с их жаргоном, который он время от времени обогащал собственными добавлениями. Это производило сильное впечатление на наивных пижонов и заставляло их проникнуться уважением к глубоким познаниям мистера Бри.
Когда он не царил в кружке почитателей из Сан-Франциско или с Востока, его можно было встретить за сравнительно скромным занятием: он подметал танцевальные залы и чистил в них плевательницы.
У Барнея было две страсти – любовь к Джеферсону Домэну, который когда-то оказал ему большую услугу, и любовь к виски, которое, несомненно, никаких услуг ему никогда не оказало. Он одним из первых, как только раздался клич, устремился в Хэрди-Гэрди, но не сделал там карьеры и постепенно опустился до положения могильщика. Это не было постоянной службой, но каждый раз, когда какое-нибудь маленькое недоразумение за карточным столом в клубе совпадало с его сравнительным отрезвлением после продолжительного запоя, Барней брал в свои дрожащие руки лопату.
В один прекрасный день мистер Домэн получил в «Красной Собаке» письмо с почтовым штемпелем «Хэрди, Калифорния» и, занятый другими делами, засунул его в щель в стене своей хижины, чтобы просмотреть его на досуге. Два года спустя письмо случайно сдвинулось с места, и он прочел его. В письме было написано:
«Хэрди, 6 июня.
Друг Джеф, я наскочил на нее в костном огороде. Она слепая и вшивая. Я рою и сам буду могилой, пока ты не свистнешь.
Твой Барней.
P. S. Я закупорил ее Скэрри».
Имея некоторое представление о жаргоне золотоискателей и о личной системе передачи мыслей, свойственной мистеру Бри, мистер Домэн сразу сообразил из этого оригинального письма, что Барней, исполняя обязанности могильщика, наткнулся на кварцевую жилу без разветвлений, очевидно, богатую самородками, и что он согласен во имя дружбы сделать мистера Домэна своим компаньоном и будет молчать об этом открытии, пока не получит от названного джентльмена ответа. Из постскриптума было совершенно ясно, что он скрыл сокровище, похоронив над ним бренные останки какой-то особы по имени Скэрри.
За два года, которые протекли между получением мистером Домэном этого письма и его открытием, произошли некоторые события, о которых мистер Домэн узнал в «Красной Собаке». Выяснилось, что мистер Бри, прежде чем принять эту меру предосторожности (закупорить свою находку телом неведомого или неведомой Скэрри), догадался все-таки извлечь из жилы малую толику золота: во всяком случае, как раз в это время он положил в Хэрди-Гэрди начало серии попоек и кутежей, о которых до сих пор еще рассказывают легенды во всей области реки Сан-Хаун-Смит и почтительно вспоминают даже в таких далеких краях, как Скала Привидений и Одинокая Рука. Когда эта серия закончилась, несколько бывших граждан Хэрди-Гэрди, которым Барней оказал последнюю дружескую услугу на кладбище, потеснились и уделили ему уголок в своей среде, и он обрел среди них вечный покой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































