Текст книги "Церковь воинствующая"
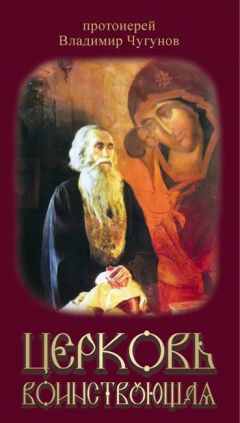
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Имел батюшка и дар прозорливости, и я сама неоднократно была свидетельницей этого дара. Однажды, когда мы с другими его посетителями пили чай, а ложек чайных у старца, как всегда, недоставало, я решила про себя, что в следующий раз привезу несколько серебряных ложек, доставшихся по наследству от отца. Только я подумала об этом, батюшка глянул на меня и говорит:
– Несколько? Да я ни одной серебряной ложки не возьму, монаху не нужны серебряные ложки.
А ещё рассказывал мне один старенький священник, пришедший к батюшке на исповедь. Стыдно ему было открыть то, что мучило. А батюшка и говорит:
– Дай-ка я сначала сам тебе исповедуюсь.
Назвал все его грехи и говорит:
– Видишь сколько у меня грехов? Теперь ты давай исповедуйся, и я тебе тоже отпущу, как ты мне.
Народ тянулся к батюшке. Порой достаточно было несколько минут поговорить с ним – и скорби как не бывало. Всяк уходил от батюшки с Пасхой в душе.
Однажды пришла к нему старушка с внучкой, а батюшка и говорит девушке:
– Поди, помой лестницу. Правда, она почти чистая, но это ничего, ты мой и на каждой ступеньке грехи свои вспоминай и кайся, а когда станешь вытирать, вспоминай хождение души по мытарствам, потом я тебя исповедую, а завтра непременно причастись. Не беда, что не говела, за послушание можно.
Когда она вышла, старушка спрашивает:
– К чему же такая спешка? И в другой раз причаститься можно. К тому же, скоро пост.
– Пусть делает, как сказал, а завтра после ранней обедни и поговорим.
На другой день, как рассказывала старушка, внучка причастилась. Пока старушка ставила самовар, девушка присела на стул и уснула навеки. Ошеломлённая её кончиной старушка прибежала к батюшке.
– Не плачь, – сказал он, – я знал, что Господь возьмёт её, потому и благословил спешно причаститься.
И долго ещё утешал поражённую нежданным событием женщину.
А раз, когда служил в церкви, пришла на службу не знавшая его дама и, увидев старенького и худенького, подумала:
– Ну где ему привлечь народ! Этот и остатки разгонит.
Вместо того, чтобы войти в алтарь, батюшка пробрался сквозь толпу и, подойдя к ней, сказал:
– Не бойся, Оленька, не разгоню никого.
Поражённая женщина упала ему в ноги, прося прощения, а потом всегда ходила к нему за советом.
А ещё, помню, одна монахиня, из тайных конечно, сидя с батюшкой за столом, подумала, как потом рассказывала: «Была бы я учёная, больше Богу угодила, чем такая малограмотная». Батюшка взглянул на неё, улыбнулся и сказал: «Богу не учёные нужны. Ему любовь нужна».
Одна женщина, помнится, всё плакала, что негде ей отдохнуть, всё работа, работа, а как отпуск, поехать некуда. «Не горюй, – ответил ей батюшка, – каждый кустик ночевать пустит». И что же? Малознакомые люди пригласили её к себе в деревню отдохнуть.
А еще сидели мы за столом, беседовали, батюшка вдруг встал и говорит:
– Ай да Пелагея, как кается, как просит меня отпустить ей грехи, как плачет. Погодите, деточки, оставьте трапезу, помолитесь со мной.
Подошёл к иконам, помолился и прочёл разрешительную молитву.
– Где же она, батюшка? – спросила я.
– На севере. Запомните день и час. Приедет – спросим.
И впрямь через полгода приехала Пелагея и рассказала, как горько плакала в тот час, прося старца разрешить грехи.
Помню, часто посещала его одна старушка. Раз пришла вся в слезах и говорит:
– Измучилась я, батюшка, с Павлушей, не знаю, что и делать. Опустился на нет, в грехи тяжкие впадает. В церковь не ходит, Бога не чтит, никаких таинств не признаёт, родителей в грош не ставит, обижает, пьёт, курит, кутит с разными женщинами, над моими уговорами насмехается. Уж ночей не сплю, глаз не осушаю – гибнет сын. Что его ждёт в вечности – страшно подумать. Верь-не верь – а отчёт дать придётся. По матерному ругаться стал, а чёрное слово употребляет постоянно. Покойный батюшка отец Аристоклий говорил, нет худшего оскорбления для Господа и Царицы Небесной, если кто ругается этим словом.
Батюшка утешал её, давал советы, но Павел продолжал своё. Однажды мать насильно привела его к батюшке, но он только нагрубил ему, и всё осталось по-прежнему.
Батюшка прилежно молился о нём. Однажды встретился нам Павел на улице, батюшка заговорил с ним, тот грубо оборвал, сунув ему рубль:
– На, заткни свой целовальник и больше не приставай?
Батюшка принял рубль как сокровище и тотчас раздал нищим. Попросил их помолиться и сам часто говорил вслух: «Господи, Царица Небесная, откройте, что надо сделать, чтоб не погибла душа Павла?»
И открыл ему Господь, что покается Павел, если назначить ему день смерти. Жаль было батюшке мать, молил он Господа как-нибудь иначе исправить Павла, но ответ был тот же.
И когда старушка опять пришла с обычными жалобами, батюшка ей сказал: "Если хочешь спасения сыну, согласись на то, что я назначу ему день смерти – ровно через год. Тогда и опомнится: покается, причастится и умрёт христианином. Иного пути нет".
Долго не соглашалась старушка, но время шло, Павел становился всё хуже, и мать согласилась. Сказала сыну. Тот, конечно, внимания не обратил. Но подошёл срок, заболел он сыпным тифом, одумался, позвал священника, исповедался, причастился и, простившись со всеми, умиротворённый отошёл в вечность. Когда старушка пришла к нам, батюшка уже служил по нему панихиду.
9
Когда батюшка слёг и надежды на выздоровление не осталось, стал он готовиться к исходу. Ему было даже возвещено, что на днях он умрёт.
Прочёл он себе отходную. Еле слышно пропел пасхальный канон и вдруг говорит:
– Катя, чует моё сердце, зачем-то понадобился я другу моему, владыке Трифону. Вызову-ка его к себе, пусть объяснит, в чём дело. Взял чётки и говорит: – Пусть чётки телефоном станут. Друже Трифоне, собрался я помирать, а сердце говорит, что я тебе нужен. Так приди, объясни, в чём дело.
Я усмехнулась:
– И охота вам, батюшка, юродствовать, чётки телефоном называть, ребёнка из себя разыгрывать? Да коль и позвали бы вы к себе митрополита Трифона, он бы не поехал.
– Увидим.
Через полчаса и впрямь приехал посланный от митрополита предупредить, что сейчас будет владыка. Трогательное было их свидание.
– Ты нужен мне, отче, – со слезами на глазах сказал владыка, – да продлит Господь жизнь твою, после меня перейдёшь на тот свет, помолишься за душу мою, когда пойдёт по мытарствам. Встань и исповедуй меня.
– Не могу, дорогой владыка, даже головы от подушки поднять нету сил.
– Ну, так встань за послушание.
И тогда с трудом поднялся батюшка и, поддерживаемый митрополитом, подошёл к иконам, облачился, исповедал дорогого гостя и опять слёг. Ему стало совсем худо.
Глубоко тронутый послушанием и любовью старца, владыка прямо от него поехал в церковь Большого Вознесения, где должен был в тот день служить. По окончании службы он обратился к народу:
– Братья и сестры, прошу вас помолиться за болящего схиархимандрита Захарию. Его тут не все знают, и поэтому я скажу несколько слов о нём. В молодости, живя в Петербурге в сане архимандрита, я был в таком ужасном духовном состоянии, что намеревался уж снять сан и начать другую жизнь. Но тут мне предложили познакомиться с одним послушником из Троице-Сергиевой лавры, что приехал в Петербург по сбору, говоря, что человек он не простой. И вот, после ночи, проведённой в беседе с ним, к утру мысли мои и чувства стали совершенно другими. Благодаря этому старцу вы видите перед собой старого дряхлого митрополита Трифона.
Весь народ пал на колени, и митрополит отслужил молебен о здравии тяжело болящего старца Захарии. Соборный молебен совершил чудо: через некоторое время батюшке стало легче. Когда я рассказала ему о молебне, он улыбнулся и ответил:
– Уж слыхал, слыхал, чудак этот «огарок» Трифон.
Огарком назвал батюшка митрополита Трифона потому, что знал: земная жизнь его на исходе.
Когда владыка заболел, батюшка прилежно молился о нём, а когда преставился, молитву усилил. Ко гробу владыки послал меня. Гроб был без цветов по желанию усопшего. Множество народа со слезами на глазах окружало останки любимого архипастыря. Похоронили владыку на Немецком (Введенском) кладбище.
– Друже мой Трифоне хотел, чтоб я пожил после его смерти ещё два года, ну так тому и быть по его святым молитвам, – сказал батюшка.
Прошло два года, и батюшка опять слёг. Он таял на глазах. Становился слабее и слабее. И между тем не переставал принимать и утешать приходящих.
Как-то пришла к нему духовная дочь протоиерея Владимира Богданова, плакала и всё жаловалась:
– Нет больше у меня духовного отца, осталась я одна, брошенная, никому ненужная…
– Как это нет, как это нет? – перебил её батюшка. – Да он теперь, по исходе, гораздо более жив, чем когда был на земле! Когда он теперь стоит у престола Божия, всем существом зрит Пресвятую Троицу, Заступницу нашу, общается с ангелами и святыми, как же ты говоришь, что его нет? Как смеешь ты произносить такую ложь? Теперь, когда он зрит души духовных чад своих и знает о них больше, чем прежде, ибо беседует о них с ангелами-хранителями и готов вместе с ними помогать, если только попросят, как ты смеешь утверждать, что его нет? Или ты, может быть, не рождалась от него духовно в жизнь вечную, или имела к нему пристрастие и привычку, подумай хорошенько и скажи…
Но она ничего уже не могла сказать и только плакала…
Здоровье батюшки всё ухудшалось. Лицо стало совсем прозрачным. Но глаза так же светились радостью и любовью ко всем. У батюшки был рак мочевого пузыря, метастазы пошли дальше. И при таких болях батюшка никогда не выказывал своих страданий. Лишь подчас становился бледным, как воск. Трудно ему было. Несколько раз приходили его арестовывать, но, видя в таком безнадежном состоянии, накладывали домашний арест, чтоб старец не мог никого принимать, и уходили.
Скончался батюшка в полном сознании 15 июля по старому стилю 1936 года около десяти часов утра, поручив духовных чад Царице Небесной.
Он просил, чтобы отпели его в Греческой церкви, но хозяева квартиры побоялись туда везти, и повезли отпевать в церковь «Воскресения Словущего», что в Брюсовском переулке. Привезли в схимническом одеянии, гроб поставили впереди, перед Царскими вратами.
К гробу подошёл служащий священник и спросил:
– Кто посвящал архимандрита в схиму? Может, не нашей церкви иерарх?
Все молчали.
– Ну, так я его как схимника отпевать не буду, – сказал он.
Посадил старца в гробу, снял с него схимническое одеяние и бросил на подоконник. Когда снимал, руки его дрожали.
По окончании отпевания мы прибыли на Немецкое кладбище, где покоился «друг его», митрополит Трифон. Схимническую одежду, снятую в церкви, благоговейно несла я. Перед спуском в могилу старца вновь облачили. Когда проносили гроб к могиле, нашли на дороге небольшую икону преподобного Серафима Саровского и повесили её старцу на крест. В явлении иконы, как нам показалось, усмативалось присутствие при погребении преподобного, сошедшего с Небес проводить многострадального схиархимандрита Захарию, любившего Царицу Небесную так же, как сам преподобный Серафим».
2007 г.
Мать Валерия
Записки инокини (литературная запись воспоминаний монахини Валерии Макеевой)

Инокиня ВАЛЕРИЯ в Одесском монастыре. Конец 40-х годов XX века.
«Я родилась в 1929 году в Новочеркасске. Бабушка по матери была воспитанницей сиротского пансиона благородных девиц в Москве, на Солянке, где у ворот с двух сторон сидят жёлтые каменные львы, а внутри двора – жёлтое старинное здание бывшей, шатрового типа, церкви. Родная бабушка моей бабушки – урождённая Вяземская. Сути генеалогии я не помню, а большое фото выпуска воспитанниц пансиона с фамилией моей бабушки у меня хранится. Супруг бабушки, мой дедушка, армавирский помещик, казачий майор. Мать родилась в 1900 году, она без всяких «восторгов» восприняла революцию, затем адаптировалась, поступила в горный институт и стала первой в нашей стране женщиной-геологом. Брат матери, Георгий Филиппович Голинский, эмигрировал в Мексику. Там у него дочь, много внуков и правнуков. При Сталине он не имел с нами переписки, а при Хрущёве писал нам много лет. Теперь, очевидно, умер. Дедушка мой по отцу грек, сектант-духобор, дворянин, покинувший Грецию ради большей свободы духоборчества. Женат был на кубанской казачке, т. е. матери моего отца. Дед дал моему отцу странное, уникальное, наверное, имя – Зороастр. Отец также был геологом. В 1925 году, перед венчанием с моей матерью, отец окрестился с именем Льва.
Я росла с бабушкой Александрой и няней, тоже Александрой. Бабушка преподавала французский и немецкий языки в Новочеркасском индустриальном институте. Родители всегда были в далёких командировках, и я редко их видела. Бабушка потихоньку воспитала меня в духе православной веры и моральных дворянских традиций. Партийными никто из моих родных никогда не был».
Давайте вспомним, что происходило тогда в стране, чтобы лучше понять, почему мать Валерии приняла революцию без всякого восторга, а бабушкино домашнее воспитание в духе православия нужно было совершать потихоньку. Еще до выпуска официальных декретов об отделении Церкви от государства прошла серия массовых убийств православного священства. Стреляли без суда и следствия. Эта сатанинская ненависть проявила себя уже во дни первой русской революции 1905 года, когда боевые отряды эсеров-большевиков метали бомбы не только в представителей царской власти, но и в крестные ходы, в церкви во время богослужений. Ненависть нагнеталась богоборчески настроенной интеллигенцией с давних времён, а точнее, со дня принятия Россией христианства и определялась организационно вместе с государственным строительством. Божье домостроительство в нашем Отечестве неминуемо сопровождалось внедрением в структуру этого строения «тайны беззакония», о которой упоминал ещё апостол Павел. К моменту свержения Богом установленной законной царской власти в нашем отечестве, «тайна беззакония» набрала такую силу, что смогла легализоваться под видом народной власти во главе с Лениным. 19 января 1918 года Святейший Патриарх Тихон возвысил голос в защиту своего страждущего народа: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это – поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной…» Но «безумцы» не верили ни в геенну огненную, ни во что вообще потустороннее и принимали слова святителя за «звук пустой в лесу глухом». Проклятие потомков их тоже не страшило: они собирались править вечно и во всём мире. 1 мая 1919 года Ленин пишет Дзержинскому: «В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комисаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады». Эта директива, кстати, на протяжении всего богоборческого периода выполнялась неукоснительно. Гражданская война, на которую большевики возлагали большие надежды, не переросла в мировую революцию. И тогда вместо провозглашаемых коммунистических идей началось организованное ограбление храмов, с последующим вывозом церковных ценностей за границу, якобы для оказания помощи голодающим. Само явление голода в России после её экономического подъёма, о котором в 1913 году с удивлением писали многие европейские газеты, говорит о многом. Народ не столько был обманут и распропагандирован, сколько подавлен мощью беспощадного красного террора. Гражданская война, народные восстания, уничтожение казачества – свидетельствуют о чести русского народа, о неприятии им идеологии большевицкого режима. В 1921 году Ленин вынужден был пойти на уступки в виде новой экономической политики. Народу позволили продавать и покупать. Военный коммунизм, сопровождавшийся насильственным изъятием последнего куска хлеба, спровоцировал массовый голод Поволжья и других районов России. Одним изъятием церковных ценностей вопрос повсеместного обнищания так же невозможно было решить. НЭП действительно накормил народ. Но даже в этот относительно спокойный период ни на минуту не прекращалась борьба с религией. В 1925 году под руководством Губельмана-Ярославского был создан «Союз воинствующих безбожников». В печати развернулась кощунственная кампания против Христа и Божией Матери. К 1927 году был окончательно свернут НЭП. Затем была проведена насильственная коллективизация, открывшая путь так называемому сталинскому геноциду. И ежели бы не война, прекратившая на время деятельность Союза воинствующих безбожников, то уже тогда с верою было бы покончено. Объявленная в 1937 году безбожная пятилетка обещания свои выполнить не смогла. Помешало прямое вмешательство свыше – война с Гитлеровской Германией. Но не умерла безбожная идея, воплощаемая губельмановским союзом в жизнь. В шестидесятых годах она была поднята на щит, вылившись в очередной виток так называемых хрущёвских, затем брежневских и, наконец, андроповских гонений на Церковь. Плоды его мы пожинаем и поныне. И вот такое тяжёлое для всякого верующего человека время выпало на долю матушки Валерии.
«В 33-м году, – пишет она, – во время голода бабушка, няня и я выжили только благодаря оставшемуся у бабушки золоту, которое она сдавала в торгсин за продукты»
Тогда Валерии было 4 года, и она сочинила своё первое в жизни стихотворение, а поскольку писать не умела, с её слов его записала бабушка. Вот оно.
Баба собирается, спешит в институт,
Ну а мне приходится оставаться тут.
У меня и дома много есть забот,
Очень просит кушать милый серый кот.
Отвернётся няня – покормлю кота,
Ведь сегодня всюду – голод, беднота.
Умирают детки. Горе и печаль.
Маленьких мне деток очень, очень жаль.
Баба снова скоро побежит в торгсин —
Это очень гадкий, жадный магазин.
Там сережки, кольца, золото берут,
А за это кушать капельку дают:
Сумочку картошки да кулёк пшена
Бабе даст в торгсине жадный сатана.
Очень, очень плохо деткам умирать,
По двору не бегать, в мячик не играть.
Я к кусочку хлеба кашки приложу,
Заверну в газету, ниткой завяжу.
Ведь уйдёт на кухню няня всё равно,
Я же тот кулёчек опущу в окно.
Я с детьми играла в куколки и в мяч,
Не могу я слышать их голодный плач.
Ни про что другое думать не могу.
И хотя немного – детям помогу.
Пусть хотя б кусочек каждый отгрызёт,
Пусть хотя б немножко каждый не умрет.
Няня отвернётся мыть или стирать,
А я снова брошусь кашку опускать.
Александра Ниловна меня не выдаёт,
Иногда тихонько сама слёзы льёт
В воскресенье баба деток собрала,
По тарелке супу всем им налила.
Дети ели тихо, ложками скребли,
А у бабы сами слёзы потекли.
А вчера картошку утащил сосед,
Ведь теперь на свете совести-то нет.
Баба нам сказала: "Если у меня
Золота не хватит – не прожить и дня".
Мы со всеми вместе ляжем и умрём
И на небо к Богу, к ангелам уйдём.
Говорят, забрали хлеб большевики,
И у всех отняли хлеб большевики.
Умирают детки. Кто же по рукам
Даст плохим, жестоким, злым большевикам?
«Я уже тогда знала твердо от бабушки и её окружения, – продолжает матушка, – что «большевики-разбойники».
Я глубоко приняла к сердцу ужасную политическую ситуацию тех лет, меня всё это очень трогало, волновало, с ранних лет я писала об этом в стихах. Развилась я умственно рано, в 6 лет говорила по-немецки, ещё раньше начала читать.
В начальных классах я отлично училась, старалась молчать, избегать искренних политических высказываний, хотя по природе доверчива.
Помню, как, ещё живя в Новочеркасске, где прошло моё детство до 10-летнего возраста, мы с бабушкой и няней боялись арестов в 37, 38-х годах».
Ужас тех лет восьмилетний ребёнок выразил в своих неумелых, но искренних стихах:
«Во дворе шумят моторы —
Это едет чёрный ворон!
Едет страшный чёрный ворон!
Может, бабу забирать?
Уж полгорода забрали,
Всех в тюрьму пересажали.
Добры люди говорят:
Ни за что они сидят.
Люди бедные дрожат…
Кто же в этом, виноват?
Я скажу без лишних слов:
Это Сталин и Ежов.
И ещё скажу три слова:
Долой Сталина, Ежова!»
В 1939 году Валерия вместе с бабушкой, следом за родителями, сумевшими, как геологи, получить квартиру, переезжает в Москву. После Новочеркасска, с обычной для всякой провинции тогдашних лет практикой обязательного коллективного коммунизмостроительства, особенно первое время жизнь в Москве представлялась глотком свежего воздуха. Может быть, поэтому, будучи школьницей (ей шёл двенадцатый год), Валерия подала своё стихотворение на конкурс в Дом детей железнодорожников к юбилею Крылова. Председателем жюри был известный артист Жаров. Стих получил первую премию, но Жаров выразил сомнение: её ли это стихи, не взрослые ли ей их написали. Валерию попросили принести стихи, написанные прежде. И она принесла стихи… о Страшном суде, о жестокости Ивана Грозного и Наполеона Бонапарта и гибели их душ на Страшном суде, а еще поэму… о рыцаре-короле Ричарде Львиное Сердце, о его Крестовых походах, о Гробе Господнем… Жаров, разумеется, был глубоко возмущён религиозной тематикой и, потряхивая в воздухе исписанными детским почерком тетрадными листами, восклицал:
– Что это? Я Вас спрашиваю, что это? И почему непременно – о каком-то там Страшном суде, о каком-то там Гробе Господнем? У нас, извините, сейчай что на дворе? А вокруг что? Где, спрашиваю, пролетарская тематика?
«А затем, – пишет матушка, – посадили меня в пустую комнату и дали задание: сочинить стихотворение о параде физкультурников. Только убедившись, что я успешно справилась с заданием, в моём авторстве больше не сомневались. Мне выдали премию – шубу из искусственного меха. Жаров и члены жюри еще раз покритиковали религиозную направленность моих стихов. Я равнодушно выслушала их, взяла шубу и ушла…»
* * *
Началась война. Валерии шёл 13-й год. Стихи она уже писала и политические. Одно даже анонимно отправила в НКВД. По тем временам, когда по всей стране, особенно начиная с 1937 года, шли повальные аресты, суды над «провокаторами», «заговорщиками, готовившими покушение на Сталина, Горького…», «шпионами всех разведок мира», расстрелы, отправки в лагеря, поступок этот любому взрослому человеку, знавшему также о повсеместном доносительстве, мог показаться крайне безрассудным. Но такое вот горячее сердечко было у юной отроковицы, так близко воспринимала она чужую боль, скорбь, беду… И, не сказав ни слова ни родителям, ни бабушке, написала и отправила по почте вот это:
«Вы, говорят нам, народа опора…
Только поверим мы в это не скоро:
Вы кровожаднее диких зверей,
В клетке сидящих, всех в мире подлей!
В ваших застенках пытают людей
За убежденья, за разность идей.
Совесть же вам не мешает пытать,
Чтоб обвинительный акт подписать.
Вспомните трупы истерзанных тел —
Вас ожидает такой же удел!
Правит Иосиф огромной страной,
Правит «мудрейшей» своей головой…
А города забирают враги…
Вам же лишь шкуры свои дороги!
Старый развратник на троне сидит,
Всею страною как хочет вертит.
Слёзы и горе, и голод в стране…
Он же на третьей женился жене.
И проповедует «гений» слепой
Свой коммунизм – утопический строй!
Ну, посылайте ищеек своих,
Хитрых, ползучих, вонючих и злых…
А проживаю я в городе Эн.
Все, замолкаю – есть уши у стен!»
Но уши оказались не у стен, а у «задушевнейшего человека» – учителя физики в Лосиноостровской школе, где училась Валерия, у Глекина Георгия Васильевича, с которым она и её школьные друзья делились своими стихами. Валерия была арестована.
«Я попала на Центральную Лубянку в одиночку подвального помещения. Коридор был длинный широкий, камеры по обеим сторонам. Следователь мой был Иван Фёдорович Рублев, тел. к-6-39-30. Он покрикивал на меня (правда, не очень грозно), пугал детской колонией, добивался: "Кто научил тебя написать такие стихи? Бабушка? Родители? Кто?" Я уверяла, что сама. Больше всего я, конечно, боялась за бабушку… Вспомнив в камере, что политические всегда объявляли голодовки, я, чисто еще по-детски, без особой цели, объявила голодовку. Но сразу не задумалась, что отвечать о её причине, а об этом спрашивали комиссары из охраны внутренней тюрьмы. Я была внутренне растеряна, не знала, как вести себя дальше. Но поистине Бог помог мне! Однажды тихонько приоткрылась дверь и молодой, лет двадцати конвоир, заглянув в камеру, сказал: «Девочка, просись на приём к нашему Наркому, Всеволоду Николаевичу Меркулову, он пишет драмы, он писатель, проси его, может он тебя отпустит». Я так и сделала. До сих пор не уверена, была ли это доброта и, по тем временам, большая смелость молодого конвоира, или его зачем-то научило начальство.
На приём я была отведена. Меркулов настойчиво требовал, чтобы я пообедала в его кабинете, обещал отпустить домой. Говорил немного: уверял, что я напрасно не люблю нашего «великого вождя И. В. Сталина», что он – очень хороший человек, добрый, заботливый… Я вежливо молчала. Тогда Меркулов напомнил (им и это уже было известно!), что в школе я написала стихотворение о партизанке-антифашистке, и спросил:
– Ты ведь фашистов не любишь?
– Конечно, нет, – ответила я.
– А кого ты больше не любишь – коммунистов или фашистов?
Я сказала, что затрудняюсь ответить. Но он настаивал и просил быть искренней, уверяя, что независимо от моего ответа сегодня же меня отвезут домой к бабушке.
Я, подумав, искренне сказала:
– Пожалуй, больше не люблю фашистов.
– Обоснуй своё мнение, почему? – спросил он.
Я сказала, что фашисты сжигают людей в печах, травят газом, убивают и мучают пленных, а коммунисты, вроде бы, все-таки не сжигают и, вроде бы, так много лагерей смерти у них нет. Через стол на меня устремились большие чёрные глаза немолодого уже Меркулова. И как лёгкий ветерок, еле слышно, с его пухлых ярких губ слетело два слова:
– Ты уверена?
Так тихо, но внятно, почти одними губами это было сказано.
Разорвись бомба – я была бы меньше удивлена. Я, было, открыла рот, пытаясь что-то пролепетать, но он, сдвинув густые чёрные брови, резко приложил палец к губам, и я умолкла. А в голове завертелась буря мыслей…
В кабинет вошли сотрудники. Меркулов кратко сказал мне, что я очень талантлива, и что он тоже писатель, драматург, что он даст мне и бабушке билеты на его драму «Инженер Сергеев», пообещал дать мне много книг, учительницу литературы. Рассказал, что у него есть сын (кажется, сына звали Рем) и что он вместе с сыном воспитывает Юру Айвазова, сына одного из 26-ти бакинских, расстрелянных белыми, комиссаров…
Вскоре меня и в самом деле снабдили книгами – полными собраниями сочинений Короленко, Горького, Маяковского, двумя отрезами шерсти… Бабушке ещё и денег вручили для меня. Опекуном моим стал пожилой сотрудник НКВД, невидный такой, но беззлобный Евгений Максимович (фамилию не называл). Мягко учил меня помалкивать, не наживать себе лишней беды, привёз билеты на драму, привёз учительницу – старую большевичку Памфилову Евдокию Николаевну. Литературный псевдоним Меркулова был «Всеволод Рокк». Драма у него была, оказывается, единственная вообще. Занятия с учительницей не «склеились»: я зачитывалась Короленко, морщилась от босяков Горького «На дне» и буквально шарахалась от Маяковского. Меркулов заказал мне через учительницу написать поэтическую трилогию «Три Иосифа» – о Гарибальди, Броз Тито и Сталине. Я растерялась, «завертелась», оттягивала время, попросила подробные печатные материалы о всех «трёх Иосифах»… Сильно не хотелось писать ни о котором. Ненависть к Сталину была у меня постоянной, слухи об арестах, насильственных займах, тотальном ограблении крестьян в колхозах наполняли всю страну…
Я написала Меркулову три послания в стихах (возможно, они и теперь хранятся в архиве КГБ, потому что в 1972 году один из пожилых сотрудников Московского Управления КГБ однажды сказал мне, что в их ведомстве есть сотрудник, помнивший меня девочкой, а мне было уже 43 года и прошло тогда более 20 лет). После третьего послания (на избрание Меркулова депутатом) ко мне больше не приезжали ни учительница, ни опекун. Отношения с ними порвались. От меня на время отстали».
Послание же Меркулову, после обычных поздравлений и искренних пожеланий, заканчивалось такими словами:
«Так примите на прощанье заключительное слово,
Что от горести глубокой я б хотела Вам сказать:
Помните конец Ягоды, помните конец Бажова.
Не дай Бог конец такой же Вам когда-нибудь принять!»
Слова эти оказались пророческими: в 1953 году Меркулов был расстрелян с группой Берии.
* * *
Взрослея, Валерия уже твёрдо не хотела служить богоборческой советской системе, искала и, наконец, нашла «отдушину»… Приняв благословение и наставление бабушки о том, что во всех своих поступках человек, а особенно дворянин, должен быть твёрд, она направилась в Одессу и поступила в монастырь. Там она, как и другие сёстры, в свободное от послушания время ходила на специально организованные для них архиереем занятия в духовной семинарии, там же получила и младший монашеский чин (иночество) от одесского епископа Сергия Ларина.
Моё поступление в 15-летнем возрасте в Одесский Михайловский женский монастырь имело очень серьёзные основания, – позже напишет матушка. – И я, и мои родные понимали, что мне было бы невыносимо трудно работать или учиться где-либо. В советском гражданском обществе надо было обязательно вступать в комсомол, да и всю жизнь приспосабливаться к навязываемой всему народу обязательной коммунистической идеологии.
Родители мои работали геологами. Довольно часто зимой для бурения вечной мерзлоты к ним в экспедицию присылали рабочих из лагерей. Но не успевали они обучить буровых мастеров, как те отмораживали ноги, потому что были в холодных ботинках, а валенки им носить не разрешалось. Всё это, конечно, строго запрещалось разглашать, но я знала об этом. Знала и о том, сколько невинно осуждённых сидят за якобы «убийство» Горького, Кирова, за выдуманный «шпионаж», «вредительство»…
Поэтому единственно благородной и порядочной областью деятельности, как считали я и мои родные, где можно было трудиться, не поступаясь совестью, было служение Церкви. Я с радостью уехала в монастырь, где уже были послушницы 13, 14, 16 и 17-ти лет. Это были первые послевоенные годы, когда после Победы большевики дали Церкви временную свободу.
Трудясь в монастыре, благодаря учёбе в семинарии, я приобрела знания псаломщицы и уже совершенно самостоятельно могла служить в любом храме на клиросе».
Очевидно, тогда же, в монастыре, постоянно сталкиваясь в семинарии со студентами, будущими священниками, произошло событие, о котором известно из стихотворения, которое матушка назвала: "Ответ на признание в любви. Мне 25 лет". Стихотворение – свидетель духовной твёрдости. Десять лет монашеской жизни дали свои плоды.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































