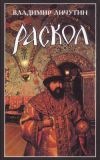Текст книги "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное"

Автор книги: протопоп Аввакум
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Таже привели ко мнѣ бабъ бѣшаныхъ. Я, по обычаю, сам постился и имъ не давал есть. Молебъствовал и маслом мазалъ и, какъ знаю, дѣйствовал. И бабы о Христѣ целоумны стали. Христос избавил их, бѣдных, от бѣсовъ. Я их исповѣдалъ и причастилъ; живутъ у меня и молятся Богу, любятъ меня и домой не идутъ.
Свѣдал онъ, что мнѣ учинилися дочери духовные, осердился на меня опять пущи и старова, хотѣл меня в огнѣ жжечь: «Ты-де вывѣдываешь мое тайны»; а ихъ домой взялъ. Онъ чаял, Христос просто покинет – ано и старова пущи стали бѣситца. Запер ихъ в пустую избу, ино никому приступу нѣтъ к ним. Призвал к ним Чернова попа, и онѣ в него полѣнием бросаютъ. Я дома плачю, а дѣлать не вѣдаю что. И приступить ко двору не смѣю: больно сердитъ на меня. Тайно послал к ним воды святыя, велѣлъ их умыть и напоить. И имъ, бѣдным, дал Богъ, лехче от бѣсов стало. Прибрели ко мнѣ сами тайно. И я их помазал во имя Христово масломъ, такъ опять стали, дал Богъ, по-старому здоровы и опять домой сошли, да по ночам ко мнѣ прибѣгали Богу молитца118.
Ну-су, всяк правовѣрный, разсуди прежде Христова суда: какъ было мнѣ их причастить, не исповѣдав? А не причастивъ, ино бѣсов совершенно не отгонишъ. Я инова оружия на бѣсов не имѣю, токмо крестъ Христовъ, и священное масло, и вода святая, да коли сойдется, слез каплю-другую тут же прибавлю; а совершенно исцеление бѣсному – исповѣдаю и причащю Тѣла Христова, так, даетъ Богъ, и здравъ бывает. За што было за то гнѣватися? Явно в нем бѣсъ дѣйствовалъ, навѣтуя ево спасению.
Да уж Богъ ево простит. Постригъ я ево и поскимил, к Москвѣ приехавъ: царь мнѣ ево головою выдал, Богъ так изволил. Много о томъ Христу докуки было, да слава о нем Богу. Давал мнѣ на Москвѣ и денегъ много, да я не взял: «Мнѣ, – реку, – спасение твое тощно надобно, а не деньги; постригись, – реку, – так и Богъ проститъ». Видит бѣду неминучюю, – прислал ко мнѣ со слезами. Я к нему на двор пришел, и онъ пал предо мною, говорит: «Волен Богъ да ты и со мною». Я, простя ево, с чернъцами с чюдовскими постригъ ево и поскимил. А Богъ ему же еще трудовъ прибавил, потому докуки моей об нем ко Христу было, чтобъ ево к себѣ присвоил: рука и нога у него же отсохли, в Чюдове ис кѣльи не исходит. Да любо мнѣ сильно, чтоб ево Богъ Царствию Небесному сподобил. Докучаю и нынѣ об нем, да и надѣюся на Христову милость, чаю, помилует чаю, помилует нас с ним, бѣдных! Полно тово, стану паки говорить про дауръское бытие.
Таже с Неръчи-реки назад возвратилися к Русѣ119. Пять недѣль по льду голому ехали на нартах. Мнѣ под робятъ и под рухлишко дал двѣ клячки, а сам и протопопица брели пѣши, убивающеся о лед. Страна варваръская, иноземцы немирные, отстать от лошедей не смѣем, а за лошадьми итти не поспѣемъ, голодные и томные люди. В ыную пору протопопица, бѣдная, брела-брела да и повалилась, и встать не сможет. А иной томной же тут же взвалился: оба карамкаются, а встать не смогутъ. Опослѣ на меня, бѣдная, пеняет: «Долго ль-де, протопопъ, сего мучения будет?» И я ей сказал: «Марковна, до самыя до смерти». Она же противъ тово: «Добро, Петрович, и мы еще побредем впред».
Курочка у нас была черненька, по два яичка на всяк день приносила, Богъ такъ строил робяти на пищу. По грѣхом, в то время везучи на нартѣ, удавили. Ни курочка, ништо чюдо была, по два яичка на день давала. А не просто нам и досталась. У боярони куры всѣ занемогли и переслѣпли, пропадать стали; она же, собравъ их в коробъ, прислала ко мнѣ, велѣла об них молитца. Я, грѣшной, молебен пѣлъ, и воду святилъ, и куры кропил, и, в лѣсъ сходя, корыто имъ здѣлал, и отослал паки. Богъ же, по вѣре ея, и исцелилъ их. От тово-то племяни и наша курочка была.
Паки приволоклись на Иргень-озеро. Бояроня прислала-пожаловала сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись.
Кормилица моя была бояроня та Евдокѣя Кириловна, а и с нею дьяволъ ссорилъ; сице. Сынъ у нея былъ Симеонъ120, тамъ родился; я молитву давал и крестил. На всяк день присылала ко благословению ко мнѣ.
Я крестом благославя и водою покроплю, поцеловав ево, и паки отпущу, – дитя наше здраво и хорошо. Не прилучилося меня дома, занемогъ младенец. Смалодушничавъ, она, осердясь на меня, послала робенка к шептуну-мужику. И я, свѣдав, осердилъся же на нея, и межъ нами пря велика стала быть.
Младенец пущи занемог: рука и нога засохли, что батошки. В зазоръ пришла, не знает, дѣлать что. А Богъ пущи угнетает: робеночек на кончину пришелъ. Пѣстуны, приходя, плачютъ ко мнѣ, а я говорю: «Коли баба лиха, живи же себѣ одна!» А ожидаю покаяния ея. Вижу, яко ожесточил диявол сердце ея; припал ко Владыке, чтоб образумил ея.
Господь же премилостивый Богъ умягчил ниву сердца ея: прислала наутро Ивана, сына своего, со слезами прощения просить. Он же кланяется, ходя около печи моея, а я на печи нагъ под берестом лежу, а протопопица в печи, а дѣти кое-гдѣ перебиваются: прилунилось в дождь, одежды не стало, а зимовье каплет, – всяко мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей: «Вели матери прощения просить у Орефы-колдуна». Потом и больнова принесли и положили пред меня, плача и кланяяся. Аз же, воставъ, добыл в грязи патрахѣль и масло священное нашолъ; помоля Бога и покадя, помазалъ маслом во имя Христово и крестомъ благословилъ. Младенецъ же и здрав паки по-старому сталъ, с рукою и с ногою, манием Божественымъ. Я, напоя водою, и к матери послалъ.
Наутро прислала бояроня пироговъ да рыбы; и с тѣхъ мѣстъ примирилися. Выехавъ из Дауръ, умерла, миленькая, на Москвѣ; я и погребалъ ея в Вознесенском манастырѣ121.
Свѣдал про младенца Пашков и самъ, она сказала ему. Я к нему пришелъ, и онъ поклонился низенько мнѣ, а сам говорит: «Господь тебѣ воздаст; спаси Богъ, что отечески творишь, не помнишь нашева зла». И в тотъ день пищи довольно прислал.
А послѣ тово вскорѣ маленько не стал меня пытать. Послушай-ко, за что. Отпускалъ онъ сына своево Еремѣя122 в Мунгальское царство123 воевать – казаковъ с ним 72 человѣка да тунъгусов 20 человѣкъ – и заставил иноземца шаманить, сирѣчь гадать, удастъся ли им поход и з добычаю ли будутъ домой. Волхвов же той мужик близ моево зимовья привелъ живова барана ввечеру и учал над ним волъхвовать; отвертя голову прочь, и начал скакать и плясать и бѣсов призывать, крича много; о землю ударился, и пѣна изо рта пошла. Бѣси ево давили, а онъ спрашивал их, удастся ли поход. И бѣси сказали: «С побѣдою великою и з богатством большим будете назад».
Охъ душе моей! От горести погубил овцы своя, забыл во Евангелии писанное, егда з Зеведеевичи на поселян жестоких совѣтовали: «Господи, аще хощеши, – речевѣ, – да огонь снидет с небесе и потребит ихъ, якоже и Илия сотвори». Обращь же ся Исусъ и рече им: «Не вѣста, коего духа еста вы. Сынъ бо человѣческий не прииде душъ человѣческихъ погубити, но спасти». И идоша во ину весь124. А я, окоянной, здѣлал не так: во хлѣвинѣ своей с воплем Бога молил, да не возвратится вспять ни един, да же не збудется пророчество дьявольское; и много молился о том.
Сказали ему, что я молюся такъ, и онъ лише излаялъ в тѣ поры меня, отпустилъ сына с войском.
Поехали ночью по звѣздамъ. Жаль мнѣ их; видитъ душа моя, что имъ побитым быть, а сам-таки молю погибели на них. Иные, приходя ко мнѣ, прощаются, а я говорю имъ: «Погибнете тамъ!» Какъ поехали, так лошади под ними взоржали вдругъ, и коровы ту взревѣли, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли; ужас напал на всѣх. Еремѣй прислал ко мнѣ вѣсть, «чтоб батюшко-государь помолился за меня». И мнѣ ево сильно жаль: другъ мнѣ тайной был и страдал за меня. Как меня отецъ ево кнутомъ бил, стал разговаривать отцу, такъ кинулся со шпагою за ним. И какъ на другой порогъ приехали, на Падун, 40 дощеников всѣ в ворота прошли без вреда, а ево, Афонасьевъ, дощеникъ, – снасть добрая была, и казаки, всѣ шесть сот, промышляли о немъ, – а не могли взвести, взяла силу вода, паче же рещи, Богъ наказал. Стащило всѣхъ в воду людей, а дощеник на камень бросила вода и чрез ево льется, а в нево не идет. Чюдо, как Богъ безумных тѣхъ учит! Бояроня в дощенике, а онъ самъ на берегу. И Еремѣй стал ему говорить: «За грѣхъ, батюшко, наказуетъ Богъ! Напрасно ты протопопа-тово кнутомъ-тѣмъ избилъ. Пора покаятца, государь!» Он же рыкнулъ на него, яко звѣрь. И Еремѣй, отклонясь к соснѣ, прижавъ руки, стоя, «Господи помилуй!» говоритъ. Пашковъ, ухватя у малова колешчатую пищаль, – николи не лжет, – приложась на Еремѣя, спустил курок: осѣклася и не стрелила пищаль. Он же, поправя порох, приложася, опять спустилъ, и паки осѣклася. Онъ и в третьий сотворилъ – так же не стрелила. И онъ и бросилъ на землю ея. Малой, поднявъ, на сторону спустил – пищаль и выстрелила! А дощеник единаче на камени под водою лежит. Потом Пашков сѣлъ на стулъ и шпагою подъперъся, задумался. А сам плакать стал. И, плакавъ, говорилъ: «Согрѣшил, окаянной, пролилъ неповинную кровь! Напрасно протопопа билъ, за то меня наказуетъ Богъ!» Чюдно! По Писанию, яко косенъ Богъ во гнѣвъ и скоръ на послушание125, – дощеник самъ, покаяния ради, с камени сплыл и стал носом против воды. Потянули – и онъ взбежал на тихое мѣсто. Тогда Пашковъ, сына своево призвавъ, промолыл ему: «Прости-барте, Еремѣй, правду ты говоришь». Он же приступи и поклонился отцу. А мнѣ сказывал дощеника ево кормъщик Григорей Тельной, тутъ былъ.
Зри, не страдал ли Еремѣй ради меня, паче же ради Христа! Внимай, паки на первое возвратимся.
Поехали на войну. Жаль мнѣ стало Еремѣя! Сталъ Владыке докучать, чтоб ево пощадил. Ждали их, и не бывали на срок. А в тѣ поры Пашков меня к себѣ и на глаза не пускалъ. Во един от дней учредил застѣнок и огонь росклалъ – хочетъ меня пытать. Я, свѣдавъ, ко исходу души и молитвы проговорил, вѣдаю стряпанье ево: послѣ огня тово мало у него живутъ. А самъ жду по себя и, сидя, женѣ плачющей и дѣтям говорю: «Воля Господня да будет! Аще живемъ – Господеви живемъ, аще умираем – Господеви умираемъ»126. А се и бегутъ по меня два палача.
Чюдно! Еремѣй сам-другъ дорошкою едетъ мимо избы моея, и их вскликал и воротилъ.
Пашковъ же, оставя застѣнок, к сыну своему с кручины, яко пьяной, пришелъ. Таже Еремѣй, со отцемъ своим поклоняся, вся подробну росказал: какъ без остатку войско побили у него, и какъ ево увелъ иноземец пустым мѣстом, раненова, от мунгальских людей, и какъ по каменным горам в лесу седмъ дней блудил, не ядше, одну бѣлку сьелъ; и как моимъ образом человѣкъ ему явилъся во снѣ и благословил, и путь указал, в которую сторону итти, он же, вскоча, обрадовалъся и выбрел на путь. Егда отцу разсказывает, а я в то время пришелъ поклонитися им. Пашков же, возведъ очи свои на меня, вздохня, говорит: «Так-то ты дѣлаешь, людей-тѣхъ столько погубил. А Еремѣй мнѣ говоритъ: «Батюшко, поди, государь, домой! Молчи, для Христа!» Я и пошел.
Десеть лѣтъ онъ меня мучил или я ево – не знаю, Богъ розберетъ.
Перемѣна ему пришла127, и мнѣ грамота пришла128: велено ехать на Русь. Онъ поехал, а меня не взял с собою; умышлялъ во умѣ: чаял, меня без него и не вынесет Богъ. А се и сам я убоялся с ним плыть: на поездѣ говорилъ: «Здѣсь-де земля не взяла, на дороге-дѣ вода у меня приберет». Среди моря бы велѣлъ с судна пехнуть, а сказал бы, бытто сам ввалился; того ради и сам я с ним не порадѣлъ.
Онъ в дощениках поплыл с людми и с ружьемъ, а я – мѣсяцъ спустя послѣ ево, набрав старых, и раненых, и больных, кои там негодны, человѣкъ з десяток, да я с семьею, семнатцеть человѣкъ. В лотку сѣдше, уповая на Христа и крестъ поставя на носу, поехали, ничево не боясь. А во иную-су пору и боялись, человѣцы бо есмы, да гдѣ жо стало дѣтца, однако смѣрть! Бывало то и на Павла апостола, сам о себѣсвидѣтельствуетсице: «Внутрь убо – страх, а внѣ убо – боязнь»129; а в ыном мѣсте: «Уже бо-де не надѣяхомся и живи быти, но Господь избавил мя есть и избавляетъ»130. Так то и наша бѣдность: аще не Господь помогал бы, вмалѣ вселися бы во ад душа моя131. И Давыдъ глаголетъ, яко «аще не бы Господь в нас, внегда востати человѣком на ны, убо живы пожерли быша нас»132. Но Господь всяко избавил мя есть и донынѣ избавляет. Мотаюсь, яко плевелъ посредѣ пшеницы, посредѣ добрых людей, а инъде-су посредѣ волковъ, яко овечка, или посрѣдѣ псовъ, яко заяцъ; всяко перебиваесся о Христѣ Исусѣ. Но грызутся еретики, что собаки, а без Божьи воли проглотить не могутъ. Да воля Господня, что Богъ даст, то и будет, без смерти и мы не будем; надобно бы что доброе-то здѣлать, и с чем бы появиться пред Владыку, а то умрем всяко. Полно о сем.
Егда поехали из Даур, Кормчию книгу133 прикащику дал, и онъ мнѣ мужика-кормщика дал134. Прикащик же дал мучки гривенок с тритцеть, да коровку, да овечок. Мясцо иссуша, и пловучи, тѣмъ лѣто питались. Стало пищи скудать, и мы з братьею Бога помолили, и Христос нам дал изубря, болынова звѣря, тѣмъ и до Байкалова моря доплыли.
У моря русскихъ людей наехали – рыбу промышляют и соболи. Ради нам, миленькие, Терентьюшко з братьею; упокоя нас, всево надавали много135. Лотку починя и парус скропавъ, пошли чрез море. Окинула нас на море погода, и мы гребми перегреблися: не больно широко о том мѣсте, или со сто, или с восмъдесятъ верстъ.
Чем к берегу пристали, востала буря вѣтренная, насилу и на берегу мѣсто обрѣли от волнъ восходящих. Около его горы высокия, утесы каменныя и зѣло высоки. Дватцеть тысящъ верст и болыни волочился, а не видал нигдѣ таких горъ. На верху их – полатки и повалуши, врата и столпы и ограда, все богодѣланное. Чеснокъ на них и лукъ ростетъ болыпи романовъскаго и слатокъ добре. Там же ростутъ и конопли богорасленные, а во дворах травы красны, и цвѣтны, и благовонны зѣло. Птиц зѣло много, гусей и лебедей, по морю, яко снѣгъ, плавает. Рыба в нем – осетры и таймени, стерледи, омули и сиги, и прочих родовъ много; и зѣло жирна гораздо, на сковородѣ жарить нельзя осетрины: все жиръ будет. Вода прѣсная, а нерпы и зайцы великие в нем, – во акиане, на Мезени живучи, такихъ не видал. А все то у Христа надѣлано человѣка ради, чтоб, упокояся, хвалу Богу воздавал. А человѣкъ, суетѣ которой уподобится, дние его, яко сѣнь, преходятъ136, – скачетъ, яко козелъ, раздувается, яко пузырь, гнѣвается, яко рысь, сьесть хощет, яко змия, ржетъ, зря на чужую красоту, яко жребя, лукавует, яко бѣсъ137, насыщался невоздержно, без правила спитъ, Бога не молит, покаяние отлагаетъ на старость; и потом исчезаетъ, и не вѣемъ, камо отходит – или во свѣтъ, или во тьму, день Судный явитъ коегождо. Простите мя, аз согрѣшил паче всѣхъ человѣк!
Таже в русские грады приплыли138. Въ Енисѣйске зимовал, и, плывше лѣто, в Тобольске зимовал139. Грѣхъ ради наших война в то время в Сибири была140: на Оби-реке предо мною наших человѣкъ з дватцеть иноземцы побили. А и я у них былъ в руках: подержавъ у берега, да и отпустили, Богъ изволил. Паки на Ирътише скопом стоятъ иноземцы, ждут березовскихъ141 наших побити. А я к нимъ и привалил к берегу. Онѣ меня и опъступили. И я, ис судна вышед, с ними кланяяся, говорю: «Христос с нами уставися!» Варъвари же Христа ради умягчилися и ничево мнѣ зла не сотворили, Богъ тако изволил. Торговали со мною и отпустили меня мирно. Я, в Тоболескъ приехавъ, сказываю, – и люди всѣ дивятся142.
Потом и к Москвѣ приехал143. Три годы из Дауръ ехал, а туды пять лѣтъ волокся, против воды, на восток все ехал, промежду оръдъ и жилищъ иноземъских. И взадъ, и впред едучи, по градом и по селамъ и в пустых мѣстехъ слово Божие проповѣдал и, не обинуяся, обличалъ никониянъскую ересь, свидѣтельствуя истинну и правую вѣру о Христѣ Исусѣ.
Егда же к Москвѣ приехалъ144, государь велѣлъ поставить меня к руке145, и слова милостивыя были. Казалося, что и в правду говорено было: «Здорово ли-де, протопоп, живешь? Еще-де велѣлъ Богъ видатца». И я сопротивъ тово рекъ: «Молитвами святых отецъ нашихъ еще живъ, грешник. Дай, Господи, ты, царь-государь, здрав был на многа лѣта», и, поцеловав руку, пожал в руках своих, да же бы и впредь меня помнил. Он же вздохнул и иное говорил кое-што. И велѣлъ меня поставить в Кремлѣ на монастыръском подворье146. В походы ходя мимо двора моево, благословляяся и кланяяся со мною, сам о здоровье меня спрашивал часто. В ыную пору, миленькой, и шапку уронилъ, поклоняся со мною.
И давали мнѣ мѣсто, гдѣ бы я захотѣл, и в духовники звали, чтоб я с ними в вѣре соединился, аз же вся сия Христа ради вмѣних яко уметы, поминая смерть, яко вся сия мимо идет. А се мнѣ в Тобольске в тонце снѣ страшно возвѣщено было. Ходилъ въ церковь большую и смотрилъ в олтарѣ у них дѣйства, как просвиры вынимаютъ, – что тараканы просвиру исщиплютъ. И я имъ говорил от Писания и ругалъся их бездѣлью. А егда привыкъ ходить, такъ и говорить пересталъ, что жалом ужалило: молчать было захотѣлъ. В царевнины имянины147, от завтрени пришед, взвалился. Так мнѣ сказано: «Аль-де и ты по толиких бедах и напастех соединяесся с ними? Блюдися, да не полъма растесан будешь!»148 Я вскочил во ужасѣ велице и палъ предъ иконою, говорю: «Господи, не стану ходить, гдѣ по-новому поютъ». Да и не пошел к обѣднѣ к той церквѣ. Ко инымъ ходил церквам, гдѣ православное пѣние, и народы учил, обличая их злобѣсовное и прелестное мудрование.
Да я жъ еще егда былъ в Даурахъ, на рыбной промыслъ к дѣтям шел по льду зимою, по озеру бежалъ на базлуках149, – там снѣгу не живетъ, так морозы велики и льды толсты, близко человѣка, намерзаютъ, – а мнѣ пить зѣло захотѣлось среди озера стало. Воды не знаю гдѣ взять, от жажды итти не могу, озеро веръстъ с восьмъ, до людей далеко. Бреду потихоньку, а сам, взирая на небо, говорю: «Господи, источивый Израилю, в пустыни жаждущему, воду! Тогда и днесь – ты же! Напои меня, имиже вѣси судбами!» Простите, Бога ради! Затрѣщалъ лед, яко громъ, предо мною, на высоту стало кидать, и, яко река, разступилъся сюду и сюду и паки снидеся вмѣсто, и бысть гора льду велика, а мнѣ оставил Богъ пролубку. И дондеже строение Божие бысть, аз на востокъ кланялся Богу. И со слезами припал к пролубке и напилъся воды досыта. Потом и пролубка содвинулась. И я, возставше и поклоняся Господеви, паки побѣжал по льду, куды мнѣ надобе, к дѣтямъ150. И мне столько забывать много для прелести сего вѣка?!
На первое возвратимся. Видят онѣ, что я не соединяюся с ними, – приказал государь уговаривать меня Стрешневу Родиону, окольничему151. И я потѣшил ево, – царь то есть, от Бога учиненъ, – помолчалъ маленко. Так меня поманиваютъ: денег мнѣ десеть рублевъ от царя милостыни, от царицы – десеть же Рублевъ, от Лукьяна-духовника152 – десеть же рублев, а старой другъ, Федором зовутъ, Михайловичь Рътищевъ153 – тотъ и 60 рублев, горькая сиротина, далъ; Родионъ Стрешневъ – 10 же рублев, Прокопей Кузьмич Елизаровъ154 – 10 же рублев. Всѣ гладятъ, всѣ добры, всякой боярин в гости зоветъ. Тако же и власти, пестрые и черные155, кормъ ко мнѣ везутъ да тащатъ, полну клѣть наволокли. Да мнѣ жо сказано было: с Симеонова дни156 на Печатной дворъ хотѣли посадить. Тутъ, было, моя душа возжелала, да дьяволъ не пустил.
Помолчалъ я немного, да вижу, что неладно колесница течетъ, одержалъ ея. Сице написавъ, подал царю: «Царь-государь, – и прочая, как ведется, – подобает ти пастыря смиренномудра матери нашей общей святѣй Церкви, взыскать, а не просто смиренна и потаковника ересям; таковых же надобно избирати во епископство, и прочих властей; бодръствуй, государь, а не дремли, понеже супостатъ дьявол хощет царство твое проглотить». Да там и многонько написано было157. Спина у меня в то время заболѣла, не смогъ сам выбресть и подать, выслалъ на переездѣ с Феодором юродивым158.
Он же деръзко х корѣте приступил и, кромѣ царя, письма не дал никому. Сам у него, протяня руку ис кореты, доставал, да в тѣснотѣ людъской не достал. Осердясь, велѣлъ Феодора взять и со всѣмъ под Красное крыльце159 посадить. Потом, к обѣдне пришед, велѣлъ Феодора к церквѣ привести, и, взяв у него письмо, велѣл ево отпустить. Он же, покойник, побывав у меня, сказал: «Царь-де тебя зоветъ», да и меня в церковь потащилъ. Пришедъ пред царя, стал пред ним юродством шаловать, – так ево велѣл в Чюдов отвести.
Я пред царем стою, поклонясь, на него гляжу, ничего не говорю. А царь, мнѣ поклонясь, на меня стоя глядитъ, ничего жъ не говорит. Да так и разошлись.
С тѣхъ мѣстъ и дружбы только: онъ на меня за письмо кручинен стал, а я осердился же за то, что Феодора моего под начал послалъ.
Да и комнатные160 на меня же: «Ты-де не слушаешь царя», да и власти на меня же: «Ты-де нас оглашаешь царю и в писмѣ своем бранишь, и людей-де учишь ко церквам к пѣнию нашему не ходить». Да и опять стали думать в ссылку меня послать.
Феодора сковали в Чюдове монастыре, – Божиею волею и желѣза разсыпалися на ногахъ. Он же влѣзъ послѣ хлѣбов в жаркую печь, на голомъ гузнѣ ползая, на поду крохи побиралъ. Черн-цы же, видѣвъ, бѣгше, архимариту сказали, что нынѣ Павелъ-митрополитъ161, он же и царю извѣстилъ. Царь, пришед в монастырь, честно Феодора приказал отпустить: гдѣ-де хочет, тамъ и живет. Онъ ко мнѣ и пришел. Я ево отвелъ къ дочери своей духовной, к бояронѣ к Федосье Морозове, жить162.
Таже меня в ссылъку сослали на Мезень163. Надавали было добрые люди кое-чево, все осталося тутъ, токмо з женою и дѣтьми повезли; а я по городомъ паки их, пестрообразных зверей, обличал.
Привезли на Мезень и, полтара года держав, паки одново к Москвѣ поволокли164. Токмо два сына со мною сьехали165, а прочий на Мезенѣ осталися вси.
И привезше к Москвѣ, подержавъ, отвезли в Пафнутьевъ монастырь166. И туды присылка была, тожъ да тожъ говорят: «Долго ли тебѣ мучить нас? Соединись с нами!» Я отрицаюся, что от бѣсовъ, а онѣ лѣзутъ в глаза. Скаску имъ тутъ написалъ167 з большою укоризною и бранью и послалъ с посланникомъ их: Козьма, дьякон ярославской168, приежал с подьячим патриарша двора. Козьма-та не знаю, коего духа человѣкъ: въявѣ уговаривает меня, а втай под-крепляетъ, сице говоря: «Протопопъ, не отступай ты старова тово благочестия! Велик ты будешь у Христа человѣкъ, какъ до конца претерпишь! Не гляди ты на нас, что погибаем мы!» И я ему говорил, чтоб он паки приступил ко Христу. И он говорит: «Нельзя, Никон опуталъ меня!» Просто молыть, отрекся пред Никоном Христа, такъ уже, бѣдной, не сможетъ встать. Я, заплакавъ, благословил ево, горюна: больши тово нѣчево мнѣ дѣлать, то вѣдает с ним Богъ.
Таже, державъ меня в Пафнутьеве на чепи десеть недѣль, опять к Москвѣ свезли, томнова человѣка, посадя на старую лошедь. Пристав созади: побивай да побивай, иное вверхъ ногами лошедь в грязи упадет, а я – через голову. И днем одным перемчали девяносто веръстъ, еле живъ дотащился до Москвы.
Наутро ввели меня в Крестовую, и стязався власти со мною много169, потом ввели в соборную церковь. По «Херувимской», в обѣдню, стригли и проклинали меня170, а я сопротиво их, враговъ Божиих, проклинал. Послѣ меня в туже обѣдню и дьякона Феодора стригли и проклинали171. Мятежно сильно в обѣдню ту было.
И, подержавъ на патриарховѣ дворѣ, вывели меня ночью к Спальному крыльцу; голова досмотрил и послал в Тайнишные водяные ворота. Я чаял, в реку посадят – ано от Тайных дѣлъ шишъ анътихристовъ стоитъ, Дементей Башмаковъ172, дожидается меня; учал мнѣ говорить: «Протопопъ, велѣлъ тебѣ государь сказать, «не бось-де ты никово, надѣйся на меня». И я ему поклонясь, а сам говорю: «Челом, – реку, – бью на ево жалованье, какая онъ надежда мнѣ; надежда моя Христос!» Да и повели меня по мосту за реку. Я, идучи, говорю: «Не надѣйтеся на князя, на сыны чело-вѣческия, в нихже нѣсть спасения»173, и прочая.
Таже полуголова Осипъ Саловъ174 со стрельцами повез меня к Николѣ на Угрѣшу в монастырь. Посмотрю – ано предо мною и дьякона тащатъ. Везли болотами, а не дорогою до монастыря, и, привезше, в полатку студеную над ледником посадили. И прочих, дьякона и попа Никиту Суздальскаго175, в полаткахъ во иныхъ посадили. И Стрельцовъ человѣкъ з дватцеть с полуголовою стояли. Я сидѣл семнатцеть недѣль, а онѣ, бѣдные, изнемогли и повинились, сидя пятнацеть недѣль. Так их в Москву взяли опять, а меня паки в Пафнутьевъ перевезли176 и там в полатке, сковавъ, держали близко з год.
А какъ на Угрѣше былъ, тамо и царь приходил и посмотря около полатки, вздыхая, а ко мнѣ не вошел; и дорогу было приготовили, насыпали песку, да подумал-подумал, да и не вошел; полуголову взял и с ним кое-што говоря про меня да и поехал домой. Кажется, и жаль ему меня, да, видишь, Богу уш то надобно так.
Опослѣ и Воротынъской князь-Иван177 в монастырь приезжалъ и просился ко мнѣ, так не смѣли пустить. Денегъ, бѣдной, громаду в листу подавал. И денегъ не приняли. Послѣ, в другое лѣто на Пафнутьеве подворье в Москвѣ я скованъ сидѣлъ, такъ онъ ехал в корѣте нарокомъ мимо меня, и благословилъ я ево, миленькова. И всѣ бояря-те добры до меня, да дьяволъ лих. Хованъскова князь-Ивана178 и батогами за благочестие били в Верху; а дочь-ту мою духовную Федосью Морозову и совсѣмъ разорили, и сына ея Ивана Глѣбовича, уморили, и сестру ея княгиню Евдокѣю Прокопьевну, дочь же мою духовную, с мужемъ и з дѣтьми, бивше, розвели. И нынѣ мучат всѣхъ179, не велятъ вѣровать въ старова Сына Божия, Спаса Христа, но к новому богу, антихристу, зовутъ. Послушай их, кому охота жупела и огня, соединись с ними в преисподний адъ! Полно тово.
В Никольском же монастырѣ мнѣ было в полатке в Вознесениевъ день Божие присѣщение; в Царевѣ послании писано о томъ, тамо обрящеши180.
А егда меня свезли в Пафнутьевъ монастырь, тутъ келарь Никодимъ сперва до меня был добръ в первомъ году, а в другой привоз ожесточалъ, горюнъ: задушил было меня, завалял и окошка, и дверь, и дыму нѣгдѣ было итти. Тошнѣе мнѣ было земляные тюрмы: гдѣ сижу и емъ, тутъ и ветхая вся – срание и сцание; прокурить откутаютъ, да и опять задушатъ. Доброй человѣк, дворянин, другъ, Иваном зовутъ, БогдановичьКамынинъ181, въкладчикъ в монастырѣ, и ко мнѣ зашелъ, да на келаря покричал, и лубье, и все без указу розломалъ, такъ мнѣ с тѣхъ мѣстъ окошко стало и отдух. Да что на него, келаря, дивить! Всѣ перепилися табаку тово, что у газскаго митрополита 60 пудъ выняли напослѣдокъ182, да домру, да иные монастыръские тайные вещи, что игравше творятъ. Согрѣшил, простите! Не мое то дѣло, то вѣдаютъ онѣ, своему владыке стоятъ или падаютъ. То у них были законоучителие и любимые риторы.
У сего же я Никодима-келаря на Велик день183 попросился для празника отдохнуть, чтоб велѣлъ, двери отворя, посидѣть. И онъ, меня наругавъ, отказалъ жестоко, какъ захотелось ему; таже, пришед в кѣлью, разболѣлъся. И масломъ соборовали, и причащали, – тогда-сегда дохнетъ. То было в понедѣлникъ свѣтлой. В нощъ же ту против вторника пришел ко мнѣ с Тимофѣемъ, келейником своим, он келарь; идучи в темницу, говоритъ: «Блаженна обитель, блаженна и темница, таковых имѣетъ в себѣ страдальцов! Блаженны и юзы!» И палъ предо мною, ухватился за чепъ, говоритъ: «Прости, Господа ради, прости! Согрѣшил пред Богомъ и пред тобою, оскорбилъ тебя, и за сие наказал меня Богъ». И я говорю: «Какъ наказал, повѣжд ми!» И онъ паки: «А ты-де самъ, приходя и покадя, меня пожаловалъ, поднял, что-де запираесся! Ризы-де на тебѣ свѣтлоблещащияся и зѣло красны были!»
А келейник ево, тут же стоя, говоритъ: «Я, батюшко-государь, тебя под руку велъ ис кѣльи проводя, и поклонилъся тебѣ». И я, уразумѣвъ, сталъ ему говорить, чтоб онъ иным людям не сказывал про сие. Он же со мною спрашивался, какъ ему жить впред по Христѣ: «Или-де мнѣ велишь покинуть все и в пустыню поити?» И я ево понаказалъ и не велѣлъ ему келарства покидать, токмо бы хотя втайнѣ старое благочестие держалъ. Он же, поклоняся, отиде к себѣ, а наутро за трапезою всей братье сказалъ. Людие же безстрашно и дерзновенно ко мнѣ побрели, благословения просяще и молитвы от меня; а я их словом Божиим пользую и учю. Въ то время и враги кои были, и тѣ тут примирилися. Увы мнѣ! Коли оставлю суетный сей вѣкъ! Писано: «Горе, емуже рекутъ добре вси человѣцы»184. Воистинно, не знаю, какъ до краю доживать. Добрых дѣлъ нѣтъ, а прославилъ Богъ; да то вѣдаетъ онъ – воля ево!
Тут же приежалъ и Феодоръ, покойникъ, з дѣтми ко мнѣ побывать185 и спрашивался со мною, какъ ему жить: «В рубашке ль-де ходить али платье вздѣть?186 Еретики-де ищутъ меня. Был-де я на Резани, у архиепископа Лариона187 скованъ сидѣлъ, и зѣлодѣ жестоко мучили меня; рѣткой день плетьми не бивше пройдетъ; а нудили-де к причастью своему; и я-де уже изнемогъ и не вѣдаю, что сотворю. В нощи з горестию великою молихся Христу, да же бы меня избавилъ от них, и всяко много стужалъ. А се-де чепь вдругъ грянула с меня, и двери-де отворились. Я-де, Богу поклонясь, и побрелъ ис полаты вонъ. К воротам пришелъ, – ано и ворота отворены! Я-де и управился путем. К свѣту-де ужъ далеконько дорогою бреду. А се двое на лошадях погонею за мною бегутъ. Я-де-таки подле стороны дороги бреду: онѣ-де и пробѣжали меня. А се-де розсвѣтало, – едутъ противъ меня назадъ, а сами меня бранят: «Ушелъ-де, блядин сын! Гдѣ-де ево возьмѣшъ?» Да и опять-де проехали, не видали меня. Я-де помаленку и к Москвѣ прибрѣлъ. Какъ нынѣ мнѣ велишь: туды ль-де паки мучитца итти или-дѣ здѣсь таитца от них? Как бы-де Бога не прогневить».
Я, подумавъ, велѣлъ ему платье носить и посредѣ людей, таяся, жить.
А однако не утаилъ, нашелъ дьявол и в платье и велѣлъ задавить. Миленькой мой, храбрый воин Христовъ былъ! Зѣло вѣра и ревность тепла ко Христу была; не видалъ инова подвижника и слезоточца такова. Поклонов тысящу откладетъ да сядетъ на полу и плачет часа два или три. Жилъ со мною лѣто в одной избѣ; бывало, покою не дастъ. Мнѣ еще немоглось в то время; в комнатке двое нас; и много часа три полежитъ да и встанет на правило. Я лежу или сплю, а онъ, молясь и плачючи, приступит ко мнѣ и станетъ говорить: «Какъ тебѣ сорома нѣт? Веть ты протопопъ. Чем было тебѣ нас понуждать, а ты и самъ ленивъ!» Да и роскачает меня. Онъ кланяется за меня, а я сидя молитвы говорю: спина у меня болѣла гораздо. Онъ и самъ, миленькой, скорбенъ былъ: черевъ из него вышло три аршина, а вдругоряд – пять аршинъ, от тяготы зимныя и от побой. Бродилъ в одной рубашке и босиком на Устюге годовъ с пять, зѣло велику нужду терпѣлъ от мраза и от побой. Сказывал мнѣ: «Ногами-теми, что кочением мерзлым, по каменью-тому-де бью, а какъ-де в тепло войду, зѣло-де рветъ и болитъ, какъ-де сперва учал странствовати; а се-де лехче, да лехче, да не стало и болѣть».
Отецъ у него в Новегороде, богатъ гораздо, сказывал мнѣ, – мытоимецъ-де, Феодором же зовут; а онъ уроженецъ мезенской, и баба у него, и дядя, и вся родня на Мезени. Богъ изволилъ, и удавили его на висѣлице отступники у родни на Мезени188.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!