Текст книги "Монахи-волшебники"
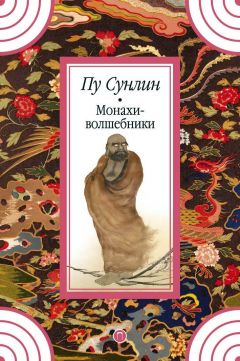
Автор книги: Пу Сунлин
Жанр: Зарубежная старинная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Сунлин Пу
Монахи-волшебники
© Алексеев В. М., наследники, перевод на русский язык, предисловие, комментарии, 2019
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
О Пу Сунлине
Пу Сунлин (по фамилии Пу, по имени Сунлин), давший себе литературное прозвание, или псевдоним, Ляо Чжай, родился в 1640 году и умер в 1715 году в провинции Шаньдун, находящейся в Восточном Китае, близ морского побережья, с которого простым глазом видны очертания Порт-Артура. Место действия его рассказов почти не выходит за пределы Шаньдуна, и время их не отступает от эпохи жизни самого автора. Вот что о нем рассказывает его, к сожалению, слишком краткая биография, находящаяся в описании уезда Цзычуань, в котором он родился и умер.
«Покойному имя было Сунлин, второе имя – Люсянь, дружеское прозвание Люцюань. Он получил на экзамене степень суйгуна в 1711 году и славился среди своих современников тонким литературным стилем, сочетавшимся с высоким нравственным направлением. Со времени своего первого отроческого экзамена он уже был известен такой знаменитости, как Ши Жуньчжан, и вообще его литературная слава уже гремела. Но вот он бросает все и ударяется в старинное литературное творчество, описывая и воспевая свои волнения и переживания. В этом стиле и на этой литературной стезе он является совершенно самостоятельным и обособленным, не примыкая ни к кому.
И в характере своем, и в своих речах покойный проявлял благороднейшую простоту, соединенную с глубиной мысли и основательностью суждения. Он высоко ставил непоколебимость принципа, всегда называющего только то, что должно быть сделано, и неуклонность нравственного долга.
Вместе со своими друзьями Ли Симэем и Чжан Лию, также крупными именами, он основал поэтическое содружество, в котором все они старались воспитать друг друга в возвышенном служении изящному слову и в нравственном совершенстве.
Покойный Ван Шичжэнь всегда дивился его таланту, считая его вне пределов досягаемости для обыкновенных смертных.
В семье покойного хранится богатейшая коллекция его сочинений, но „Рассказы Ляо Чжая о чудесах“ („Ляо Чжай чжи и“) особенно восхищают всех нас как нечто самое вкусное, самое приятное».
Итак, перед нами типичный китайский ученый. Посмотрим теперь, каково содержание его личности как ученого, то есть постольку, поскольку это касается воспитания и вообще культурного показателя. Остальное – не правда ли? – уже сообщено в вышеприведенных строках исторической справки.
Китайский ученый отличается от нашего главным образом своею замкнутостью. В то время как наш образованный человек, – не говоря уже об ученом, – наследует в той или иной степени культуру древнего мира и Европы, являющуюся вообще сборным соединением разных отраслей человеческого знания и опыта, начиная с религии и кончая химией и чистописанием, – образованный и ученый китаец является – и особенно являлся в то время, когда жил Пу Сунлин – Ляо Чжай, – наследником и выразителем только своей культуры, причем главным образом литературной. Он начинал не с детских текстов и легких рассказов, а сразу с учения Конфуция и всего того, что к нему примыкает, иначе говоря – с канона китайских писаний, к которым, конечно, можно применить наше слово и понятие «священный», но с надлежащею оговоркой, а именно: они не заимствованы, как у нас, от чуждых народов и не занимаются сверхъестественным откровением, а излагают учение «совершенного мудреца» Конфуция о призвании человека к высшему служению. Выучив наизусть – непременно в совершенстве – и научившись понимать с полною отчетливостью и в согласии с суровой, непреклонной традицией все содержание этой китайской библии, которая, конечно, во много раз превосходит нашу хотя бы размерами, не говоря уже о трудности языка, – той библии, о которой в нескольких строках нельзя дать даже приблизительного представления (если не сказать в двух словах, что ее язык так же похож на тот, которым говорит учащийся, как русский язык на санскрит), – после этой суровой выучки, на которой «многие силу потеряли» и навсегда сошли с пути образования, китаец приступал к чтению историков, философов разных школ, писателей по вопросам истории и литературы, а главным образом к чтению литературных образцов, которые он, по своей уже выработанной привычке, неукоснительно заучивал наизусть. Цель его теперь сводилась к выработке в себе образцового литературного стиля и навыка, которые позволили бы ему на государственном экзамене проявить самым достойным образом свою мысль в сочинении на заданную тему, а именно доказать, что он в совершенстве постиг всю глубину духовной и литературной китайской культуры тысячелетий и является теперь ее современным представителем и выразителем.
Вот, значит, в чем заключалось китайское образование. Оно вырабатывало человека, отличающегося от необразованного, во-первых, тем, что он был в совершенстве знаком с тайною языка во всех его стадиях, начиная от архаической, понятной только в традиционном объяснении, и кончая современной, сложившейся из непрерывного роста языка, который впоследствии прошел еще целый ряд промежуточных стадий. Во-вторых, этот человек держал в своей памяти, – и притом самым отчетливым образом, – богатейшее содержание китайской литературы, в чтение которой он ведь был погружен чуть ли не двадцать лет, а то и больше! Таким образом, перед нами человек со сложным миропониманием, созерцающий всю свою четырехтысячелетнюю культуру и со сложным умением выражать свои мысли, пользуясь самыми обширными запасами культурного языка, ни на минуту не знавшего перерыва в своем развитии.
Таков был китайский интеллигентный человек времен Пу Сунлина. Чтобы теперь представить себе личность самого Ляо Чжая, автора этих «странных рассказов», надо к вышеизложенной общей формуле образованного человека прибавить особо отличную память, поэтический талант и размах выдающейся личности, которой сообщено столь сложное культурное наследие.
Все это и отразилось на пленительных его рассказах, в которых прежде всего заблистал столь известный всякой литературе талант повествователя. Там, где всякий другой человек увидит только привычные формы жизни, прозорливый писатель увидит и покажет нам сложнейшую и разнообразнейшую панораму человеческой жизни и человеческой души. То, что любому из нас, простых смертных, кажется обыденным, рядовым, не заслуживающим внимания, ему кажется интересным, тесно связанным с потоком жизни, над которым, сам в нем плывя, только он может поднять голову. И, наконец, тайны человеческой души, видные нам лишь постольку, поскольку чужая душа находит себе в наших бледных и ничтожных душах кое-какое отражение, развертываются перед поэтом во всю ширь и влекут его в неизбывные глубины человеческой жизни.
Однако талантливый повествователь – это только ветвь в лаврах Ляо Чжая. Самым важным в ореоле его славы является соединение этой могучей силы человека, наблюдающего жизнь, с необыкновенным литературным мастерством. Многие писали на эти же темы и до него, но, по-видимому, только Ляо Чжаю удалось приспособить утонченный литературный язык, выработанный, как мы видели, многолетней суровою школой, к изложению простых вещей. В этом живом соединении рассказчика и ученого Ляо Чжай поборол прежде всего презрение ученого к простым вещам. Действительно, китайскому ученому, привыкшему сызмальства к тому, что тонкая и сложная речь передает исключительно важные мысли – мысли Конфуция и первоклассных мастеров литературы и поэзии, которые, конечно, всегда чуждались «подлого штиля» во всех его направлениях, – этому человеку всегда казалось, что так называемое легкое чтение есть нечто вроде исподнего платья, которое все носят, но никто не показывает. И вот является Ляо Чжай и начинает рассказывать о самых интимных вещах жизни таким языком, который делает честь самому выдающемуся писателю важной, кастовой китайской литературы. Совершенно отклонившись от разговорного языка, доведя это отклонение до того, что поселяне-хлебопашцы оказываются у него говорящими языком Конфуция, автор придал своей литературной отделке такую высоту, что члены его поэтического содружества (о котором упоминалось выше) не могли сделать ему ни одного возражения.
Трудно сообщить русскому читателю, привыкшему к вульгарной передаче вульгарных тем, и особенно разговоров, всю ту восхищающую китайца двойственность, которая состоит из простых понятий, подлежащих, казалось бы, выражению – простыми же словами, но для которых писатель выбирает слова-намеки, взятые из обширного запаса литературной учености и понимаемые только тогда, когда читателю в точности известно, откуда взято данное слово или выражение, что стоит впереди и позади него, одним словом – в каком соседстве оно находится, в каком стиле и смысле употреблено на месте и какова связь его настоящего смысла с текущим текстом. Так, например, Пу Сунлин, рассказывая о блестящем виде бога города, явившегося к своему зятю как незримый другим призрак, употребляет сложное выражение в четыре слова, взятых из разных мест «Шицзина» – классической древней книги античных стихотворений, причем в обоих этих местах говорится о четверке рослых коней, влекущих пышную придворную колесницу. Таким образом, весь вкус этих четырех слов, изображающих парадные украшения лошадей, сообщается только тому, кто знает и помнит все древнее стихотворение, из которого они взяты. Для всех остальных – это только непонятные старые слова, смысл которых в общем как будто говорит о том, что получалась красивая, пышная картина. Разница впечатлений такова, что даже трудно себе представить что-либо более удаленное одно от другого. Затем, например, рассказывая о странном монахе, в молодом теле которого поселилась душа глубокого старца, Пу пользуется словами Конфуция о самом себе. «Мне, – говорит китайский мудрец, – было пятнадцать – и я устремился к учению; стало тридцать, – и я установился…» Теперь фраза Пу гласит следующее: «Лет ему (монаху) – только ни установиться, а рассказывал о делах, случившихся восемьдесят, а то и больше лет тому назад». Значит, эта фраза понятна только тем, кто знает вышеприведенное место из Конфуция, и окажется, что монаху было тридцать лет, следовательно, перевести эту фразу на наш язык надо было бы так: «Возраст его был всего-навсего, как говорит Конфуций: „когда только что он установился“, а рассказывал» и так далее. Одним словом, выражения заимствуются Пу Сунлином из контекста, из связи частей с целым. Восстановить эту ассоциацию может только образованный китаец. О трудностях перевода этих мест на русский язык не стоит и говорить.
Однако все это – еще сущие пустяки. В самом деле, кто из китайцев не знал (в прежнее, дореформенное время) классической литературы? Наконец, всегда можно было спросить даже простого учителя первой школы, и он мог или знать, или догадаться. Другое дело, когда подобная литературная цветистость распространяется на все решительно поле китайской литературы, задевая историков, и философов, и поэтов, и всю плеяду писателей. Здесь получается для читателя настоящая трагедия. В самом деле, чем дальше развивает отборность своих выражений Пу Сунлин, тем дальше от него читатель. Или же, если последний хочет приблизиться к автору и понимать его, то сам должен стать Пу Сунлином, или, наконец, обращаться поминутно к словарю. И вот, чтобы идти навстречу этой потребности, современные издатели рассказов Ляо Чжая печатают их вместе с толкованиями цветистых выражений, приведенными в той же строке. Конечно, выражения, переведенные и объясненные выше как примеры, ни в каких примечаниях не нуждаются, ибо известны каждому мало-мальски грамотному человеку.
Таким образом, вот тот литературный прием, которым написаны повести Ляо Чжая. Это, значит, вся сложная культурная ткань древнего языка, привлеченная к передаче живых образов в увлекательном рассказе. Волшебным магнитом своей богатейшей фантазии Пу Ляо Чжай заставил кастового ученого отрешиться от представления о литературном языке как о чем-то важном и трактующем только традиционные темы. Он воскресил язык, извлек его, так сказать, из амбаров учености и пустил в вихрь жизни простого мира. Это ценится всеми, и до сих пор образованный китаец втайне думает, что вся его колоссальная литература есть скорее традиционное величие и что только на повестях Ляо Чжая можно научиться живому пользованию языком ученого. С другой же стороны, простолюдин, не имевший времени закончить свое образование, чувствует, что Ляо Чжай рассказывает вещи, ему родные, столь милые и понятные, и одолевает трудный язык во имя близких ему целей, что, конечно, более содействует распространению образования, нежели самая свирепая и мудрая школа каких-либо систематиков.
В повестях Ляо Чжая почти всегда действующим лицом является студент. Китайский студент отличается от нашего, как видно из сказанного выше, тем, что он может оставаться студентом всю жизнь, в особенности если он неудачник и обладает плохою памятью. Мы видели, что и сам автор повестей Пу выдержал мало-мальски сносный экзамен лишь в глубокой старости. Мягко обходя этот вопрос, историческая справка, приведенная на предыдущих страницах, не говорит нам о том, что составляло трагедию личности Пу Сунлина. Он так и не мог выдержать среднего экзамена, не говоря уже о высшем, и, таким образом, стремление каждого китайского ученого стать «государственным сосудом» встретило на его пути решительную неудачу. Как бы ни объясняли себе он, его друзья, почитатели и, наконец, мы эту неудачу, сколько бы мы ни говорили, что живому таланту трудно одолеть узкие рамки скучных и вязких программ с их бесчисленными параграфами и всяческими рамками, выход из которых считается у экзаменаторов преступлением, все равно: жизнь есть жизнь, а ее блага создаются не индивидуальным пониманием людей, а массовой оценкой, и потому бедный Ляо Чжай глубоко и остро чувствовал свое жалкое положение вечного студента, отравлявшее ему жизнь. И вот он призывает своим раненым сердцем всю фантастику, на которую только способен, и заставляет ухаживать за студентом мир прекрасных фей. Пусть, думается ему, в этой жизни бедный студент горюет и трудится. Вокруг него порхает особая, фантастическая жизнь. К нему явятся прекрасные феи, каких свет не видывал. Они подарят ему счастье, от которого он будет вне себя, они оценят его возвышенную душу и дадут ему то, в чем отказывает ему скучная жизнь. Однако он – студент, ученик Конфуция, его апостол. Он не допустит, как сделал бы всякий другой на его месте, чтобы основные принципы справедливости, добра, человеческой глубины, человеческого духа и вообще незыблемых идеалов человека были попраны вмешательством химеры в реальную жизнь. Он помнит, как суров и беспощаден был Конфуций в своих приговорах над людьми, потерявшими всякий масштаб и в упоенье силы начинающими приближаться к скоту, – да! – он это помнит и свое суждение выскажет, чего бы это ему ни стоило. И как в языке Ляо Чжая собрано все культурное богатство китайского языка, так и в содержании его повестей собрано все богатство человеческого духа, волнуемого страстью, гневом, завистью и вообще тем, что всегда его тревожило, – и все это богатство духа вьется вихрем в душе вечно юного китайского студента, стремящегося, конечно, поскорее уйти на трон правителя, но до этих пор носящего в себе незыблемо живые силы, сопротивляющиеся окружающей пошлости темных людей.
Кружа, таким образом, своей мыслью около своей неудачи и создавая свой идеал в размахе страстей жизни, бедный студент сумел, однако, высказаться положительно и вызвал к себе отношение, далеко превышающее лавры жалостливого рассказчика. Исповеданные им конфуцианские заветы права и справедливости возбудили внимание к его личности, и, таким образом, личность и талант сплелись в одну победную ветвь над головой Ляо Чжая. И настолько умел он захватить людей своей идейностью, что один император, ярый поклонник его таланта, хотел даже поставить табличку с его именем в храме Конфуция, чтобы, таким образом, сопричислить его к сонму учеников бессмертного мудреца. Однако это было сочтено уже непомерным восхвалением, и дело провалилось.
Содержание повестей, как уже было указано, все время вращается в кругу «причудливого, сверхъестественного, странного». Говорят, книга сначала была названа так: «Рассказы о бесах и лисицах» («Гуй ху чжуань»). Действительно, все рассказы Ляо Чжая занимаются исключительно сношением видимого мира с невидимым при посредстве бесов, оборотней-лисиц, сновидений и так далее. Злые бесы и неумиренные, озлобленные души несчастных людей мучают оставшихся в живых. Добрые духи посылают людям счастье. Блаженные и бессмертные являются в этот мир, чтобы показать его ничтожество. Лисицы-женщины пьют сок обольщенных мужчин и перерождаются в бессмертных. Их мужчины посланы в мир, чтобы насмеяться над глупцом и почтить ученого умника. Кудесники, волхвы, прорицатели, фокусники являются сюда, чтобы, устроив мираж, показать новые стороны нашей жизни. Горе злому грешнику в подземном царстве! Сколько нужно сложных случайностей и совпадений, чтобы извлечь его из когтей злых бесов! А главное – судьба! Да, судьба, – вот общий закон, в котором тонет всё и тонут все: и бесы, и лисицы, и всякие люди. Судьба отпускает человеку лишь некоторую долю счастья, и как ни развивай ее, дальше положенного предела не разовьешь. Фатум бедного человека есть абсолютное божество. Таков крик исстрадавшейся души автора, звучащий в его «книге сиротливой досады», как выражаются его критики и почитатели.
Как же случилось, что все эти химерические превращения и вмешательства в человеческую жизнь, все эти туманные, мутные речи, «о которых не говорил Конфуций», – не говорят и все классики, – как случилось, что Пу Сунлин избрал именно их для своих повестей, и не только случайно выбрал, но – нет, – собирал их заботливо всю свою жизнь? Как это совместить с его конфуцианством?
Он сам об этом подробно говорит в предисловии к своей книге, указывая нам прежде всего, что он в данном случае не пионер: и до него люди такой высокой литературной славы, как Цюй Юань и Чжуан-цзы (IV век до н. э.), выступали поэтами причудливых химер. После них можно также назвать ряд имен (например, знаменитого поэта XI века Су Дунпо), писавших и любивших все то, что удаляется от земной обыденности. Таким образом, под защитой всех этих славных имен Пу не боится нареканий. Однако главное, конечно, не в защите себя от нападок, а в собственном волевом стремлении, которое автор объясняет врожденной склонностью к чудесному и фатальными совпадениями его жизни. Он молчит здесь о своей неудаче в этом земном мире, которая, конечно, легла в основу его исповедания фатума. Однако из предыдущего ясно, что Пу в своей книге выступает в ряду своих предшественников с жалобой на человеческую несправедливость. Эта тема всюду и везде, как и в Китае, вечна, и, следовательно, мы отлично понимаем автора и не удивляемся его двойственности, без которой, между прочим, он не имел бы той литературной славы, которая осеняла его в течение этих двух столетий.
В. М. Алексеев
Предисловие переводчика1
С тех пор как человек перестал быть только животным; с тех пор как окончательно выработалась его речь, победившая все преграды животного мира; с тех пор, одним словом, как человек, уйдя из просто животного состояния, перешел в состояние, так сказать, сверхживотного, в нем сейчас же загорелась мечта о существе еще более совершенном, нежели он, мечта о сверхчеловеке. И действительно, чувствуя себя царем природы и свое ни с чем не соизмеримое отличие от животного, человек не мог не видеть, что царь природы в то же время и раб ее. Природа управляла им с неумолимой непостижимостью, и, объясняя себе ее явления, то есть, иначе говоря, переводя на скудный язык своих мыслей то, что не имело аналогий в его собственной власти над вещами, человек не мог не остановиться на представлении о сверхсуществе, сверхчеловеке, божестве, которое управляет и им, и прочим миром. С этих пор необъяснимое явление внешней или своей внутренней природы он поставил над собой как реальную силу и в зависимости от того, была ли она ему страшна или желательна, выработал к ней то или иное отношение. Он боялся грозного чуда, разрушающего его жизнь, и звал к себе чудо, благоприятствующее жизни, ее созидающее.
Стремясь оградить себя от чуда злого и умолить сверхсущество о чуде всеблагом и не умея сам сноситься с миром, который был ему непонятен, человек, естественно, пришел к мысли о предстателе-заступнике, каковым может быть только сверхчеловек, но зримый, доступный его пониманию и, так сказать, говорящий на обоих языках: и с ним, и с божеством. И вот вырабатываются два типа зримого сверхчеловека: жрец-святитель и жрец-заклинатель, иногда, впрочем, легко соединимые в один. Поставив теперь над собой жреца и вверив ему свою судьбу, человек стал спокойнее относиться к чуду, от которого его уже прочно заслонял предстатель.
Однако ожидание благого чуда и боязнь чуда-лиха владели им неотступно, и, вверив себя опеке предстателя, человек тем не менее наблюдал за ним и выказывал свое к нему отношение. Он не мог не видеть, что место предстателя, являющегося по основной идее сверхчеловеком, начинает заниматься простыми людьми, пользующимися своею властью для обмана и эксплуатации при совершенном бессилии сделать то, что полагается предстателю. И очень скоро бедный человек выработал в себе двоякое к нему отношение. Нуждаясь в нем для сношений с незримым миром, он приурочивал человека к месту, им занимаемому, и чтил его как того именно сверхчеловека, которому себя вверял; с другой же стороны, он ненавидел его, озлобленный за явное несоответствие человека месту и за глумление над одураченным.
Так, в русской жизни наряду с почитанием святительства, являющего и хранящего благое чудо, видим глумление и издевательство над иереем, которому, между прочим, присваивается также очень характерное для данного явления двойственное название: батюшка и поп. Кому неизвестны издевательские русские пословицы, приуроченные к жрецу, занимающему место чудотворца, но чуда не производящему? С другой же стороны, кто не знает примет, связанных со встречей священника или монаха и, следовательно, свидетельствующих о невольном страхе перед местом предстателя, которое он занимает?
Вот это соединение издевательства с невольным почтением, характерное, конечно, для всех народных масс, мы можем наблюдать и в китайской жизни, рассказам о которой посвящается содержание этой книжки.
«Хэшан (так называют в Китае буддийского монаха) не бывает из знатной, богатой семьи», «Держит вверх ногами свою книгу – читает, невнятно бормочет», «Кто нас убивает – хэшан, кто нас уничтожает – сэн (настоящее название монаха-буддиста)», «Хэшан сидит на лошади: ослиная голова поверх лошадиной», «Плешивый осел – вот хэшан» и целый ряд непристойных пословиц и загадок говорит о невоздержанной жизни жрецов, от которых ожидается пример усмирения плоти. Однако все это самым мирным образом уживается с боязнью монаха и невольным к нему почтением, которое при малейшем к тому поводе разрастается до культа святителя.
Кто же эти китайские жрецы, от которых народ ждал руководства в тех сторонах жизни, кои не умещались в разуме и опыте?
Это прежде всего монахи-буддисты: сэны, или сэнгы (от санскр. «санга»), хэшаны, шамэни (санскр. «шрамана»), бикю [бицю] (санскр. «бикшу») и так далее. Это преемники и последователи тех индийских учителей буддизма, которые начиная с I века н. э. усердно распространяли в Китае свою веру и религию. Бессильные, как и жрецы прочего мира, творить зримое и осязаемое чудо, они предпочитали проповедовать и ниспосылать чудо незримое и неощутимое, то есть главным образом чудесное вызволение души на том свете от мук, которые предварительно ими перечисляются с должной обстоятельностью. Монах усаживается перед гробом и с особой музыкой начинает свой похоронный канон, который просит Будду, явившего миру благодеяние и «переправившего все живые существа через море скорбей», стать таким же «милосердным судном» для души покойного. Да разверзнет Будда и его милосердный бодисатва двери ада, таящего в себе неслыханные мучения душ усопших пламенем, льдом, горой мечей, деревьями ножей и так далее. Да даст он душе покойного силу явиться перед судом подземного царя и да примет наконец бедную душу в свое лоно Западного Неба (то есть рая). Вот все, что могут сделать монахи, исполняя свои обязанности предстателей. То же, чем они занимаются в своих храмах, их очередные богослужения, не предназначенные для народа, им и не учитываются: в них нет обещания ни зримого, ни даже незримого чуда.
Тем не менее история Китая свидетельствует нам о непрерывном увлечении буддизмом всего народа, начиная с царей и кончая неграмотными массами. Несмотря на резкие осуждения со стороны ученых-рационалистов, культ монаха-буддиста доходил до последних пределов человеческого обожания, сменяясь, конечно, в силу двойственности человеческих отношений к жрецу безмерным озлоблением и гонениями. Прошли века, истекает и второе тысячелетие, а ничто не изменилось. Как ни свидетельствовал обыкновенный жрец свою немощь в служении божеству, которое могло бы принести благой плод, но до сих пор весь Китай переполнен монастырями и монахами; вера в незримое сверхсущество, боязнь остаться один на один с ним без предстателя и непрерывное вековое ожидание какого-то благого яркого чуда сохраняют жизнь ненужных людей.
Кроме монахов-буддистов жречество представлено в Китае еще монахами-даосами, которые, впрочем, часто выходят из монашества, оставаясь все же духовенством. Это даоши (или даосы в диалектах Китая), или лао дао (почтеннейший даос), как их называет народ.
Если религия Будды, перенесенная из Индии в Китай, дала на этой чуждой для нее почве новые всходы, то только благодаря необыкновенной энергии ее духовенства, рассчитанной на самый широкий прозелитизм. В непонятных формах новой веры и еще более непонятных словах, тяжелых, тягучих, неуклюжих, которыми она излагалась, было важно самое главное: буддизм дал Китаю бога, которого в нем не было ни в мысли, ни в слове. Это стало понятным, и сюда устремилось все. Монах как представитель божества торжествовал в совершенно понятных формах.
Иное встречаем мы в даосской религии, выросшей на китайской почве, казалось бы столь доступной и родной. Родившийся из крайнего философского отвлечения, исповедующий крайнее эгоистическое совершенство, недопускаемое к распространению в свет, даосизм во всех своих дальнейших судьбах вел себя точно так же, как и буддизм. Он предоставлял кому угодно притекать к источнику своего познания, но анархически обходился без систематизации огромных уже религиозных накоплений, предоставляя все естественному течению дел. Когда появился буддизм с его строгой дисциплиной и с удивительно развитым каноном, даосизм сейчас же построил все свое на чужой лад, в полной параллели всего содержания религии, – и оказалось, что существуют даосские монахи, которые в общем делают то же, что буддийские, а именно главным образом молятся об освобождении души от загробной скверны. Сидя рядом с буддистами, они испрашивают покойнику аудиенцию перед Тремя Чистейшими и Яшмовым Владыкой2, а также о его благополучном прохождении по тюрьмам и загробным канцеляриям, начиная от местного божества, хватающего душу непосредственно по ее выходе из тела, и кончая богом Восточной Горы (Тайшань), где ей должно быть дано окончательное воздаяние по делам ее.
Не менее буддистов удалось даосам возбудить к себе почитание и, наоборот, презрение, с тою разницей, что они начали свою жизнь в Китае, вероятно, на целое тысячелетие ранее буддистов и, следовательно, видели и то, и другое от вверенных их предстательству людей гораздо больше, чем их собратья.
Эти два главных типа китайского духовенства, пользуясь своим успехом и положением, заняли все самые живописные уголки Китая, построили себе великолепные храмы, являющиеся высшим достоинством китайской архитектуры, и украсили их лучшими произведениями китайского искусства ваяния и живописи. Они живут в своих роскошных храмах, столь гордо и величественно возвышающихся среди жалких и смрадных лачуг четырехсотмиллионной массы, совершают непонятные обряды, бормочут и поют некитайские или, во всяком случае, необычные слова; то бреют себе голову, то отращивают волосы, заплетенные в древнюю китайскую прическу, и этим уже резко отличаются от народных масс; они носят необыкновенное одеяние – вообще живут совершенно иной жизнью, нежели все прочие люди Китая. В их кельях и храмах нет женщин – и, значит, никаких так называемых хозяйственных подробностей, так что к ним можно прийти отдохнуть в просторных покоях, среди кипарисов и мраморных бассейнов, под эгидой стерегущих от лиха великолепных золоченых статуй. Чистые, опрятные, строго выдержанные, отменно воспитанные и вежливые, озаренные терпимостью к самым разнообразным людям и положениям, они рады иностранцу, ибо и сами-то наполовину иностранцы, и многие из нас, китаеведов, не могут не вспомнить их с чувством благодарности, ибо они давали нам приют там, где «заморскому бесу» всякий другой китаец отказал бы в простейшем одолжении3.
Итак, вот кто является главным жречествующим сословием в Китае4. Сам собой напрашивается теперь вопрос: как же случилось, что такая безличная масса тунеядных людей, над которыми с откровенным бесстыдством издевается «народная мудрость», могла столь долгое время – на протяжении чуть не трех, а то и более тысячелетий – морочить мир, неизменно сохраняя свое положение и неуклонно вербуя себе все новых и новых прозелитов, ибо, будучи безбрачными, монахи не могут ведь поддержать себя родовитою традицией? Неужели же гонения на монахов, истребление их и прочие невзгоды не могли с ними покончить разом и навсегда?
Ответ на это и прост, и сложен сообразно тому, как мы воспринимаем дело веры и дело факта.
Нужно, конечно, признать, что бесконечное злоупотребление своим местом жреца, имеющего несравненно больше преимуществ и обеспеченности, нежели жизнь рядового обывателя, – это злоупотребление, являясь сплошным, могло бы все-таки уничтожить всякий авторитет жречества. Однако этот авторитет поддерживается появлением «высоких монахов», то есть таких, которые, как выражается одна древняя китайская надпись, «являются особым родом людей, воспитавших в себе чистоту и воздержание, – монахами, достигшими высшего идеала», которые пребывают «монахами великой доблести». Таких святителей, с честью и достоинством оберегающих в себе светоч великой веры, которая идет от Великого Учителя, явившего миру свет в далекой от Китая Индии; святителей, которые всею своей жизнью засвидетельствовали свое полное перерождение из оболочки съедаемого грубой жизнью человека; тех, следовательно, людей, которые, став на место, уготованное высшему существу, не дали ожиданию людей диссонанса, – таких святителей Китай знал многое множество: они-то и спасли китайских монахов от нравственного, а может быть, и физического вымирания. За время от I до X века жизнеописания «высоких монахов», китайские Четьи Минеи, дают нам сведения о 1611 монахах. Европейской литературе эти жизнеописания, за небольшими исключениями, почти неизвестны, и нет сомнения, что перевод этих буддийских сказаний значительно расширил бы опыт человеческой мысли и фантазии.









































