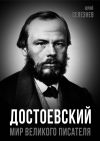Текст книги "Английский роман ХХ века: диалог с Ф. М. Достоевским"
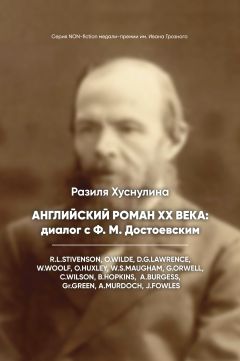
Автор книги: Разиля Хуснулина
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава I. «Открытие» Ф. М. Достоевского. 1880–1890-е годы: Р. Л. Стивенсон, О. Уайльд. 1920-е годы: Д. Г. Лоуренс, В. Вулф
«Открытие» Достоевского в Англии неразрывно связано собственно с английской литературной обстановкой, со столкновением и борьбой мнений, вкусов, идейных и художественных позиций. Первыми интерпретаторами Достоевского в 1880-1890-е годы стали Р. Л. Стивенсон и О. Уайльд. Их впечатление от романа «Преступление и наказание» (1866) было одинаково сильным эмоционально, вплоть до буквального совпадения откликов: Стивенсон назвал его «величайшей книгой»[103]103
Quoted by: Muchnic H. Dostoevsky’s English reputation / H. Muchnic. – Northampton: Smith College, 1939. – P. 17.
[Закрыть], Уайльд – «великим шедевром»[104]104
Уайльд О. «Униженные и оскорбленные» Достоевского / О. Уайльд // Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. – М.: Республика, 1993. – С. 152.
[Закрыть]. В отличие от многих своих современников, проявлявших к Достоевскому этнографический интерес, они предвосхитили более позднее к нему отношение, оценив мастерство Достоевского-психолога; отмечено было и его стремление представить «вещи со всех точек зрения»[105]105
Critical writings of Oscar Wilde. – Lincoln, 1962. – P. 21.
[Закрыть], как это написал Уайльд в рецензии на «Униженных и оскорбленных». Но, привлекая, Достоевский их и отталкивал своей «неистовой религиозностью». И все же, не принимая в Достоевском безоговорочно все, они стремились в нем разобраться.
Позже заинтересованные отзывы сменились неприязненными высказываниями Дж. Конрада, Дж. Голсуорси, Г. Джеймса, Г. Уэллса – от полного непонимания, неприятия до резкого осуждения. В этом отношении типично суждение Голсуорси о том, что произведения Достоевского, отражающие упадок нравов и разгул преступности, «опасны»[106]106
Letter to Edward Garnett. 1914. April, 5 // Letters from Galsworthy. – L.: William Heinemann, 1935. – P. 217; Forster E. M. Aspects of the Novel / E. M. Forster. – L.: Harcourt, Braceand World, 1927. – P. 132.
[Закрыть]. Таким образом, писатели, находившиеся в зените славы, предпочли роль оппонентов, высказываясь о Достоевском редко, но всегда негативно. Постепенно и в их среде появились внимательные толкователи Достоевского. Таким зарекомендовал себя А. Беннетт, который хоть и не всегда соглашался с ним, спорил, но неизменно проявлял к нему заинтересованность.
Но рядом с отзывами заинтересованными сохранялись и свидетельства полного неприятия и непонимания. В этом отношении типичны высказывания более молодого писателя Э. М. Форстера. Придя в литературу в самом начале ХХ века, он сразу включился в открытую полемику с Достоевским и даже призвал соотечественников «отвернуться от Достоевского»: «У него есть свой замечательный метод психологического анализа. Но он не наш»[107]107
Letter to Edward Garnett. 1910. April, 24 // Letters from Galsworthy. – P. 177.
[Закрыть].
В пестроте оценок и порой даже в невнятице суждений вряд ли было что-то парадоксальное: живое восприятие чужой литературы неизбежно соотносилось английскими писателями с тем, что происходило в их собственной культуре, было для нее непривычно, неожиданно, выпадало из устоявшихся канонов. Вполне естественно, что по их отношению к Достоевскому можно было составить довольно точное представление о системе взглядов того или иного из них.
Настороженность и опаска, с которыми был встречен Достоевский, в 1920-е годы сменились устойчивым, даже повышенным интересом к нему Д. Г. Лоуренса и В. Вулф. Старшее поколение уже сказало свое слово о Достоевском. И теперь модернисты, защищая «своего» Достоевского, бросили им вызов. Протестуя против «устарелых» художественных представлений предшественников, писатели молодые, «революционные по духу самопознания» (М. Брэдбери), стали читать его так, точно именно он ответил на их «проклятые» вопросы. Едва ли удивительно, что в этом противостоянии с традиционалистами Достоевский пришелся к месту.
Порой Лоуренс и Вулф вступали с ними в открытую и, вероятно, сознательную полемику, высказываясь об одном и том же произведении Достоевского. Так, Голсуорси считал его смакующим низменные приметы современной жизни и, оценивая «Братьев Карамазовых», «содрогался при одной мысли о выведенных в них монстрах»[108]108
Letter to Edward Garnett. 1910. April, 24 // Letters from Galsworthy. – P. 177.
[Закрыть]. Лоуренс же связывал с изображением «низменных примет» жизни творческую самобытность Достоевского, а «Братьев Карамазовых» называл «священной книгой», которая может быть «опорой в годы апокалиптического хаоса»[109]109
Lawrence D. H. Letter to Lady Ottoline Morrell. 1916. February, 1 / D. H. Lawrence // Letters of Lawrence. In 8 vols. Vol. 2. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. – P. 521.
[Закрыть]. Полемика о Достоевском неизбежно выходила за рамки его творчества. Голсуорси называл модернистов «пустоцветами», а они упрекали традиционалистов в риторике. В перекличках о Достоевском сконцентрировались все те упреки и обвинения, которые одно поколение предъявляло другому.
Высказываясь о Достоевском и не всегда с ним соглашаясь, каждый из них вел свой диалог с писателем. И он не был спокойным даже у Лоуренса и Вулф. Лоуренс «разоблачал» Достоевского с задором молодости, соперничества, верой в свое призвание и не меньшее предназначение. Вулф высказывалась о нем ровнее: и восхищаясь, и одновременно не принимая чего-то. В соответствии с их меняющимися представлениями о жизни и литературе они видели в Достоевском иррационалиста, хроникера извращенцев, пророка, мистика и величайшего психолога. «Если мы хотим понять душу и сердце, где еще найдем что-либо подобной глубины»[110]110
Woolf V. Modern Fiction / V. Woolf // The Commonreader. – L.: Penguin Books, 1938. – P. 152.
[Закрыть], – писала Вулф. В их интерпретации Достоевский стал выразителем не только русской, но и общечеловеческой души. Его величие они мотивировали не тем, как он отразил свою эпоху, ее предпочтения, тенденции, дух и смысл, а тем, как преодолел рамки времени, выйдя к универсальным проблемам. 1920-е годы стали в «английской судьбе» Достоевского кульминационными: произошло его реальное «открытие».
В том, как Лоуренс и Вулф прочитали Достоевского, было немало общего с его начальным восприятием Стивенсоном и Уайльдом в 1880-е годы. Можно без преувеличения сказать, что своими положительными отзывами о Достоевском они привлекли к нему внимание. И уже потом, преодолевая резкие суждения традиционалистов, модернисты углубили и уточнили его оценку. О 1880-х годах, «стилистически значимых», М. Брэдбери писал: «В действительности за тридцать-сорок лет до Первой мировой войны в английской литературе произошел стилистический переворот – и такой значительный, что привел к смене одного литературного периода другим»[111]111
Bradbury M. The Social context of modern English Literature / M. Bradbury. – Oxford: Blackwell, 1971. – P. 69.
[Закрыть]. За четыре десятилетия, их разделяющих, на его взгляд, изменилось многое, в том числе сама форма романа, и Достоевский имел к этому непосредственное отношение. Со ссылкой на мнение Лоуренса Брэдбери отмечает, что Достоевский «поместил роман XIX века в «подполье» искусства»[112]112
Bradbury M. The Modern World. Ten Great Writers / M. Bradbury. – L.: Secker and Warburg, 1988. – P. 29.
[Закрыть].
О. Уайльд, затем Стивенсон были первыми, кто оценил формальную, стилистическую оформленность Достоевского, увидел за «бесформенностью» содержание, родственное их собственным исканиям. Оно проявилось в их общей с модернистами тенденции, ее обусловившей, – «многосмысленности» жизни и тяги к переходам одного начала в другое. «Там, где видели одну мысль, он умел найти и нащупать две мысли, раздвоение; там, где видели одно качество, он вскрывал в нем наличность и другого, противоположного качества, – писал М. М. Бахтин об особенностях поэтики Достоевского. – …Он воспринимал глубокую двусмысленность и многосмысленность каждого явления»[113]113
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Советский писатель, 1963. – С. 41–42.
[Закрыть].
Вместе с тем освоение английскими романистами опыта Ф. М. Достоевского проходило под знаком своего понимания литературы. «Неоромантик» Стивенсон, как видно из его статьи «Зарисовки в жанре реализма» (A note on realism, 1883), поддерживал «романтическую одухотворенность и приподнятость чувств»; «эстет» Уайльд считал искусство «обителью красоты»; традиционалисты ратовали за «реальность подлинного опыта»; модернистов Лоуренса и Вулф объединяло убеждение, что за поверхностью привычных вещей скрывается «нечто» – сама неуловимая суть жизни, и они делали упор на постижение метафизического смысла жизни.
Эти вопросы среди прочих обсуждали в литературном клубе «Сэвил» (осн. в 1874), законодателем которого был Стивенсон и куда входили Редьярд Киплинг, Райдер Хаггард, Герберт Уэллс (О. Уайльда туда не приняли, конечно, не по литературным причинам; и «местом его наблюдений» стал паб «Краун»). Там в буквальном смысле разрабатывали «литературную стратегию», поэтому к работе клуба привлекались опытные редакторы: Эндрю Лэнг, Сидни Колвин, который, в частности, наставлял и О. Уайльда, а также видный критик тех лет Лесли Стивен, отец писательницы В. Вулф – фигура заметная в общественной и литературной жизни Англии. Позже этот дух царил и в оставленном им дочери доме в Блумсбери, где собирались поэт Т. С. Элиот, философ Бертран Расселл, литературовед Роджер Фрай, критик Литтон Стрейчи, романист Эдвард Морган Форстер и многие другие.
И «Сэвил», и эстетизм 1880–1890-х годов, отчасти питавшийся идеями неоромантиков, и «Блумсбери» – это особый знак времени, когда на смену традиционному представлению об искусстве приходило новое. Ощущение единства этих писателей создавалось не только благодаря общим литературным наставникам, частым высказываниям друг о друге. Вслед за Достоевским каждый из них стремился достичь в своих книгах впечатления «многомерности» жизни, но разными методами.
Стивенсон (1850–1894), автор знаменитого «Острова сокровищ» (Treasure Island, 1883), признался в письме к А. Р. Саймонзу, что, прочитав «Преступление и наказание» во французском переводе 1884 года, «заболел» этой книгой – такова была сила впечатления. В том же письме Стивенсон назвал роман Достоевского «величайшей книгой, прочитанной… за последние десять лет» и добавил: «Я почувствовал… определенное бессилие у большинства современных людей, мешающее им жить жизнью книги или ее героя, которые держатся в стороне, подобно зрителям кукольного шоу. Таким людям книга покажется пустой уже к середине; для других она – их комната, дом родной, в котором они живут, задаются мучительными вопросами и, решая их, очищаются»[114]114
Quoted by: Muchnic H. Dostoevsky’ English Reputation. – P. 17.
[Закрыть].
Его особенно поразил интерес Достоевского к «нравственным сложностям», тем самым, над которыми он, еще не зная «Преступления и наказания», бился в «детском» романе «Остров сокровищ». Кроме того, Стивенсону, как выяснилось позже, была свойственна психологическая пристальность Достоевского во взгляде на природу человеческую, на неожиданные сочетания добра и зла. Своими читательскими переживаниями он поделился с другом Г. Джеймсом, но, к своему удивлению, услышал, что он «никак не одолеет эту книгу», а вот «она его уже одолела», и назидание поменьше увлекаться «темным неорганизованным гением»[115]115
Quoted by: Muchnic H. Dostoevsky’ English Reputation. – P. 17.
[Закрыть].
В рассказе «Маркхейм» (также «Убийца», англ. Markheim, 1885), опубликованном спустя год после появления французского перевода «Преступления и наказания», Стивенсон по-своему перерабатывает роман Достоевского. Рассказ, в котором речь идет о жестоком убийстве хозяина ломбарда, критики сравнивали, строку за строкой, с романом Достоевского, уличали автора в подражании, даже в буквальном заимствовании. Позже Д. Дейви назвал «попыткой втиснуть в рассказ весь роман «Преступление и наказание»[116]116
Davie D. Introduction. Russian Literature and Modern English fction / D. Davie. – Chicago: University of Chicago Press, 1965. – P. 3.
[Закрыть]. Однако, в отличие от Достоевского, Стивенсон мало уделяет внимания мотивам преступления, поскольку убийство происходит в самом начале повествования, и рассказ звучит скорее как «аллегория о пробуждающейся совести»[117]117
Олдингтон Р. Стивенсон: портрет бунтаря // Р. Олдингтон. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. – С. 254.
[Закрыть].
Изложив в первых же абзацах предысторию убийства, писатель в дальнейшем подменяет «норму» человеческих отношений «нормой» мирового устройства: ничего не происходит здесь бесследно и ни от чего нельзя уйти. Поэтому, переступив гражданский закон, его герой Маркхейм страшится «законов природы», «и еще больше испытывал он рабский, суеверный ужас при мысли о каком-нибудь провале в непрерывности человеческого опыта, какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее законов». Герой, ассоциирующий себя, подобно Раскольникову, с Наполеоном, опасается, вдруг природа «поломает форму этой взаимосвязи», как это случилось с французским императором, когда «зима изменила время своего прихода». Набивая карманы антикварными принадлежностями, Маркхейм раздумывает, «как наладить другой, теперь уже запоздалый ход, как заново стать зодчим содеянного»[118]118
Стивенсон Р. Л. Маркхейм / Р. Л. Стивенсон // Алмаз Раджи: роман, повесть, рассказы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 143.
[Закрыть].
Но конечный итог – «спасение» героя – зависит не только от его конкретного действия – сумеет ли он убежать, – а в гораздо большей мере от неведомых обстоятельств. И вот «чье-то лицо показалось в дверной щели, глаза обежали комнату, остановились на нем», и страх, с которым герой не мог совладать, «вырвался наружу в хриплом крике»[119]119
Стивенсон Р. Л. Маркхейм / Р. Л. Стивенсон // Алмаз Раджи: роман, повесть, рассказы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 151.
[Закрыть]. Появление незнакомца способствует нагнетанию таинственности. Но на него возложена автором и другая задача. «Дьявол», он же второе «я» героя, символизирует, как и в случае с Иваном Карамазовым, борьбу добра и зла в душе Маркхейма. И, по мнению Олдриджа, читатель действительно «ждет, что кто-то обязательно должен быть зверски убит для того, чтобы грешник смог затем раскаяться в убийстве»[120]120
Олдингтон Р. Стивенсон: портрет бунтаря. – С. 254.
[Закрыть]. Тем не менее еще одного убийства не происходит. Перепалка с дьяволом, его собственным темным «я», приводит героя к осознанию неотвратимости содеянного. Мучимый им, Маркхейм, подобно Раскольникову, испытывает «чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством». «Преступление, за которым ты меня застал, – поясняет Маркхейм дьяволу, – мое последнее. …Сегодня из того, что совершено здесь, я извлеку предостережение и богатство – то есть силу и новую решимость стать самим собой»[121]121
Стивенсон Р. Л. Маркхейм. – С. 154.
[Закрыть]. Его «борениям» недостает психологической глубины Раскольникова. Становится очевидным, насколько Стивенсону в целом менее важно все то, что прежде всего захватывает самого Достоевского. Он не придает значения религиозной духовности Достоевского, подменяя ее мистической таинственностью.
Вместе с тем, понимая, что у Достоевского есть чему поучиться, Стивенсон продолжает свой диалог с ним, выступая в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» (The Strange Case of Dr. Jekull and Mr Hyde, 1886) как в роли его союзника, так и оппонента. Интерес Стивенсона теперь обращен к теме «двойничества», сочетанию «добродетели и ужасного порока» в одном человеке. Эту тему Достоевский впервые вывел в «Двойнике» (1845), подражая «Носу» Н. В. Гоголя. Особенно полно тему двойничества писатель развил в своих зрелых произведениях, где двойник – кривое зеркало, отражающее реальное лицо. Так, Раскольников («Преступление и наказание») узнает себя в Свидригайлове («есть какая-то точка общая»); Ставрогин («Бесы»), который и без того «двоится и говорит сам с собою», считает Верховенского-старшего своей «главной половиной»; Версилов («Подросток») признается, что он раздваивается, словно рядом «стоит… двойник»; в душе молодого Ивана Карамазова («Братья Карамазовы») «сидел лакей Смердяков».
В «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсон осмыслил догадку, высказанную Достоевским и ставшую убеждением писателей ХХ века: что свет и тьма перемешаны, что дневная сущность часто скрывает ночную, а видимость вообще обманчива.
Стивенсон смело указывал на источник, однако некоторые его биографы постарались скрыть эти «следы». Так, Ричард Олдингтон, перечисляя в «Портрете бунтаря» биографии Стивенсона, писателей, оказавших на него влияние, не назвал Достоевского. «Однако если …присмотреться к Стивенсону на фоне Достоевского, – пишет в предисловии к книге Д. М. Урнов, – то станет видно не только подражание, но и родственность. Связь заведомая, чтением выявленная и обусловленная»[122]122
Урнов Д. М. Судьба Стивенсона. Предисловие / Д. М. Урнов // Стивенсон: портрет бунтаря / Р. Олдингтон. – С. 16.
[Закрыть].
История доктора Джекила и его двойника Хайда, в которого он благодаря медицинским опытам перевоплощается, передана «со стороны». «Нам фактически не показаны дурные дела Хайда, лишь говорится, что он является воплощением сатанинской злобы, и в качестве примеров приводятся эпизоды с упавшей девочкой, на которую наступил Хайд, и убийство сэра Дэнверса Кэрью, – отмечает Уильям Арчер. – Совершенно очевидно, что писатель хотел показать пороки Хайда и добродетели Джекила как личные свойства, долженствующие иметь символическое значение»[123]123
Фрагмент статьи У. Арчера // Стивенсон: портрет бунтаря / Р. Олдингтон. – С. 241–242.
[Закрыть].
Детективную историю о двойниках с убийствами, расследованиями автор фактически превратил в психологический этюд о границах добра и зла в человеческой природе, но не смог показать их борения; его персонажи – носители разных моральных ценностей, без манихейского смешения, которое могло бы приблизить их к героям Достоевского. «Те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, – говорит доктор Джекил, – в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей»[124]124
Стивенсон Р. Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда / Р. Л. Стивенсон // Алмаз Раджи: роман, повесть, рассказы. – С. 211.
[Закрыть].
Чтобы показать двойничество и «подполье» в людях, которые внешне выглядят благородными джентльменами, Стивенсон поначалу почти педантично проводит доктора Джекила через сходную с героем «Записок из подполья» ситуацию; оба сознательно выбирают «подполье». Но самолюбивый и обидчивый «парадоксалист» Достоевского ищет в «подполье» спасение «от слишком яркого сознания своего унижения»[125]125
Достоевский Ф. М. Записки из подполья. Т. 2. – С. 404.
[Закрыть], а тщеславный доктор Джекил пытается определить свои «склонности» и очень скоро выясняет, что у него «не только два облика, но и два характера». В герое скрывается потенция множества превращений, перенятая Стивенсоном у Достоевского, но поданная в ином ключе.
Автор удваивает и утраивает сюжетные ходы, чтобы представить жизнь героя в его двоящемся лике. «Я был сам собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству, и когда при свете дня усердно трудился на ниве знания или старался облегчить чужие страдания и несчастья»[126]126
Стивенсон Р. Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. – С. 211.
[Закрыть], – признается Джекил. Противоречивость героев измеряется «широтой» человека: один состоит из зла, другой остался прежним негармоничным и двойственным Генри Джекилом, который считает, что человек «не един, но двоичен», и не исключает, что он, может быть, окажется даже «общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленений»[127]127
Стивенсон Р. Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. – С. 211.
[Закрыть]. Стивенсоновская «двойственность», скрывающая возможность множества превращений, даже зловеща. В итоге, если герой Достоевского благодаря Лизе выходит из «подполья», то «исправить и облагородить» Джекила уже невозможно – его полностью вытеснил Хайд.
Достоевский гордился, что он первым вывел «трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в осознании лучшего и в невозможности достичь его». Причины же «подполья» он объяснял отсутствием веры в общие правила: «Нет ничего святого»[128]128
Достоевский Ф. М. Примечания. Т. 2. – С. 552.
[Закрыть].
Со свойственной ему искренностью Стивенсон называл себя в числе живых моделей для «подпольных» героев Достоевского. Он продолжил тему душевного «подполья» в людях благообразных, внешне ничем не примечательных, во «Владетеле Баллантрэ» (The Master of Ballantrae: A Winter’s Tale, 1889) (позже в «Уир Гермистон», англ. Wair of Hermiston, 1894, неок.). Этот роман можно было бы назвать шотландским вариантом «Братьев Карамазовых», поскольку здесь также показан распад старинной семьи. Однако в стивенсоновском старом лорде Дэррисдире, в отличие от Федора Павловича Карамазова, отнюдь нет «силы низости карамазовской»[129]129
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 11. – С. 310.
[Закрыть], и в сыновьях «черты карамазовщины» – жестокость, страстность, плотоядие (определение Ивана) – представлены, скорее, символически: Джеймса едва ли можно уподобить Дмитрию, представляющему «карамазовщину» в психологическом плане, а Генри – Ивану, который воплощает ее в плане философском.
Назвав историю семьи Карамазовых вариантом «случайного семейства», Достоевский разъяснил в «Дневнике писателя» (июль – август 1877 г.), что «случайность» состоит в утрате современными отцами общей идеи, в которую они бы сами верили и передали бы ее детям. Такой «общей идеи» не было и у лорда Дэррисдира, и, характеризуя его, Стивенсон отмечает: «…Постоянное место его было у камина – там он сидел в подбитом мехом плаще, читая свою книгу. Мало для кого находилось у него хоть слово»[130]130
Стивенсон Р. Л. Владетель Баллантрэ / Р. Л. Стивенсон // Алмаз Раджи: роман, повесть, рассказы. – С. 237.
[Закрыть]. В обоих романах показаны внутреннее разложение и распад семьи, рост эгоизма и своеволия, утрата духовных ценностей.
И хотя в центре романа «Владетель Баллантрэ» стоит та же трагедия одиночества, писатель соединяет, казалось бы, несовместимые элементы: движение якобитов в Шотландии, кровную вражду братьев Генри и Джеймса, разобщенность и неспособность к пониманию супругов, преданность Владетелю индийского факира, совершающего чудеса, покушение на убийство одного из братьев верным слугой и порядочным человеком. И каждый эпизод, замкнутый в себе как самостоятельное целое, опровергает непреложность ранее показанного, предлагая все новые, зеркально противоположные отражения сюжетно сходных ситуаций. И вначале этот «обман чувств»[131]131
Стивенсон Р. Л. Владетель Баллантрэ / Р. Л. Стивенсон // Алмаз Раджи: роман, повесть, рассказы. – С. 316.
[Закрыть] действительно маскирует Джеймса, старшего из двух сыновей, который «страдает», что потерял родовые владения и невесту, вышедшую замуж за брата-соперника, когда он отправился на чужбину защищать «законного короля». Вместе с тем видимой связи между этими событиями в отношениях братьев, как выясняется, нет, и Джеймс всегда был «зачинщиком всех ссор»: а в Генри «не было… крайностей ни в дурную, ни в хорошую сторону, а был он простой, честный человек, как многие из его соседей»[132]132
Стивенсон Р. Л. Владетель Баллантрэ / Р. Л. Стивенсон // Алмаз Раджи: роман, повесть, рассказы. – С. 238.
[Закрыть].
Но Стивенсон, уже дав, казалось бы, убедительные характеристики персонажей, словно накапливает смысловые сложности: те самые затруднения, оговорки, которые характеризуют его стиль, как будто собирая точки зрения, увиденные с разных сторон. В результате герои одного произведения Стивенсона легко соотносятся с героями нескольких произведений Достоевского. У Джеймса оказывается гораздо больше общего с князем Валковским из «Униженных и оскорбленных», чем с Дмитрием, а у Генри – с героем-мечтателем из «Бедных людей». Джеймс, как и Валковский, герой-циник, который «освободил себя от всех пут и обязанностей». Напротив, Генри, как и Макар Девушкин, страшась реальной жизни с ее трудностями, стал «каким-то странным существом среднего рода – мечтателем», оторванным от жизни. По ходу романа у него появляется больше общего с персонажем «Записок из подполья» Достоевского – та же вера в счастливую жизнь в «хрустальном дворце», то же ощущение собственной виновности, как и у «подпольного» человека («как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу»)[133]133
Достоевский Ф. М. Записки из подполья. – С. 405.
[Закрыть].
Осознание стивенсоновскими героями, как и героями Достоевского, противоречивости жизни, вызывает в них внутреннюю напряженность, постоянную сосредоточенность на двоящемся лике жизни, на разоблачении, срыве масок, намеке на сложность там, где, кажется, царит пустота, на гибели, грозящей, откуда ее не ждешь. «Никогда еще на свете не было подобного дьявольского измышления, – пишет автор о Джеймсе, – такого коварного, такого простого, такого неуязвимого… Мистер Генри был истинный джентльмен; в минуты подъема и когда этого требовали обстоятельства, он мог держать себя с достоинством и воодушевлением»[134]134
Стивенсон Р. Л. Владетель Баллантрэ. – С. 320.
[Закрыть]. Но идиллия у Стивенсона – мираж; она существует на поверхности жизни и обрывается пустотой, подточенная иной точкой зрения, более сложным знанием. Поэтому, «чем крепче мистер Генри запутывался в сетях брата, тем связаннее становилось его поведение»[135]135
Стивенсон Р. Л. Владетель Баллантрэ. – С. 320.
[Закрыть]. Автор показывает несостоятельность ожиданий, и его оценки героев в романе внушают настороженность, а сами их поступки могут лишь на недолгий миг удерживать развитие событий. Следующее мгновение снова раскрывает непредвиденное осложнение обстоятельств. «Расчетливость и коварство» одного из братьев и «молчание» «из гордости» другого приводят к тому, что окружающие считают Джеймса «образцом терпения и благожелательности», а Генри – «ходячей завистью и неблагодарностью»[136]136
Стивенсон Р. Л. Владетель Баллантрэ. – С. 319.
[Закрыть]. Оттого что автор показывает не всю правду, возникает ощущение, что поступки его героев теряют практическую целесообразность. В чем, в каком реальном свершении может обрести покой Генри? Что значит его постоянное молчание? Так ли крепки и несомненны позиции Джеймса? Тяготея к многосмысленности, Стивенсон с чрезвычайной осторожностью пишет, как снимаются противоречия, когда Генри силой воли меняет свою позицию по отношению к Джеймсу. Но подобные моменты даются ему с огромным трудом. И прежде он «осушает свой бокал страданий». «В великих книгах, – пишет Стивенсон, – нас потрясает нечто подобное жизненным переживаниям, которые всячески провоцируются. Нас потрясает, …как рассказчик «Униженных и оскорбленных» Достоевского осушает до дна свой бокал страданий и добродетели»[137]137
Quoted by: Baring M. Landmarks in Russian Literature (Ch. 4. Dostoevsky) / M. Baring. – Methuen and Co.: 36 Essex Street W. G. London, 1910. – P. 125.
[Закрыть].
Повествование во «Владетеле Баллантрэ» начинается с рассказа старого дворецкого, потом речь постепенно переходит к другим лицам. Они и появляются в роли неких непосредственных свидетелей событий, хотя, в сущности, опережают их и выступают, как у Достоевского, со своей непроверенной концепцией, которой еще предстоит столкнуться с реальностью. В итоге картина обогащается не столько деталями, сколько оттенками смысла.
Анализ мыслей человека, снедаемого чувством неудовлетворенности, который становится врагом самому себе, соотносится с тревогой Достоевского, увидевшего в подобном типе личности социальную опасность. В стивенсоновском романе Генри сперва доходит до дуэли, потом до безумия, а в конце концов – и до смерти. И его меняющийся на протяжении повествования лик наводит на мысль о наличии у него, кроме названных светлых двойников из романов Достоевского, также и черного – Смердякова: убийцы-исполнителя, угрюмого и молчаливого, по существу, подпольного типа. Воспринимая в творчестве Достоевского соположение крайностей, Стивенсон поражался их взаимообратимости. Склонный к внесистемному восприятию жизни, он с этими «крайностями» соотносил «странные сплавы добра и зла» в произведениях Достоевского.
Критики дружно нападали на роман Стивенсона за эти «странные сплавы», «романтику», «бутафорский эпос», за единственный женский образ Элисон, чувства которой «раскрыты недостаточно». «Если бы мне пришлось начать все с самого начала, – пишет Стивенсон, – вероятно, я попытался бы отнестись к любви с большим почтением. Худшая сторона нашего воспитания в том, что христианство не признает и не чтит любви»[138]138
Цит. по: Олдингтон Р. Стивенсон: портрет бунтаря. – С. 318.
[Закрыть]. Эти новые для Стивенсона взгляды появились лишь в конце его жизни. Во «Владетеле Баллантрэ» двойственность, придающая призрачность контурам, бесконечную неясность дали, отразилась и в отношении к любви. Когда Элисон отвергает Генри, он тянется к ней, когда она нежна, Генри отталкивает ее.
Поясняя сходный «феномен двойственной любви» в романах Достоевского, С. Цвейг пишет: «Герои Достоевского не хотят любить так, как их любят: они хотят любить и всегда быть жертвой, больше давать, чем получать… и потому у него, мастера контрастов, ненависть так похожа на любовь, а любовь так похожа на ненависть»[139]139
Цвейг С. Достоевский (Из книги «Три мастера») / С. Цвейг // Подросток / Ф. М. Достоевский. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – С. 75.
[Закрыть]. Любовь у них может граничить с ненавистью, состраданием, упрямством, насилием над собой, но за ней всегда стоит изначально другое чувство. Намеченную тему «двойственности любви» Стивенсон так и не раскрывает. Скупость диалогов во «Владетеле Баллантрэ», неразвернутость сцен, несовпадение внутренних движений у Генри и Элисон подчеркивает сосредоточенность на главной перипетии – роковом противоборстве братьев, и любовь не присутствует ни в одной из трех эмоциональных сфер романа: страхе, ревности, мысли об убийстве.
В итоге и цельность его героев не так самоочевидна и объективна, как у Достоевского. Их духовная жизнь и материальная ощущаются автором как две несовместимые сферы. Уайльд видел в этом близость к собственным исканиям. «Для романтического писателя, – писал он, – нет обстановки хуже романтической», то есть, по его логике, либо мечта, либо действительность – творить на бумаге или же в самой жизни. По его мнению, сотворив вокруг себя свой приключенческий мир, Стивенсон уничтожил мечту об этом мире, мечту, порождающую книги. Рассуждая о Стивенсоне, Уайльд словно примерял сказанное к самому себе, предчувствуя, что оно станет и его явью.
Говоря об источнике непосредственного на него влияния, Оскар Уайльд (1854–1900) называл Достоевского. Публицистика Уайльда позволяет проследить, как складывалась его эстетическая система и какое место в ней занимал русский писатель. В статье «О нескольких романах» (About several Novels, 1887), куда также вошло эссе «„Униженные и оскорбленные” Достоевского» (Dostoevsky’s the Insulted and Injurent), Уайльд выделил роман «Преступление и наказание» и отметил способность Достоевского «распознавать глубочайшие психологические тайны». Уайльд восхищался его мастерством психолога в обрисовке персонажей: «Мы знакомимся с ними постепенно, точно так же, как с людьми, которых обычно встречаем в обществе: сначала мы замечаем только мелкие штрихи манер или наружности, хотя даже на этой стадии они постоянно ускользают от нас, потому что, как бы ни обнажал перед нами Достоевский секреты их натур, он никогда не объясняет своих героев вполне, и они не перестают удивлять нас тем, что говорят или делают, до конца сохраняя в себе вечную тайну жизни»[140]140
Уайльд О. «Униженные и оскорбленные» Достоевского. – С. 152.
[Закрыть].
Роман «Униженные и оскорбленные» О. Уайльд прочитал с позиций добра и зла: в нем «дух и рок Немезиды, богини возмездия, карающей за преступления, довлеет над каждым героем романа». Символика Уайльда мифоподобна, и Наташа Ихменева выдерживает сравнение с благородными жертвами античной трагедии, «она – Антигона со страстями Федры», а Алеша, за которым она следует, – это «второй Тито Мелема». Вот только, в отличие от героя Дж. Элиот, он, не желая того, творит зло. «Мы начинаем понимать, что отнюдь не одни только испорченные люди поступают дурно и не одни только плохие порождают зло»[141]141
Уайльд О. «Униженные и оскорбленные» Достоевского. – С. 152.
[Закрыть].
Чуть позже, в начале 1890-х годов, духовный кризис привел Уайльда к резкому противопоставлению личности и общества и остро поставил проблему, выдвинутую еще Достоевским, – «свободы воли» и ее нравственных пределов. Уайльд разрабатывает ее в романе «Портрет Дориана Грея» (The Picture of Dorian Gray, 1891) и пьесе «Саломея» (Salome, 1893). С героем романа Достоевского их сближают сходство этической ситуации, тип художественной коллизии.
Существеннее, однако, сходство взгляда на тему волюнтаристского произвола и на сам этот феномен, который для Уайльда выражается в субъективном волеизъявлении личности, переступающей нравственный закон. Реминисценция темы «Преступления и наказания» в его произведениях менее всего случайна. За ней стоят проникновение в художественный мир Достоевского, осмысление с позиций конца XIX века умонастроений эстетско-декадентской среды: поколебавшихся ценностей, духовной деформации, ставших ее приметой, которые оказали влияние на литературу первой трети ХХ века. Тем самым Уайльд прокладывал путь к переосмыслению мотивов Достоевского.
Сюжет романа «Портрет Дориана Грея», приближенный к эффектной романтической фабуле, основан на традиционном мотиве сделки с дьяволом, а потому нетрудно угадать в нем и другие, кроме «Преступления и наказания» и «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона, источники непосредственного влияния на творческий замысел: «Шагреневая кожа» Бальзака и «Фауст» Гете. Следуя за этими писателями, Уайльд возводит на уровень концепции проблему обновления жизни человека через его возрождение. Не смерть страшна Дориану, а потеря удивительных художественных сокровищ и наслаждений. И эта безграничная свобода жизненных проявлений, осознание своего «хотения» связываются автором не с грехом, а с глубиной пережитого художественного наслаждения. Но чем дальше Дориан заходит в своем эксперименте, тем больше пренебрегает требованиями морали. И начинается «достоевщина»: герой тяготится мыслью о совершенном им преступлении – убийстве автора своего портрета Бэзила Холлуорда.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?