Текст книги "Вавилон. Сокрытая история"
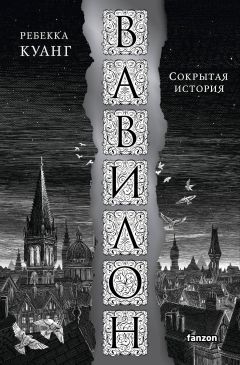
Автор книги: Ребекка Куанг
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Он показал слово, написанное на оборотной стороне. Итальянское tradurre. И положил пластину на стол.
– Переводить, – сказал он. – Tradurre.
И в тот миг, когда он оторвал ладонь от пластины, она начала вибрировать.
Все потрясенно смотрели, как пластина все сильнее и сильнее трясется. Это было ужасно. Пластина словно ожила, как будто в нее вселился какой-то дух, отчаянно пытающийся вырваться на свободу или хотя бы расколоть ее на части. Она не издавала никаких звуков, кроме яростного стука об стол, но Робин услышал в собственном разуме мучительный крик.
– Словесная пара «переводить» создает парадокс, – хладнокровно объяснил профессор Плейфер, когда пластина начала трястись с такой силой, что подскакивала над столом, как в судорожном припадке. – Пластина пытается создать чистый перевод, соответствующий смыслам, заложенным в каждом слове, но это, разумеется, невозможно, потому что идеальных переводов не существует.
В пластине возникли трещины, которые разветвлялись и расширялись.
– Энергии словесной пары некуда деться, кроме как в саму пластину. Возникает непрерывный цикл, пока в конце концов пластина не сломается. И… вот.
Пластина высоко подпрыгнула и разлетелась на сотни мелких кусочков, рассыпавшихся по столам, стульям и полу. Однокурсники Робина отпрянули, зажмурившись. Профессор Плейфер и бровью не повел.
– Не делайте этого. Даже из любопытства. Это серебро, – он пнул ногой один из осколков, – нельзя использовать повторно. Даже если его переплавить, любые пластины, сделанные даже из унции этого серебра, будут бессильны. Хуже того, эффект заразителен. Если активировать пластину, когда она лежит на куче серебра, эффект распространится на все, с чем соприкасается. Легкий способ впустую растратить пару десятков фунтов, если не соблюдать осторожность. – Он положил гравер обратно на рабочий стол. – Вам все понятно?
Они кивнули.
– Хорошо. Никогда об этом не забывайте. Жизнеспособность перевода – это увлекательный философский вопрос, и, в конечном счете, именно он лежит в основе истории Вавилона. Но такие теоретические вопросы лучше оставить для занятий. А не для экспериментов, которые могут обрушить все здание.
– Энтони был прав, – сказала Виктуар. – Зачем идти на кафедру литературы, когда есть кафедра серебряных работ?
Они сидели в буфете за тем же столом, что всегда, охмелев от осознания собственного могущества. С тех пор как закончился урок, они повторяли одни и те же слова о работе с серебром, но все равно это казалось таким новым, таким невероятным. Когда они вышли из башни, весь мир показался другим. Они вошли в дом мага, увидели, как он смешивает зелья и произносит заклинания, и теперь не могли остановиться, пока не попробуют сами.
– Кто-то произнес мое имя? – Энтони сел напротив Робина. Он посмотрел на их лица и понимающе улыбнулся. – Ага, припоминаю этот взгляд. Сегодня Плейфер устроил для вас демонстрацию?
– Именно этим вы и занимаетесь целыми днями? – восторженно спросила Виктуар. – Играетесь со словесными парами?
– Примерно так, – отозвался Энтони. – Приходится повозиться с этимологическими словарями, но когда наткнешься на то, из чего может выйти толк, это потрясающе. Сейчас я занимаюсь словесной парой, которая может пригодиться кондитерам. Мука́ и му́ка.
– А разве это не совершенно разные слова? – спросила Летти.
– На первый взгляд так и кажется, – ответил Энтони. – Но я проследил их происхождение до слов «мять», «мягкий». То есть мука – это зерно, которое мнут, мучают. Со временем слова разошлись и стали означать совершенно разное. Если словесная пара заработает, пластины можно установить на мельницах, чтобы лучше молоть муку. – Он вздохнул. – Не уверен, что все получится, но если выйдет, я до конца дней буду обеспечен бесплатными булочками из «Кладовых и сада».
– Ты получаешь роялти? – поинтересовалась Виктуар. – В смысле, когда создают копии пластин?
– Нет. Я получаю скромную сумму, а вся прибыль идет Вавилону. Хотя мое имя впишут в книгу со списком всех словесных пар. Пока что моих там шесть. По всей Британской империи сейчас в ходу около тысячи двухсот пар, так что я мог бы уже почивать на лаврах. Это гораздо лучше, чем публиковать свои тексты.
– Погоди-ка, – сказал Рами. – А тысяча двести – это не слишком мало? Ведь словесные пары используют со времен Римской империи, так как же…
– Как так получилось, что мы еще не покрыли всю страну серебром со словесными парами для чего угодно?
– Именно, – подтвердил Рами. – Или как минимум не придумали больше тысячи двухсот.
– Ну, подумайте вот о чем, – сказал Энтони. – Проблема очевидна. Языки влияют друг на друга, у слов появляются новые значения, они как вода прорывают плотину, и чем преграда более проницаемая, тем слабее сила. Большинство серебряных пластин в Лондоне – это переводы с латыни, французского и немецкого. Но эти пластины теряют эффективность. Лингвистический поток течет через континенты, иностранные слова, такие как «соте» или «круассан», входят в английский язык, и семантические искажения теряют силу.
– Профессор Ловелл говорил нечто подобное, – припомнил Робин. – Он убежден, что романские языки со временем будут давать все меньше отдачи.
– Он прав, – сказал Энтони. – В этом столетии так много всего было переведено с других европейских языков на английский и обратно. Мы, похоже, не можем избавиться от интереса к немецким философам или итальянским поэтам. Таким образом, романские языки – это и впрямь самая хрупкая ветвь факультета, как бы переводчики с французского и итальянского ни пытались делать вид, что Вавилон принадлежит им. Классические языки также становятся все менее перспективными. Латинский и греческий еще немного продержатся, поскольку свободное владение любым из них пока остается прерогативой элиты, но латынь все больше проникает в разговорный язык. Где-то на восьмом этаже один аспирант работает над возрождением мэнского и корнского языков, но никто не верит, что у него получится. То же самое с гэльским, только не говорите Кэти. Вот почему вы трое так важны. – Энтони жестом обвел всех по очереди, кроме Летти. – Вы знаете языки, которые в Вавилоне еще не выдоили досуха.
– А как же я? – возмущенно вскинулась Летти.
– Ну, на некоторое время все будет в порядке, но только потому, что Британия пытается создавать чувство национальной идентичности в противовес Франции. Французы – суеверные язычники, а мы протестанты. Французы ходят в деревянных башмаках, а мы носим кожу. Пока что мы сопротивляемся нашествию французского на наш язык. Но на самом деле имеют значение только колонии и полуколонии – Робин и Китай, Рами и Индия. Вы, мальчики, – неизведанная территория. За вас все готовы сражаться.
– Ты говоришь о нас как о сырьевых ресурсах, – сказал Рами.
– Разумеется. Язык – такое же ценное сырье, как золото или серебро. Из-за «Грамматик» люди готовы сражаться и умирать.
– Но это же нелепо, – сказала Летти. – Язык – это просто слова и мысли, невозможно помешать им пользоваться.
– Разве? А ты знаешь, что в Китае введена смертная казнь за преподавание мандаринского иностранцам?
Летти повернулась к Робину.
– Это правда?
– Думаю, да, – ответил он. – Профессор Чакраварти говорил об этом. Правительство империи Цин напугано. Они боятся чужаков.
– Видите? – сказал Энтони. – Языки не просто состоят из слов. Язык – это способ видеть мир. Ключ к цивилизации. За эти знания можно и убить.
– Слова рассказывают истории, – так в этот день начал свою первую лекцию профессор Ловелл в просторной аудитории без окон на пятом этаже башни. – А история самих этих слов – как они вошли в употребление и как их значения трансформировались в то, что они означают сегодня, – рассказывает нам о народе не меньше, если не больше, чем любой другой исторический артефакт. Возьмем, к примеру, слово «валет». Как вы думаете, откуда оно произошло?
– Из игральных карт? Там есть король, дама… – начала Летти, но потом сообразила, что аргумент замыкается сам на себе. – Ой, не важно.
Профессор Ловелл покачал головой.
– Слово произошло от французского valet, «слуга», а оно, в свою очередь, от старофранцузского vaslet – «оруженосец». Но когда в конце шестнадцатого века рыцарство как институт исчерпало себя, а аристократы поняли, что дешевле и надежнее нанимать профессиональные армии, сотни оруженосцев остались без работы. И они поступили как свойственно молодым людям в трудных обстоятельствах – объединились с разбойниками и грабителями. Так слово приобрело второе значение – на французском карточном жаргоне «бубновый валет» означает мошенник и плут. Таким образом, история этого слова описывает не просто изменение языка, а изменение всего общественного строя.
Профессор Ловелл не был прирожденным оратором. Перед слушателями он был скован, движения стали резкими и скупыми, а говорил он сухо, мрачно и прямолинейно. Тем не менее каждое слово из его уст было идеально выверенным, продуманным и захватывающим.
Накануне лекции Робин боялся занятий со своим опекуном. Но оказалось, что все не так страшно. Профессор Ловелл обращался с ним так же, как и когда в Хампстед приходили гости, – формально, отстраненно, не задерживая на нем взгляд, как будто не видел пространства, в котором существует Робин.
– Слово «этимология» произошло от греческого «этимон», – продолжил профессор Ловелл. – Что означает «подлинное значение слова», в свою очередь, оно произошло от слова «этимос» – «истинный». Таким образом, можно считать этимологию способом проследить, как далеко слово ушло от своих корней. Потому что слова путешествуют в чудесном танце, и в буквальном, и в метафорическом смысле. – Он вдруг посмотрел на Робина. – Как на мандаринском будет «большой шторм»?
Робин вздрогнул.
– Э-э-э… фэнбао?[47]47
fēngbào, 風暴.
[Закрыть]
– Нет, именно большой.
– Тайфэн?[48]48
táifēng, 颱風.
[Закрыть]
– Хорошо. – Профессор Ловелл обратился к Виктуар. – А какие природные явления обычно бушуют над Карибами?
– Тайфуны, – ответила она и удивленно моргнула. – Тайфэн? Тайфун? Как…
– Начнем с греко-латыни, – сказал профессор Ловелл. – Тифон – это чудовище, сын Геи и Тартара, разрушитель с сотней змеиных голов. На каком-то этапе он стал ассоциироваться с жестокими ветрами, потому что позже арабы описывали словом «туфан» жестокий штормовой ветер. Из арабского слово перешло в португальский, а оттуда на кораблях мореплавателей перебралось в Китай.
– Но тайфэн – это не заимствованное слово, – возразил Робин. – Оно составлено из китайских слов: тай – это большой, а фэн – это ветер…
– А тебе не кажется, что китайцы могли найти такую транслитерацию, которая имела бы собственное значение? – спросил профессор Ловелл. – Такое постоянно случается. Фонологические кальки часто являются также и семантическими. Слова распространяются по миру. По словам с удивительно похожим произношением можно проследить точки соприкосновения культур в истории человечества. Языки – это всего лишь меняющиеся наборы символов, достаточно стабильные, чтобы сделать возможным взаимный дискурс, но достаточно подвижные, чтобы отражать меняющуюся социальную динамику. Когда мы используем слова в серебряных пластинах, то обращаемся к этой меняющейся истории.
Летти подняла руку.
– У меня вопрос относительно метода.
– Слушаю.
– Исторические исследования – это замечательно. Нужно только искать артефакты, документы и все в таком духе. Но как проследить историю слов? Как определить, откуда они прибыли?
Профессору Ловеллу вопрос явно понравился.
– С помощью чтения, – ответил он. – Другого пути нет. Собираете все источники, которые можете найти, а затем садитесь решать головоломки. Ищете закономерности и нарушения. Например, мы знаем, что в латинском времен Древнего Рима не произносилась m на конце слова, ведь на надписях в Помпеях буква m на конце отсутствует. Именно так мы определяем звуковые изменения. Сделав это, мы можем предсказать, как должны развиваться слова, и если итог не соответствует прогнозам, вероятно, гипотеза о связанном происхождении неверна. Этимология – это детективная работа сквозь века, и дьявольски трудная работа, как поиск иголки в стоге сена. Но наши конкретные иголки, я бы сказал, вполне стоят того, чтобы их искать.
В том же году на примере английского языка они начали изучать, как языки растут, изменяются, сливаются, размножаются, расходятся и сближаются. Они изучали звуковые изменения; почему в английском слове knee не произносится k, в отличие от немецкого аналога; почему взрывные согласные латинского, греческого и санскрита имеют такое точное соответствие с согласными в германских языках. Они читали Боппа, Гримма и Раска в переводе; читали «Этимологии» Исидора. Изучали семантические сдвиги, синтаксические изменения, диалектические расхождения и заимствования, а также реконструктивные методы, которые можно использовать для установления связей между языками, на первый взгляд не имеющими ничего общего друг с другом. Копались в языках, как в шахтах, отыскивая ценные жилы общего наследия и искаженного смысла.
Это изменило их речь. Они постоянно останавливались, не договорив. Они не могли произносить даже обычные фразы и афоризмы, не задавшись вопросом, откуда взялись эти слова. Такие вопросы проникли во все разговоры, стали стандартным способом понимания друг друга и остального мира. Они больше не могли смотреть на мир и не видеть истории, сложенной повсюду, как многовековой осадок.
А влияние других языков на английский оказалось гораздо глубже и разнообразнее, чем они думали. Кофе попал в английский язык из голландского (koffie), турецкого (kahve) и первоначально арабского «кахва». Кошки породы табби получили название в честь полосатого шелка, который, в свою очередь, был назван по месту своего происхождения: багдадского квартала аль-Аттабийя. Даже основные названия тканей были заимствованными. Дамаск произошел от ткани, производимой в Дамаске; клетка гингем – от малайского слова genggang, означающего «полосатый»; коленкор – это отсылка к городу Каликут в Керале, а тафта, как сказал Рами, происходит от персидского слова «тафте», означающего «блестящая ткань».
Но не все английские слова имели столь далекие или благородные корни. Как вскоре выяснилось, на язык может повлиять что угодно: от привычек богатых и светских людей до так называемого вульгарного арго бедных и убогих. Низменные диалекты, тайные языки воров, бродяг и иностранцев внесли свой вклад во многие распространенные слова.
Английский не просто заимствовал слова из других языков; его до краев переполняло иностранное влияние, это был язык Франкенштейна. И Робину казалось невероятным, как эта страна, граждане которой гордо считали себя лучше всего остального мира, не может обойтись без заимствований даже во время вечернего чая.
В дополнение к этимологии в этом году каждый из них изучал еще один язык. Смысл был не в том, чтобы свободно овладеть им, а в том, чтобы в процессе углубить понимание основных языков. Летти и Рами начали изучать протоиндоевропейский язык с профессором де Вризом. Виктуар предложила консультативному совету ряд западноафриканских языков, но ей отказали на том основании, что Вавилон не располагает достаточными ресурсами для надлежащего обучения ни одному из них. В итоге профессор Плейфер уговорил ее изучать испанский, имевший отношение к окрестностям Гаити, но она была не слишком этим довольна.
Робин занимался санскритом с профессором Чакраварти, который на первом же уроке отругал его за то, что до сих пор не выучил этот язык.
– Студентов, изучающих китайский, сначала надо бы научить санскриту. Санскрит пришел в Китай через буддийские тексты, и это вызвало настоящий взрыв языковых изменений, поскольку буддизм ввел десятки понятий, для которых у китайцев не было простых слов. Монахиня, или «бхиксуни» на санскрите, стала «ни»[49]49
ní, 尼.
[Закрыть]. Нирвана стала «непань»[50]50
nièpán, 涅槃.
[Закрыть]. Основные китайские понятия, такие как ад, сознание и бедствие, пришли из санскрита. Сегодня нельзя разобраться в китайском, не понимая буддизма, а это означает понимание санскрита. Все равно что пытаться понять умножение, не умея писать цифры.
Робин подумал, что несправедливо обвинять его в том, что он преждевременно выучил язык, на котором говорит с рождения, но не стал возражать.
– В таком случае с чего начнем?
– С алфавита, – бодро отозвался профессор Чакраварти. – С основных строительных блоков. Возьмите перо и выпишите эти буквы, пока у вас не выработается мышечная память. Думаю, это займет с полчаса. Приступайте.
Латынь, теория перевода, этимология, главные языки и новый вспомогательный – это была на редкость серьезная учебная нагрузка, особенно когда каждый профессор назначал такие домашние задания, как будто других курсов не существовало. Преподаватели совершенно не сочувствовали студентам.
– У немцев есть прекрасное слово Sitzfleisch, – заявил профессор Плейфер, когда Рами возмутился, что им приходится читать больше сорока часов в неделю. – В буквальном переводе оно означает «сидячее мясо». Это означает, что иногда просто нужна усидчивость.
И все же находилось место и для веселья. Оксфорд стал их домом, и они прорыли в нем собственные норки, где их не просто терпели, а принимали с удовольствием. Они выяснили, какие кофейни обслужат их без лишнего шума, а в каких либо делают вид, что Рами не существует, либо объявляют его слишком грязным, чтобы сидеть на их стульях. Узнали, в какие пабы могут заходить после наступления темноты, не подвергаясь унижениям. Они сидели в аудитории Дискуссионного общества Оксфордского университета, с трудом сдерживая смех, когда студенты вроде Колина Торнхилла и Элтона Пенденниса с таким жаром кричали о справедливости, свободе и равенстве, что у них краснели щеки.
По настоянию Энтони Робин занялся греблей.
– Ничего хорошего в том, чтобы постоянно горбатиться в библиотеке, – сказал Энтони. – Нужно напрягать мышцы, чтобы мозги работали как следует. Разгонять кровь. Попробуй, тебе пойдет на пользу.
И ему действительно понравилось. Он находил удовольствие в ритмичных упругих движениях, снова и снова загребая веслом. Его руки окрепли, ноги почему-то стали казаться длиннее. Постепенно Робин распрямился и нарастил мышцы, что доставляло ему глубокое удовлетворение каждое утро, когда он смотрелся в зеркало. Он стал с нетерпением ждать прохладного утра на Айсисе, когда город еще не проснулся и на многие мили вокруг слышно было только щебетание птиц и приятный плеск погружающихся в воду весел.
Девушки тоже пытались проникнуть в лодочный клуб, но ничего не вышло. Они были недостаточно высокими, к тому же во время гребли приходилось много кричать, и им было трудно притворяться мальчиками. Но через несколько недель до Робина дошли слухи о двух агрессивных новичках в университетской команде по фехтованию, хотя Виктуар и Летти все отрицали.
– Именно агрессия в этом и привлекает, – в конце концов призналась Виктуар. – Так забавно наблюдать. Мальчишки постоянно рвутся вперед и упускают из виду стратегию.
– И в результате достаточно просто смотреть в оба и ждать, пока они ослабят защиту, – согласилась Летти. – Всего-навсего.
Зимой Айсис замерзла, и они катались на коньках, хотя ни один из них, кроме Летти, никогда раньше этим не занимался. Они завязали ботинки как можно крепче («Еще крепче! – велела Летти. – Они не должны елозить, иначе переломаете лодыжки») и, качаясь, покатили по льду, цепляясь друг за друга, чтобы сохранить равновесие, хотя в результате падали все вместе, стоило одному не удержаться на ногах. Рами сообразил, что нужно наклониться вперед и пригнуть колени, тогда он сможет катиться все быстрее и быстрее, и на третий день уже нарезал круги перед остальными, даже Летти, притворившаяся расстроенной, когда он ее обогнал, не могла удержаться от смеха.
Теперь их дружба стала прочной и долговечной. Они больше не были ошарашенными и испуганными первокурсниками, цепляющимися друг за друга. Они были усталыми ветеранами, которых объединили общие испытания; закаленными солдатами, опирающимися друг на друга в любой ситуации. Дотошная Летти, несмотря на ворчание, всегда делала пометки в переводе, не важно, поздно ночью или рано утром. Виктуар была «жилеткой» и выслушивала любое количество жалоб и мелочного нытья, не уходя от темы. А Робин мог постучать в дверь Рами в любое время дня и ночи, если хотел выпить чаю, над чем-нибудь посмеяться или с кем-то поплакать.
Осенью они почти не обратили внимания на новый курс – четырех мальчиков с детскими личиками. Друзья вдруг стали вести себя как старшекурсники, которым завидовали на первом курсе. Оказалось, за снобизм и надменность они принимали усталость. Старшекурсники не собирались издеваться над новичками. У них просто не было времени.
Они стали теми, кем стремились на первом курсе, – отстраненными, умными и усталыми до мозга костей. Они были несчастны. Они слишком мало спали и ели, слишком много читали и полностью утратили связь с миром за пределами Оксфорда или Вавилона. Они игнорировали мирскую жизнь; их жизнь стала строго интеллектуальной. И им это нравилось.
А Робин вопреки всему надеялся, что никогда не настанет день, о котором предупреждал Гриффин, и он всегда будет вот так балансировать. Потому что он никогда не был счастливее: его слишком занимала очередная стоящая перед ним задача, чтобы задумываться о том, как соблюсти равновесие.
В конце первого триместра в Вавилон приехал французский химик Луи Жак Манде Дагер и привез с собой прелюбопытнейший предмет. Это была гелиографическая камера-обскура, как он ее назвал, способная воспроизводить неподвижные изображения с помощью медных пластин и светочувствительных составов, хотя он не смог точно описать механику. Не могли бы в Вавилоне ее усовершенствовать?
Проблема камеры Дагера стала предметом обсуждения всей башни. Преподаватели устроили соревнование: любой студент, допущенный к работам с серебром, который решит проблему Дагера, мог добавить свое имя к его патенту и получал право на долю в будущих доходах. В течение двух недель на восьмом этаже царила тихая суматоха: студенты четвертого курса и научные сотрудники листали этимологические словари, пытаясь найти словесную пару, которая позволит найти правильную смысловую связь между светом, цветом, изображением и имитацией.
Головоломку в итоге разгадал Энтони Риббен. По условиям контракта с Дагером запатентованная словесная пара держалась в секрете, но ходили слухи, будто Энтони использовал латинское imago, которое помимо значения «подобие» или «имитация» также подразумевает «призрак». По другим слухам, Энтони нашел способ растворить серебряную пластину, чтобы получить пары нагретой ртути. О чем речь на самом деле, Энтони не признавался, но ему хорошо заплатили.
Камера работала. Волшебным образом точное подобие запечатленного объекта удавалось воспроизвести на листе бумаги за удивительно короткое время. Устройство Дагера – дагерро– тип, как его назвали, – стало местной сенсацией. Каждый хотел сделать свой портрет. Дагер и преподаватели Вавилона устроили трехдневную демонстрацию в вестибюле башни, и нетерпеливые посетители выстроились в огромную очередь, загибающуюся за угол.
Робин беспокоился за свой перевод с санскрита, который должен был сдать на следующий день, но Летти настояла, чтобы они пошли и сделали портрет.
– Разве ты не хочешь запечатлеть нас на память? – спросила она. – Сохранить этот момент на века?
Робин пожал плечами.
– Не особо.
– А я хочу, – упрямо заявила она. – Хочу помнить, какими мы были сейчас, в 1837 году. Не хочу никогда забывать.
Они расположились перед камерой. Летти и Виктуар на стульях, сложив ладони на коленях. Робин и Рами встали позади них, не зная, куда девать руки. Положить их девушкам на плечи? Или на спинки стульев?
– Руки по бокам, – скомандовал фотограф. – И не шевелитесь. Нет, сначала сдвиньтесь поближе друг к другу. Вот так.
Робин улыбнулся, но понял, что не сможет растягивать рот столько времени, и перестал.
На следующий день они забрали готовый портрет у клерка в приемной.
– Господи, – вздохнула Виктуар, – это же не имеет с нами ничего общего.
Но Летти была в восторге и настояла на покупке рамки.
– Я повешу ее над камином, как думаете?
– Я бы предпочел его выкинуть, – отозвался Рами. – Портрет выводит меня из себя.
– Вовсе нет, – возразила Летти. Дагерротип, казалось, ее околдовал, она будто видела в нем настоящее волшебство. – Это же мы. Застывшие во времени. Оставшиеся в том мгновении, которое уже никогда не вернется, сколько бы мы ни прожили. Это чудесно.
Робин тоже считал изображение странным, но вслух этого не высказал. Их лица выглядели искусственными, застывшими от неудобной позы. Камера исказила и сгладила связывавший их дух, и невидимая теплота и товарищество между ними теперь казались натянутой, вынужденной близостью. Дагерротип, подумал он, тоже своего рода перевод, и он всех их обеднил.
И в самом деле, фиалки, брошенные в тигель.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































