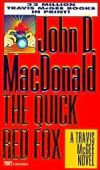Читать книгу "Лисица на чердаке"
15
Вот почему для миссис Уинтер Полли не могла стоять на таком высоком пьедестале, как для всех остальных обитателей замка: ведь миссис Уинтер невольно сравнивала Полли с маленькой Рейчел, дочкой Нелли. Полли была славная девчушка, спору нет, но не сказать, чтобы какая-то особенная.
Правда, Рейчел была годом старше Полли, но и куда умнее, куда красивее, да и характером куда лучше. Настоящая маленькая фея. А уж фантазии у нее! Послушать только, что она выдумывает! Письма Нелли всегда полны были удивительными «высказываниями» маленькой Рейчел, и тетушка не могла удержаться – каждый раз читала их вслух мистеру Уонтиджу.
У Полли же никаких таких замечательных высказываний, которые стоило бы записывать в тетрадку, не было. И все-таки, она, подрастая, будет всегда получать от жизни больше… Миссис Уинтер не могла избавиться порой от ревнивого чувства, но старалась подавить его в себе. Полли ведь не виновата, что родилась в сорочке; глупо и несправедливо было бы вымещать это на ней.
Когда Гвилим возвратился домой с фронта, священники сдержали свое слово: они не пожелали даже видеть его. Ему пришлось взять приход с крошечной миссионерской церковью в Глостере, возле доков. И тут на их семью опять навалились беды. Теперь, через шесть лет после рождения Рейчел, Нелли понесла снова. Ей это совсем было ни к чему, и она никак не могла освоиться с мыслью, что у нее будет еще ребенок.
Правду сказать, Нелли так была поглощена своей маленькой Рейчел, что о другом ребенке и думать не хотела! Казалось, она прямо-таки возненавидела его за то, что он вроде как посягал на место в ее сердце, которое по праву должно принадлежать одной Рейчел.
А кроме того, у нее была еще и вполне резонная причина считать, что этому ребенку вовсе не следует появляться на свет. Ведь что бы там ни говорили доктора, чахотка, как каждому известно, передается по наследству, а полгода назад Гвилим начал харкать кровью.
Сейчас Гвилим лежал в санатории, и Нелли снова предстояло рожать без него, только на это раз она не испытывала к будущему ребенку ничего, кроме ненависти, и была уверена, что он родится чахоточным, если еще не уродом, как первый.
Вот почему у миссис Уинтер был такой озабоченный вид, когда она, вскрыв конверт, доставала оттуда аккуратно исписанный листок линованной бумаги. Но вести в общем-то были неплохие. От Гвилима пришло письмо: он поправляется, чувствует себя много лучше, доктора, наверное, скоро отпустят его домой. У Нелли тоже все в порядке, она здорова; со дня на день можно ожидать, что начнутся роды. Что-то на этот раз никаких «высказываний» маленькой Рейчел… Да, конечно же! Ведь Рейчел отправили погостить к бабушке. Доктор настаивал, чтобы Нелли – хотя ей это совсем не по карману – легла рожать в больницу, и она неделю назад отослала ребенка к свекрови.
Миссис Уинтер опустила письмо на колени и принялась размышлять. Она была растревожена – но не письмом, а тем, что творилось у нее в душе. Почему, вместо того чтобы попросить у миссис Уэйдеми разрешения привезти сюда ребенка на недельку-другую, она допустила, чтобы Рейчел отправили к бабушке, которая вовсе этого не жаждала? Миссис Уэйдеми охотно дала бы согласие, в этом можно не сомневаться – у нее доброе сердце, и к тому же она была бы только рада, что у Полли появилась подружка. Нет, не это остановило миссис Уинтер, а что-то другое, в чем ей не хотелось признаться даже самой себе.
«У каждого своя гордость… Кому приятно чувствовать себя обязанным?..» – старалась она подыскать объяснение всему поступку и понимала в глубине души, что истинная причина кроется в другом… Миссис Уинтер была непереносима даже мысль о том, чтобы видеть перед собой обеих этих малюток вместе, рядом! Мисс Полли, перед которой открыт весь мир, и – Рейчел… Рейчел, которой, верно, лет с четырнадцати придется пойти продавщицей в какой-нибудь магазин, и у нее от постоянного стояния будут опухать лодыжки!
Но как только миссис Уинтер докопалась до своих истинных побуждений, она с характерной для нее прямотой тотчас решила, что поступила скверно, что это – чистый эгоизм! Рейчел было бы здесь очень хорошо, это принесло бы ей столько пользы, а для бедной одинокой Полли тоже было бы полезно поиграть с ребенком вместо бессловесных животных. Самих-то детей не могут волновать мысли о том, что ждет каждую из них в будущем. Им будет хорошо вдвоем, и они непременно полюбят друг друга! Рейчел постарше, она, конечно станет верховодить, а Полли сделается ее преданной маленькой рабыней.
Итак, миссис Уинтер приняла решение. И сейчас еще не поздно, слава тебе господи: матушка Гвилима будет только рада освободиться от ребенка, и чем скорее, тем лучше; ей теперь стало уже трудно двигаться, писала Нелли, и к тому же, чем дольше ничто не будет стоять между бедным маленьким новорожденным и матерью (понимала миссис Уинтер), тем больше надежды, что в сердце Нелли пробудится наконец любовь, странным образом еще не пробудившаяся до сих пор.
Сегодня же вечером она испросит у миссис Уэйдеми разрешения привезти сюда Рейчел, как только бабушка сможет ее отпустить. Ну, хотя бы на недельку, а там видно будет. После чего, как всегда перед сном, она напишет Нелли…
– О чем вы задумались, миссис Уинтер? – спросил мистер Уонтидж, делая вид, будто намерен, вытянув ноги, уронить Полли с колен.
Миссис Уинтер молча поднялась со стула и наградила Полли таким необычно нежным и звонким поцелуем, что и мистер Уонтидж, и сама Полли посмотрели на нее с удивлением.
16
Сумерки спустились на Мелтон-Чейз: по всему дому разнесся звук задергиваемых штор, и во всех окнах начали зажигаться огни – и в господских покоях, и в людской.
Вопреки Триветту Мэри вовремя вернулась домой, чтобы успеть пригласить к обеду Джереми Дибдена – оксфордского приятеля Огастина и их соседа. Обед предполагался втроем, так как заседал парламент и Гилберт, муж Мэри, задерживался в Лондоне. Впрочем, можно было надеяться, что он присоединится к ним позже.
Джереми был высок, худ, узкоплеч. «На него, должно быть, чрезвычайно трудно шить, – подумала Мэри (заметив, как тем не менее отлично сидит на нем смокинг), – да еще эта рука…» В детстве Джереми перенес полиомиелит, и правая рука у него была парализована. Когда он помнил про нее, он левой рукой придавал ей нужное положение, в противном же случае она болталась, как обрывок веревки.
Мэри была очень похожа на брата – у нее было такое же широкоскулое, умное, открытое лицо, чуть веснушчатое и бронзовое от загара, который очень шел к ее курчавым медно-рыжим волосам. Ее можно было бы принять за мальчишку, если бы не женственные очертания нежного пухлого рта. У Джереми же, наоборот, кожа была розовато-белая, как лепестки шиповника, – типично девичья, впрочем, в чертах его лица не было ничего женственного – скорее, своим совершенством оно напоминало лица греческих статуй. Несмотря на искалеченную руку, облик Джереми всегда возвращал мысли Мэри к «Гермесу» Праксителя – быть может, из-за этой полуулыбки, постоянно блуждавшей на его губах. «И он, мне кажется, сознает это сходство», – думала Мэри; прекрасные белокурые волосы такими безукоризненными завитками обрамляли его лоб, что вполне могли быть изваяны из мрамора.
«Все же его лицо никак не назовешь холодным или пресным – в нем столько жизни; просто оно очень, очень юное».
Обед подошел к концу. Белую скатерть убрали, огни канделябров играли на хрустале бокалов, отбрасывая блики на красное дерево стола.
Теперь, разумеется, полагалось оставить молодых людей за их портвейном (точнее сказать, за старой мадерой, так как портвейн вышел из моды), но, когда Мэри поднялась, разговор только что коснулся смысла человеческого существования.
– Зачем же вы уходите, – разочарованно протянул Джереми, – как раз в ту минуту, когда мы заговорили о чем-то не совсем лишенном смысла!
Мэри в нерешительности поглядела сначала на брата, потом на его приятеля.
– Хорошо, я останусь, – неуверенно проговорила она, без особой охоты снова опускаясь на стул (может быть, последнее время все эти абстрактные рассуждения стали занимать ее чуточку меньше?). – Но только на две-три минуты: миссис Уинтер хотела со мной о чем-то поговорить.
– И следовательно, ты должна нас покинуть! Как это похоже на тебя, – воскликнул ее брат. – Согласись, что я поступил правильно, сбежав от всей этой бессмыслицы.
– Не забывайте, это же наши Слуги, – укоризненно произнес Джереми с присущим ему умением придать особый смысл любому слову. Он повернулся к Мэри. – Кстати, скажите мне, я уже давно хотел спросить: что заставляет вас подвергать свою жизнь опасности, сажая за руль вашего автомобиля Триветта? – Огастин хмыкнул. – Триветт, – продолжал Джереми, – не умеет даже переключать скорости на ходу: перед каждым подъемом он останавливается как вкопанный и начинает искать рычаг переключения. Ох уж этот ваш Триветт! При звуке его клаксона… – Джереми выдержал эффектную паузу, – …пожилые женщины пытаются забраться на деревья. Он ухитряется увеличивать скорость только перед поворотами и перекрестками. Я уверен, что если он хоть один-единственный раз сознательно держался левой стороны, так это было, когда вы путешествовали по Франции.
Огастин снова хмыкнул, очень довольный.
– Когда Гилберт был холост, Триветт, насколько я понимаю, был у него старшим конюхом? Как же это взбрело вам в голову сделать его шофером?
Вопрос, казалось, был задан вполне простодушно, но Мэри с подозрением поглядела на Джереми: неужто он в самом деле не понимает, как это произошло? Молодая супруга хотела взять с собой в Мелтон своих конюхов, и, поскольку этот никчемный старик не пожелал добровольно уйти на пенсию, что же еще, спрашивается, оставалось делать? Привитые Мэри с детства понятия не позволяли ей даже помыслить о том, чтобы доверить лошадь попечению Триветта. Что говорить, когда Триветт сидит за рулем, она всегда ни жива ни мертва от страха, и в один прекрасный день он наверняка отправит их всех на тот свет. Но несомненно и то, что никто не имеет права поддаваться страху. И в такой же мере, если на то пошло, неприлично в разговоре с друзьями подвергать обсуждению их слуг! На мгновение в глазах Мэри промелькнуло даже сердитое выражение.
– Touchee?[1]1
здесь: попал в точку? (франц.)
[Закрыть] – не без лукавства пробормотал Джереми. – Ну так как же, есть или нет в безумном поведении Огастина некая здравая основа?
Огастин снова негромко рассмеялся. Ох уж эти пережитки феодализма! Насколько они фальшивы, эти освященные веками взаимоотношения! И одинаково гибельны – как для слуг, так и для тех, кому слуги служат. Он правильно поступил, освободившись от них.
С детства в душе Огастина укоренилось глубокое отвращение к отдаче всякого рода приказов. Любые взаимоотношения, основанные на подчинении одного человеческого существа другому, всегда претили ему. Но сейчас Джереми, совершив неожиданный вольт, атаковал его именно в этом направлении: наиболее опасное предвестие и даже, если на то пошло, первопричина кровавых революций не тот, кто отказывается подчиниться приказу (сказал Джереми), а тот, кто отказывается отдавать приказ.
– Кому я могу принести этим вред? – буркнул Огастин.
– Вы хотите, чтобы вам позволили оставить людей в покое? – с горячностью вскричал возмущенный Джереми. – Неужели вы не понимаете, что для самих исполнителей приказов совершенно непереносимо, когда правящий класс открещивается от своих прав? Запомни мои слова, ты, деспот, пресытившийся своим деспотизмом! Задолго до того, как фермерские двуколки примчатся в Мелтон, твоя голова покатится к ногам флемтонских вязальщиц.
Огастин фыркнул, раздавил грецкий орех и брезгливо посмотрел на его сморщенную потемневшую сердцевину. Чудно, но по внешнему виду скорлупы никогда не угадаешь…
17
– Как ты полагаешь, что бы произошло, – продолжал Джереми, – если бы таких, как ты, нашлось много? Человечество предстало бы голым и беззащитным перед ледяным взором Вольности: оно было бы предательски отдано в руки Свободы – этой извечно угрожающей ему силы, от которой Дух Человеческий неустанно стремится спастись бегством! Post equitem sedet atra Libertas![2]2
За спиной у всадника сидит неумолимая Свобода! (лат.)
[Закрыть] Мало ли было на земле революций, которые в конечном счете привели лишь к меньшей свободе?
«Бегство от свободы? Какой вздор!» – подумал Огастин.
В споре Джереми, по своему обыкновению, на ходу менял систему доказательств, перепрыгивая, как кузнечик, с предмета на предмет. Он говорил догматическим тоном, голос его звучал уверенно (лишь временами от взвинченности срываясь на высоких нотах), а лицо выражало восторженную взволнованность, ибо он по-детски наслаждался самим процессом словоизвержения. Огастин снисходительно улыбался, не столько внимая речам своего друга, сколько любуясь им. Бедняга Джереми! Обидно, что он не способен мыслить молча, поменьше треща языком, – ведь такой одаренный малый…
«Бедняга Огастин! – не переставая говорить, думал в это время Джереми. – Он ведь не верит ни одному моему слову! Нет пророка в своем… Впрочем, неважно… На этот раз я, кажется, действительно нащупал кое-что… Бегство от свободы…» Если Джереми правильно прочел знамение времени, он был ближе к истине, чем понимал сам…
Носком туфли Мэри начала тихонько, ритмично постукивать по полу. Разглагольствования Джереми заглушали эти негромкие нетерпеливые звуки, но Мэри все равно почти не слушала его. Когда-то Мэри считала, что Джереми ослепительно умен и образован; до некоторой степени она продолжала думать так и сейчас, только теперь порой ей почему-то становилось трудно уследить за ходом его мысли. Человек взрослеет (внезапно подумалось ей) даже после того, как он давно стал взрослым.
У Джереми была утомительная способность превращать вполне очевидный здравый смысл в фантастическую бессмыслицу, причем он сам, казалось, уже не в состоянии был отличить одно от другого. И вместе с тем в любую минуту он мог неожиданной фразой осветить край какой-нибудь новой истины, сделать то, чего труженик-тугодум не может добиться, терзай он свои мозги хоть целый месяц. Но сегодня с этой своей идеей «бегства от свободы», он, конечно, хватил через край. Правда, некоторые люди не так оголтело гонятся за свободой, как другие, но разница тут чисто относительная – вопрос темперамента и проворства: никто, разумеется, никогда добровольно не отказывается от свободы – это тираны отнимали ее у людей… Либерализм и демократия, в конце концов, это не просто мода, это извечное стремление, оно заложено в человеческой натуре… Это прогресс…
Каким глубоким недоверием исполнен Гилберт ко всем блестящим умникам такого сорта – к Джереми… к Дугласу Моссу… ко всем оксфордским витиям! «Это гончие, которые могут взять след, но не умеют по нему идти, – сказал он как-то раз. – Это пустомели, не знающие удержу в своей болтовне…» Гилберт в общем-то не разделяет ее страсти к охоте (иначе разве стал бы он терпеть Триветта у себя в конюшне), но он любит пользоваться оборотами охотничьего языка: он прибегает к ним в парламенте, чтобы подразнить консерваторов.
Огастин, по-видимому, ценит независимость и уединение превыше всего. Но все же та или иная форма взаимоотношений человека с человеком (думала Мэри) – это ведь и есть то, в чем в первую очередь проявляется человеческое в людях. И для гуманиста, не верящего в бога, это должно быть драгоценнее всего. Не может же существовать общение вне… вне рода людского, хотя Огастин, видимо, так считает.
Но вот мысли Мэри обратились к тому, зачем могло понадобиться миссис Уинтер так безотлагательно поговорить с ней. Надо бы пойти туда… как только Джереми сделает паузу, чтобы перевести дыхание. О чем это он теперь!
– Вы, анархисты… – услышала она обращенные к Огастину слова.
Но (подумала Мэри) если уничтожить всякую форму правления, как хотят анархисты, тогда даже повелительное наклонение придется изъять из человеческого языка, потому что «правительство» – это не просто нечто, поставленное на верхнюю полку под рубрикой ПОЛИТИКА: управление в том или ином виде пронизывает все отношения людей повседневно и ежечасно. Каждый постоянно управляет и есть управляем. Повелительное наклонение – это основа, на которой выткан священный узор людских взаимоотношений: если вы начнете безответственно раздергивать эту прочную основу, какие-то нити могут порваться, и тогда расползется вся ткань…
– Нет! – вскричал Огастин и так стукнул кулаком по столу, что звякнули бокалы. («Боже милостивый! Она, кажется, произнесла что-то из этой чепухи вслух?») – Ткань не может расползтись, потому что… потому что это всего лишь «новое платье короля»! Нет никакой ткани! Нет никакой основы, нет даже никаких нитей, связующих человека с человеком! Ничего нет!
– Понимаю, – радостно подхватил Джереми. – Ты хочешь сказать, что все человеческое общество – как те, что носят шлейф, так и те, кто его за ними носит, – всего лишь шествие разобщенных голых людей, притворяющихся одетыми? «Кого господь разъединил, да не соединятся…»
Один из бокалов еще продолжал звенеть, и Мэри, прикоснувшись к нему пальцем, оборвала его грустную жалобу.
– Право же, я должна теперь покинуть вас, – сказала она. – Я пообещала миссис Уинтер – она будет ждать меня в девять. Если приедет Гилберт со своими друзьями…
– Не уходи! – сказал Огастин. – С этими парламентскими ребятами никогда ничего нельзя знать наверняка – они могут еще и не Приехать.
– Как они сюда доберутся? – спросил Джереми. – Ваш драгоценный Триветт будет встречать поезд в Темплкомбе?
Вопрос прозвучал вполне невинно, но Мэри уловила в глазах Джереми злорадный блеск и улыбнулась про себя, покидая комнату. Психологическая несовместимость Джереми и Гилберта, проявляясь подобным образом, вызывала в ней меньшее чувство неловкости, чем их затаенная неприязнь.
18
Огастин придержал дверь, когда Мэри уходила, потом затворил ее и снова присел к столу.
– Это Гилберт говорит ее устами! – огорченно сказал Джереми. – Прежде она никогда не высказывала таких суждений.
– Логически рассуждая, – сказал Огастин, – стоит только начать ставить интересы человечества выше интересов отдельной личности, и от того, что Мэри называет «основой», всего два шага до любой чудовищной бессмыслицы, вроде «священного права монархов».
– А для истории, в ее семимильных сапогах, всего один шаг, – сказал Джереми. – Одно глиссе, в сущности… Гегель! Бр-р-р! Затем Фихте! Трейчке! Савиньи! Уф!
Огастин не спросил его, зачем он тратит время на чтение всех этих давно забытых немецких метафизиков, понимая, что, возможно, он этого и не делает. В молчании они снова наполнили бокалы.
– Политики! – сказал Джереми. – Они полностью отождествляют свои личные интересы с интересами страны. – Довольный своим изречением, он позволил легкой, сардонической усмешке пробежать по его губам. – Наши несгибаемые Гилберты – они столь незапятнанно чисты, столь далеки от фаворитизма, что принесут в жертву друга с такой же легкостью, как и врага… если на карту будет поставлена их карьера. Мне жаль Мэри!
В Оксфорде (этой обители юных душ, горящих чистым белым пламенем) все были согласны с тем, что только примитивный ум может стремиться к власти или даже принять ее, если она будет ему навязана. Под «задатками вождя», сказал однажды Дуглас Мосс, всегда скрывается Untermensch[3]3
недочеловек (нем.)
[Закрыть]. «Честолюбие – главный недуг убогого ума». Ну и так далее. Если даже Огастин сам не пользовался такого рода словарем, то это были именно те суждения, которые находили горячий отклик в его душе. В глазах Огастина даже самые честные государственные деятели и политики были в лучшем случае чем-то вроде коммунальных чернорабочих – вроде, к примеру сказать, ассенизаторов, исполняющих ту мерзкую работу, от которой приличные люди могут быть благодаря им избавлены. И пока система государственного управления не испортится и не начнет смердеть, рядовой гражданин вообще не обязан помнить о ее существовании…
А Гилберт был членом парламента! Огастину глубоко претило то, что его сестра так унизила себя этим браком с представителем презренной касты «ассенизаторов». И теперь с естественной неотвратимостью у нее самой начали появляться такие же, как у них, мысли.
– Мне жаль Мэри! – повторил Джереми. Затем его внезапно осенила утешительная мысль. – А быть может, это просто признак приближающейся старости? – милосердно предположил он. – Сколько, кстати сказать, ей лет?
Огастин вынужден был признаться, что его сестре уже стукнуло двадцать шесть, и Джереми удрученно покачал головой. В конце концов – для обоих молодых людей это было совершенно очевидно – ни один интеллект не может не утратить своей остроты после двадцати четырех – двадцати пяти лет.
– Eheu fugaces…[4]4
увы, мимолетно… (лат.) – начальные слова оды Горация «Увы, мимолетно, Постумий, Постумий, проносятся годы…»
[Закрыть] – со вздохом произнес двадцатидвухлетний Джереми. – Пододвинь-ка мне, графин, старина.
На некоторое время воцарилось молчание.
Оставшись в гостиной одна за чашкой кофе после того, как миссис Уинтер ушла, Мэри начала размышлять. Такие друзья, как Джереми, становятся теперь Огастину уже не по возрасту, если, конечно, Джереми не повзрослеет, в чем она, откровенно говоря, сомневалась.
Милый Огастин! Какую странную отшельническую жизнь он для себя избрал… Сейчас, правда, его без дальних разговоров вытащат на люди: следствие, репортеры… А быть может, оно и к лучшему? Мэри была убеждена в незаурядной одаренности брата. Если бы только он нашел применение своим талантам!
Мэри вздохнула. Природа так же расточительно плодит впустую многообещающих молодых людей, как икру с ее множеством икринок. И дело не только в том, что их потом убивают на войне. Ведь сколько юных дарований просто сходят на нет в среднем возрасте – больше, чем их уносит война или внезапная смерть. Так что же дает ей право надеяться, что ее обожаемый юный брат, которым она так восхищается, окажется той единственной икринкой из миллиона обреченных, которой суждено выжить и развиться?
Мэри поставила на стол недопитую чашку: у кофе был какой-то горький привкус… Неужели она снова беременна! Самое, в сущности, время, если учитывать интересы Полли. Через два-три дня все выяснится…
Если это будет мальчик, то все – и сестринское обожание и преклонение – повторится снова… Только на этот раз в лице маленькой Полли.
В столовой затянувшееся молчание было наконец нарушено.
– А этот ребенок… – несколько неуверенно начал Джереми. – Эта девочка… Она из высшего круга, как тебе показалось?
От неожиданности Огастин вздрогнул и побледнел.
– Трудно сказать, – отвечал он с запинкой. – Нет, пожалуй, что нет.
– Слава богу! – с облегчением произнес Джереми. – Хоть на том спасибо.
Кровь прихлынула к лицу Огастина.
– Джереми! – сказал он как можно мягче. – Это же свинство так говорить!
Джереми тоже бросило в краску – он ужаснулся собственных слов.
– Черт побери, ты прав! – честно признался он. Однако мало-помалу обычное самообладание вернулось к нему: – Но ты понимаешь, я просто хотел сказать, что она не нашего, так сказать… рода-племени… и это воспринимается как-то по-другому. Не так, как что-то родное, свое, близкое…
И в то же мгновение одна и та же мысль поразила обоих: «А что, если бы это была Полли?»
Огастин вскочил и резким движением всадил стеклянную пробку в горлышко графина.
– Мы забыли про нашу даму! – жестко сказал он, направляясь к двери.