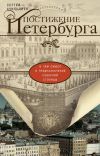Текст книги "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
4. Маньеристический панегирик: С. С. Бобров
К концу XVIII в. петербургский панегирик становится по преимуществу автореферентной системой. Топика, разработанная в ходе столетия, амплифицируется последними авторами панегириков. На место освоения, то есть адаптации чужих городских топик, приходит aemulatio собственно петербургской топики, то есть осложнение уже устоявшихся мотивов и языковых шаблонов. Последние авторы петербургского панегирика ориентируются на внутреннего образцового автора, Ломоносова, петербургская поэзия которого вытеснила классические образцы городского панегирика (Аристида, Клавдиана). Правда, в начале XIX в. панегирический петербургский текст испытывает отчасти влияние других литературных течений, в первую очередь преромантизма; однако, в силу своей автореферентности, он остается верен собственной топике. На своей последней фазе петербургская топика, если следовать терминологии Борншойера, заметно «габитуализируется». Ее отдельные топосы, отчасти утратившие структурный признак интенциональности, грозятся опуститься до клише, то есть постепенно теряют убедительность (см. выше 1.2). В новом контексте историософской проблематизации Петровских реформ традиционные топосы петербургского панегирика уже не вполне соответствуют «общепринятому мнению» (endoxa) о городе на Неве и его роли в русской культуре[305]305
Подробнее об этом в «Заключении».
[Закрыть]. О такой «окостенелости» панегирической петербургской топики свидетельствуют многочисленные оды, посвящавшиеся в юбилейном 1803 году основанию города[306]306
См.: [Пумпянский 1939: 97]. Примером тому может служить «Ода на все-радостнейший день столетния эпохи от начатия Санктпетербурга 1803 мая 16 дня» Н. Селявина.
[Закрыть].
В контексте этих эпигонских од следует рассматривать торжественную поэзию С. С. Боброва, являющуюся одной из последних вершин петербургского панегирика. Юбилейная ода Боброва «Торжественный день столетия от основания града св. Петра маия 16 дня 1803» [Бобров 1803], анализируемая ниже, может рассматриваться как своего рода итог развития петербургского панегирика. Это проявляется прежде всего в предельной цитатности оды, сполна обыгрывающей и одновременно амплифицирующей уже сложившуюся панегирическую топику. Не выходя за рамки автореферентной[307]307
Бобров, в частности, перенимает строгую просодическую структуру классицистической оды (десятистишные ямбические строфы с традиционной схемой рифмовки: абабвггвдд), пренебрегая принятыми в конце XVIII в. вольностями.
[Закрыть] системы, Бобров ищет выхода из «клишированности» петербургского панегирика и находит его в маньеристическом состязании с традицией. Виртуозно владея материалом, Бобров осложняет топику посредством ее вторичной риторизации. В своем эпигонском завершении петербургского панегирика Бобров идет по пути, ведущему к гипертрофии формы при одновременной атрофии содержания.
Далее будет рассмотрен «интертекстуальный» подход Боброва к петербургской топике на основе подробного анализа юбилейной оды. Затем речь пойдет о соотношении одического стиля Боброва и маньеристического письма. И в заключение будут приведены некоторые соображения о литературно-историческом значении маньеризма в контексте петербургской литературы[308]308
Анализ оды ограничивается первыми одиннадцатью строфами, поскольку остальные строфы (с 12-й по 17-ю) развивают исключительно топику прославления Петра I.
[Закрыть].

Государственные коллегии. Гравюра Е. Внукова с рисунка М. Махаева. 1753 г.
4.1. Торжественный день столетияУже в первой строфе оды язык Боброва выразителен, гиперболичен («в венце горящем»), оксюморонен («столетня юность») – иначе говоря, перериторизирован:
Кто там, подобная деннице
В венце горящем над главой,
В величественной багрянице
Блистает в славе над Невой?
Столетня юность с красотою,
С улыбкой важность в ней цветет;
В деснице дань она несет
Богоподобному Герою.
Не призрак ли я зрю теперь?
Нет – зрю Петрополя я дщерь.
[Бобров 1803: 110]
Эта строфа является своего рода повествовательной рамкой стихотворения, поскольку она вводит фиктивный персонаж «дщерь Петрополя», которая «произносит» в последующих строфах похвальное слово Петру I и Петербургу, конституирующее всю оду и проигрывающее уже известную топику. Вкладывание топики в уста фиктивного рассказчика является одним из приемов осложнения, использовавшихся Бобровым, позволявших ему установить определенную дистанцию к устоявшейся топике, чтобы подчеркнуть новое на фоне уже известного.
Вторая строфа содержит главный топос петербургского панегирика, топос генезиса, то есть мифическое восприятие основания города как демиургического творения Петра I (см. выше главу I, 1):
Сто лет уже, как град священный
Возник из тьмы ничтожной в свет.
И кто? какой сей дух небесный,
Дух приснопамятный в веках,
Одушевя недвижный прах,
Воздвигнул стены толь чудесны?
Немврод? – Орфей? – иль Озирид?
Нет – Петр, полночный наш Алкид.
[Там же]
Используя предромантическую метафорику, соотносящую противопоставление города и природы с противопоставлением жизни и смерти, Бобров описывает, как Петербург возник из «тьмы» и «недвижного праха». Сказуемое «возник» передает мгновенность события, подхватывающего и воспроизводящего два библейских мотива: «Да будет свет!» («из тьмы ничтожной в свет») и вдыхание жизни в прах земной («одушевя недвижный прах»).
С третьей по пятую строфу разворачивается прославление Петра I, упомянутого в последнем стихе предыдущей строфы: Петр I как создатель нового народа почитается им как «полубог» («О полубог полувселенной, <…> О тень! Божественная тень!»)[309]309
Ср., например, стих Ломоносова «Он бог, он бог твой был, Россия» [Ломоносов 1743: 99]. О феномене сакрализации царя см. выше, глава II, 1.2.
[Закрыть], продолжающий «жить» в русской действительности и после своей смерти («Живя ты в вечности, – в том мире, / Живешь еще и в сих веках»).
Эта фиктивная похвальная речь развивается подобно «цепной реакции»: каждая ее строфа порождает последующую, за счет амплификации топической мысли последнего стиха каждой строфы в следующей, причем амплификация выражается повсюду в осложнении топики. Показательно в этой связи осложнение ломоносовской звуковой инструментовки в стихе «Вдруг гром в полках гремит трикратный». Предельно высокая частота повторений звуков, основанных на ономатопоэтической комбинации смычных (т, д, к, г) + «р», утрирует не только стиль Ломоносова, но и, в сущности, сумароковские пародии на него в «Одах вздорных»[310]310
О пародийных одах Ломоносова см. [Лахманн 2001: 138–144], со ссылкой на Тынянова. Характерно, что стиль Боброва пародировался не только ранними романтиками, но и классицистами – представителями линии Сумарокова-Хераскова, например, П. Сумароковым или А. Палицыным. См. об этом: [Альтшуллер 1964: 236].
[Закрыть].

Спуск корабля в Петербурге. Акварель Ф. Шенрока. 1819 г.
Не случайно Бобров прибегает здесь к аллитерационно-синтаксическому расцвечиванию лексемы «гром», которое встречается уже у Прокоповича и практикуется в течение всего XVIII в.[311]311
Ср. «Epinikion» Прокоповича: «<…> не таков во море / шум слышится, егда ветр на ветр ударяет, / Ниже тако гром з темных облаков рыкает, / Яко гримят армати, и гласом и страхом» [Феофан Прокопович 1709: 212]. Ср. также строчки Ломоносова [Ломоносов 1746: 107]: «Что вихри в вихри ударялись, / И тучи с тучами спирались, / И устремлялся гром на гром»; и пародийные стихи Сумарокова: «С волнами волны там воюют / Там вихри с вихрями дерутся <…> Там громы в громы ударяют» [Сумароков 1759]. Ср., кроме того, построенный на звуковых повторах стих Державина: «Как гром гремящий по громам» (цит. по: [Тынянов 1977: 246], где, однако, отсутствует указание на источник).
[Закрыть]
Шестая строфа вводит очередной ключевой топос одической традиции, топос необыкновенно быстрого, мифического роста Петербурга, знаменитый ломоносовский вариант которого – удивление Невы, вдруг обнаруживающей постройки на своих берегах (см. выше главу I, 1.2) – обыгрывается в строфах с седьмой по одиннадцатую. Вот как это звучит у Ломоносова в «Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны» (1747):
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»
[Ломоносов 1747: 117]
Обновленная риторизация Бобровым поэтического материала Ломоносова идет вразрез с критикой, которой подверг эту оду Сумароков[312]312
См.: [Сумароков 1781: 95]. Об этом см.: [Лахманн 2001: 138–144].
[Закрыть]:
Гордящась чистыми струями,
Препоясующа сей град
Нева, чуждаясь меж стенами,
Мне мнится, хочет течь назад;
Чело зелено воздымая
Из-под волнистых кровов вод
И разверзая влажный свод,
Недоумеет, взор вращает.
Вдруг глас раздался волновой,
И гул помчался над водой:
«Как? Стены предо мною ныне!
Ужель в стенах бегут струи?
Мне кажется, в иной долине
Пустынны я вела краи. <…>»
[Бобров 1803: 111–112]
Если четыре первых стиха лишь парафразируют традиционные топосы[313]313
Здесь содержится намек не только на строфу Ломоносова, но и на топику Невы в целом: выражение «чистыми струями» отсылает к выражению «быстрыми струями» из «Петриды» Кантемира (1730) и в то же время к «Слову на освящение академии художеств» Ломоносова (1764): «воду <…> чистую и здоровую <…> невскими струями» и к юбилейному стихотворению Тредиаковского «Похвала ижерской земле» (1753): «Реки твоей струи легки и чисты» и пр.
[Закрыть] – с явной целью напомнить о них читателю, то в последующих стихах они амплифицируются. Соотнесение цитаты и ее дальнейшего осложнения отчетливо демонстрирует маньеристическую виртуозность Боброва в обращении с одическим материалом. Бобров делает ломоносовскую персонификацию (fictio personae) еще более риторической, усиливая и без того риторизированное высказывание о Неве: персонификация Невы становится парадоксальной материализацией, поскольку ее тело отделяется от воды (то есть от себя самой). Возникающая при этом выразительность образов основана на поэтической виртуозности, работающей с приемом гиперболической метафоры.

Дворцовая набережная в начале XVIII в. Гравюра А. Ф. Зубова
Бобров доводит прием амплификации подчас до абсурда, разрушающего логику первоначального топического контекста. Например, цитированная выше строфа из Ломоносова вводится без изменения содержания в контекст, с которым она логически уже не вяжется. Реплика Невы, выражающая удивление по поводу внезапного появления города, оформлена как прямая речь, которая здесь «вставляется» в прямую речь «дщери Петрополя»; помимо того, совершенно игноририруется абсурдность векового удивления. Предельное внимание, уделяемое Бобровым топике, явно преследует цель формального осложнения имеющегося в распоряжении поэтического материала, даже если это ведет к утрате логической связности.
Если процитированный отрывок может служить примером интенсивной риторической амплификации (amplificatio), то последующий построен на амплификации экстенсивной[314]314
О различии между интенсивной и экстенсивной амплификацией (Steigerungs– und Breiten-Amplifikation) см.: [Lausberg 1973: 645].
[Закрыть]. Бобров вновь обращается к ведущему топосу петербургского панегирика, хронотопической оппозиции «где прежде… там ныне…» (ср. выше главу I, 1.2). С «неиссякаемой», остроумной фантазией Бобров производит все новые варианты этого топоса, комбинируя его с другими элементами одической петербургской топики, например с топосом ботика Петра как «дедушки русского флота»:
Доселе со́сна, ель тенисты
Гляделися в моих водах;
Досель теснились в жидкий прах
Граниты стропотны, лесисты,
Где волчий взор в дубраве рдел,
Как огнь в зелену ночь горел.
А ныне там, где скромно крались
Рыбачьи челны близ брегов,
С бесценным бременем помчались
Отважны сонмища судов. <…>
Досель страшились робки боты
Предать себя речным водам,
А ныне ополченны флоты
С отвагой скачут по морям;
Кипящу бездну рассекают,
Хребет царя морей нагнув,
И, звучны своды вод давнув,
Пучину славой наполняют.
Но кто виновник их побед? —
Сей ботик, – их почтенный дед…
Доселе, дебри где дремали,
Там убран сад, цветет лицей;
Где мертвенны утесы спали,
Там, из могилы встав своей,
Скудели в зданиях багреют;
Где ил тонул под серым мхом,
Там прянул водомет сребром;
Там куполы в огне краснеют;
Там стогны в мрачну даль идут
Или стражницы твердь секут.
[Бобров 1803: 112–113]
Не только в этой оде, но и в других стихотворениях[315]315
См. особенно «Установление нового Адмиралтейства» (1797).
[Закрыть] Бобров наделяет традиционную оппозицию prius – nunc инновативными и виртуозными эпитетами. Замечательно предромантическая образность Боброва: в изображении петербургского ландшафта метафорика ночи, тления и смерти сглаживает хронотопические различия между prius и nunc. Маньеристически-интенсивный красный свет заката подчеркивает безотрадность городской действительности, парадоксальным образом весьма далекой от одического пейзажа[316]316
О Боброве и предромантизме, особенно о влиянии Эдварда Юнга см.: [Альтшуллер 1988; Зайонц 1985].
[Закрыть].
Вышеописанный стиль характеризуется в первую очередь стремлением осложнить поэтическую традицию посредством amplificatio и перериторизации. В этом смысле Бобров работает с моделью интертекстуальности, определяемой в риторико-поэтической традиции как aemulatio (соревнование)[317]317
См.: [Bauer 1992; Muller 1994, особенно 68–72].
[Закрыть]. Эта форма соотнесения текстов между собой предполагает непосредственное наличие пратекста или определенной топики, которая выполняет в тексте функцию образца и служит ориентиром для сравнивающего взгляда читателя, «предлагая» ему судить о том, насколько удалось осложнение. Иначе, чем imitatio, являющееся повторением, «постписьмом» (Nach-Schrift) [Muller 1994: 69] определенных топических элементов, aemulatio покидает пределы иерархических отношений между традицией и новым текстом, исходя из возможности осложнения «старого». Соревнуясь с традицией, автор младшего поколения преодолевает свою эпигонскую вторичность по отношению к оригиналу посредством оптимизации тех же поэтических установок[318]318
Сходным образом определяет осложнение (fJberbietung) и Лахманн [Lachmann 1990: 308]: «В «осложнении» сталкиваются формальные и семантические показатели двух текстов и отражается отношение между первичным и вторичным. Similitudo играет здесь роль постольку, поскольку первичное продолжает оставаться различимым во вторичном, ибо осложнение зависит от узнаваемости исходного текста».
[Закрыть].
Таким образом, понятием aemulatio здесь обозначается до-современная форма интертекста, основанная на риторико-поэтической теории подражания и коренным образом отличающаяся от романтического «диалога текстов». Aemulatio не означает перечеркивания и одновременного сохранения пратекста (пратекстов), смыслообразующие следы которого (которых) в тексте должны быть реконструированы читателем, поскольку пратекст, обыкновенно классический exemplum, непосредственно присутствует в тексте в качестве узнаваемого образца осложнения[319]319
Наличие форм aemulatio в романтическом интертексте показывает И. Смирнов [Смирнов 1994: 42–66], анализируя лирику Пушкина. Здесь, однако, речь идет об ином осмыслении aemulatio, поскольку связь с пратекстом в ней реконструируема, но не совсем очевидна.
[Закрыть].
Этот способ «контр-письма» (Gegen-Schrift) [Muller 1994: 69], эта борьба при помощи оружия поэтического мастерства с устоявшейся традицией, попытки дезавтоматизировать посредством ошеломляющей виртуозности топическое, или автоматизированное, изображение вещей этой традицией, совпадает в своих формах и функциях с трансисторическим понятием маньеристической техники письма, сформулированным в недавних работах Р. Цимнера [Zymner 1995 и 2001]. Его «определение инвариантного и не обусловленного контекстом нормативного предикатора маньеризма» [Zymner 2001: 874] является эвристической основой дифференцированного анализа различных проявлений маньеризма[320]320
Термин «маньеризм», первоначально искусствоведческий, но взятый затем на вооружение литературоведением, особенно в работах Курциуса [Curtius 1963: 277–305], Хоке [Hocke 1959] иХаузера [Hauser 1953], интерпретируется двояко: как феномен стиля и как обозначение эпохи. Как феномен стиля или как проявление кризиса стиля, маньеризм обозначает «антиклассические» формы литературы, мыслимые отчасти как циклически повторяющиеся, сменяющие периоды «классического» стиля фазы эволюции (см. обзор исследований в [Link-Heer 1998]). Как обозначение эпохи маньеризм описывает исторически конкретное литературное направление XVII в., отождествляемое с кончеттизмом; см.: [Lange 1968].
[Закрыть].
Цимнер [Zymner 1995: 65] определяет литературный маньеризм как «глобальную технику письма, функция которой состоит в том, чтобы, сохраняя конвенциональную основу, продемонстрировать поэтическую виртуозность в плане содержания и/или в плане выражения текста и спровоцировать таким образом реакцию реципиента на эту виртуозность». Цимнер уточняет тем самым классическое определение маньеризма у Курциуса и Хоке, основанное на предположении, что этот стиль уходит корнями в (пара-) риторику. Это подразумевает наличие поэтического нормативного языка («классического стиля»), от которого маньеристический стиль отклоняется вследствие своей переизбыточной, преувеличенной украшенности (ornatus)[321]321
Согласно Курциусу, маньеристический «избыток» риторических фигур имеет далеко идущие антропологические импликации: «Маньерист хочет говорить о вещах не нормально, а анормально. Он предпочитает искусственное и обыскусствленное естественному. Он хочет поражать, удивлять, ослеплять. Есть только один естественный способ говорить о вещах, в то время как неестественных – тысячи» [Curtius 1963: 286]. См. об этом также работу Хоке «Formenkunde des Irregularen» [Hocke 1959: 11].
[Закрыть]. Цимнер, напротив, считает маньеризм одной из допустимых форм поэтического отклонения вообще, так как поэтический язык в целом следует рассматривать как нарушение «нормального» употребления языка на всех уровнях[322]322
Цимнер [Zymner 1995: 51] справедливо отмечает, что нагромождение и утрирование стилистических приемов встречается и в неманьеристических текстах.
[Закрыть]. Не «анормальность» является главным критерием для определения маньеристической виртуозности, а ее функция: ядром (или минимальным знаменателем) маньеристического письма является определенный литературный жест, который определяется как «демонстративное, прямо-таки акробатически-виртуозное владение материалом» и «предстает» в искусстве искусством ради фокуса, чем провоцирует крайние реакции на эти самые фокусы» [Zymner 2001: 874]. Поэтическая акробатика маньеризма подразумевает (или делает установку на) установление ощутимой дистанции к «конвенциональной основе», к «норме»: только так она может вообще восприниматься как «демонстративная». Нормой является, однако, не априорный классический стиль в смысле Курциуса, а обусловленная контекстом и эпохой литературная конвенция (поэтическая норма, топика), от которой маньеризм отталкивается, «чтобы тем нагляднее продемонстрировать свою виртуозность» [Там же].
Как особая форма отсылки к литературной конвенции, маньеристическая техника письма работает чаще всего с текстовыми стратегиями осложнения (aemulatio), ведущего к вторичной риторизации, к чрезмерному использованию форм «несобственного» и к когнитивному затемнению. В маньеристических текстах важна не только демонстрация поэтической ловкости, а в первую очередь состязание с топическим образцом: «непривычная комбинация привычных формул» [Friedrich 1964: 561] является центральным принципом маньеристического стиля.
Кратко очерченное здесь понятие маньеризма обладает типологической природой и, главное, не содержит прямых эволюционных импликаций, поскольку оно определяет технику письма, хотя и не относящуюся к определенной литературной эпохе, но при этом не совпадающую с тем циклически появляющимся антиклассическим стилем, о котором пишут Курциус и Хоке. Тем не менее вполне возможно выделить определенный эволюционный контекст, в котором маньеризм выступает как техника письма и который является значимым в случае петербургской поэзии Боброва. Здесь имеется в виду контекст «конечной фазы» в общем смысле, то есть конечной фазы той или иной эпохи или же определенной жанровой традиции. Это контекст «эволюционного застоя», в котором приоритет отдается эпигонским, перекодированным изобразительным формам, являющимся попыткой отстраниться от бытующей нормы или традиции, при одновременном нежелании или неспособности, однако, от нее отделиться.
Подобный вид состязания с традицией выражается в почти одержимом варьировании и доведении до крайнего предела определенных топических текстовых стратегий, подчас непроизвольно вырабатывающих самопародийные формы. Особенно в эпигонских контекстах, на некоторых «конечных фазах» литературной эволюции встречаются последние из возможных, крайние формы осложнения, на грани (само-)пародии – если рассматривать их с точки зрения последующего стиля, часто дериторизирующего литературный язык и отдающего приоритет денотативному уровню. В определенном смысле маньеризм уничтожает сам себя, освобождая путь для эволюционной смены парадигмы. Схожим образом в Италии XVII в. поэзия маринистов, развивающих поэтический стиль Д. Марино, выливается в «имплозию» маринистского маньеризма и способствует тем самым утверждению литературного направления «Аркадия». Этот феномен наблюдается и в поэзии Боброва, доводящей одическую традицию до «имплозии» посредством осложнения приемов Ломоносова и являющейся с точки зрения сентиментализма и раннего романтизма («Арзамас») своего рода самопародией. Батюшкову, например, удается при помощи одной лишь почти дословной цитаты из Боброва спародировать «какофонию» его звуковой инструментовки[323]323
У Боброва: «Се ружей ржуща роща мчится», у Батюшкова же в «Видении на берегах Леты» эта цитата слегка изменена: «Где роща ржуща ружий ржот» (см. об этом: [Альтшуллер 1964: 242]).
[Закрыть]. Для Батюшкова стихи Боброва уже и сами по себе достигли уровня пародийного утрирования[324]324
Т. Гроб [Grob 2001] отмечает в русской прозе 30-х гг. XIX в. нарративные и метафикциональные явления, которые он считает характерными для «эволюционных тупиков», следуя (отчасти) знаменитому определению постмодернизма Эко [Eco 1984]. Метафикциональное письмо (автореференция, Framing) как попытку преодоления эволюционной ситуации,
в которой преобладает риторическое перекодирование, можно было бы рассматривать (как это мимоходом делает и Эко) как форму маньеристического письма. Интересно, что и в оде Боброва играет роль прием «вложения одного в другое», или введения третьего рассказчика: Бобров строит своего рода повествовательную рамку, вводя фиктивного рассказчика (дщерь Петрополя), который «произносит» разработанную топику. Несмотря на разницу эпох, контекстов и жанров, эти параллели указывают на общий знаменатель «стиля завершающего этапа», пытающегося преодолеть кризис репрезентации.
[Закрыть].
Разумеется, нарочитая виртуозность может принимать различные формы. При этом гипертрофия формы, калейдоскоп предикаций является лишь одной из возможностей; в такой же мере манерна кончеттистская краткость (brevitas), заостренный лаконизм[325]325
См.: [Tesauro 1968: 343–441].
[Закрыть], «почетное сокрытие» мыслей, по определению Т. Аччетто [Accetto 1997]. Сложение и вычитание, amplificatio и brevitas являются крайними полюсами техники письма, состоящей большей частью из попытки выпятить свою собственную оригинальность на фоне традиции посредством «акробатских» стратегий отмежевания.
Маньеристическая техника письма юбилейной оды Боброва объясняется как вышеописанной эволюционной закономерностью, так и собственно поэтикой Боброва, отдающей приоритет гипертрофической и гиперболической форме письма.
Поэзия Боброва определялась как «сложная», сам же он называл ее (выражаясь, опять же, маньеристически) «игры важной Полигимнии»[326]326
Цит. по: Лотман и Успенский 1994: 347.
[Закрыть], умышленно и радикально противополагая ее «легкой поэзии» русского сентиментализма (или карамзинизма)[327]327
Ср. полемику Боброва с карамзинизмом и его концепцию литературного языка в стихотворении «Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка». Об этом см. подробный анализ Лотмана и Успенского (1994). «Сложная» поэзия Боброва, к тому же весьма далекая от «утопического» идеала стиля Шишкова (несмотря на то, что оба отвергали карамзинизм), была излюбленной мишенью поколения арзамасцев. Ими был создан в многочисленных насмешливых стихах сатирический образ Бибруса (Бибриса), намекающий на тягу Боброва к алкоголю (см. об этом [Зайонц 1986]).
[Закрыть]. Лотман отметил, не обозначая конкретно, кончеттистски-когнитивное ядро этой «поэтики трудного»:
Мысль у Боброва – это неожиданное сближение понятий. Глубокая мысль в поэзии – это мысль поражающая, неожиданная. А неожиданность создается нетривиальными, странными сочетаниями слов и образов. От этого принципиальная странность поэзии Боброва. Не удивительно, что, с позиций карамзинистов, это был «дикий» поэт [Лотман 1971: 48][328]328
Здесь очевидна близость маньеристическим идеям, например, Тезауро, использовавшего concetto в борьбе «с простотой» [Friedrich 1964: 655].
[Закрыть].
Эту поэтику Бобров разделял прежде всего с Радищевым[329]329
См., например, главу «Тверь» из «Путешествия из Петербурга в Москву». Ср. об этом: [Альтшуллер 1977].
[Закрыть], причем сознательно следуя Тредиаковскому, теоретически и практически обосновавшему русскую традицию поэтической когнитивной трудности[330]330
См.: [Кузнецов 1996].
[Закрыть].
Впрочем, наверняка не случайно маньеристическая виртуозность Боброва является одним из конечных симптомов русского панегирика: например, И. Н. Розанов [Розанов 1914: 376] называет его «заключительным звеном» в цепи развития русской оды. Бобров в некотором роде «замыкает» столетнюю традицию петербургского панегирика, доводя панегирическую топику до «имплозии» – коллапса и самораспада. В своем маньеристическом состязании с традицией эпидейктического изображения Петербурга он утрирует ее до того предела, у которого совершается переход к (невольной) самопародии и продолжение традиции становится более невозможным.

Вид Петербурга вверх по Неве. Картина неизвестного художника второй половины XVIII в. по рисунку М. Махаева
Имплозия петербургского панегирика является решающим переломным моментом в развитии петербургского городского текста. Как будет показано далее, постпанегирическая петербургская поэзия несет в себе смену парадигмы: она выходит за жанровые рамки панегирика, присваивает элементы его топики и вводит их в новый философский, историософский и литературный контекст. Отныне в центре стоит не состязание со сложившейся традицией (aemulatio), а ее трансформация.
Заключение
Оды Боброва являются своего рода лебединой песнью петербургского панегирика, хотя его и продолжали спорадически писать вплоть до 1820-х гг. Наряду с немногочисленными одами Державина эту традицию продолжают в первую очередь стихи Д. Хвостова о Неве[331]331
См. в том числе: [Хвостов 1807].
[Закрыть]. Панегирический жанр, однако, уже не годился для ответов на актуальные вопросы о культурном значении Петербурга и его основания, поднимавшиеся уже с конца XVIII в. Не позднее чем с появлением очерка М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России», поначалу не изданного и опубликованного лишь в 1858 г. А. Герценом, стало оформляться критическое отношение к «петровской цезуре», касавшееся в том числе Петербурга и его культурной семантики. Н. Карамзин указывает, например в записке «О Древней и Новой России» (1810 г.), на «блестящую ошибку» Петра I, состоявшую в основании новой столицы на «неплодородной» окраине России. При этом он ссылается на многочисленные человеческие жертвы при постройке города, упоминавшиеся до этого лишь в устной традиции («Петербург основан на слезах и трупах»). Характеризуя попытку Петра пойти наперекор природе как дерзость, Карамзин заключает: «человек не одолеет натуры» [Карамзин 1914: 30–31].
В этой изменившейся культурной ситуации развилась в начале XIX в. – параллельно с последними проявлениями петербургского панегирика – новая форма петербургской поэзии, которую можно назвать постпанегирической. В таких текстах, как «Прогулка в Академию художеств» К. Н. Батюшкова (1814), «Петербург» П. А. Вяземского (1818), «Петроград» С. П. Шевырева (1829) и особенно «Медный всадник» Пушкина (1833), топические элементы «истощенного» панегирика деконтекстуализировались и встраивались в новый философский, исторический (историософский) и литературный контекст. Подробный анализ этой новой фазы не входит в задачи настоящей работы; в качестве примера будет обозначена лишь трансформация основоположной для панегирика топической мифологемы основания города как космогонии.
Если в эпидейктическом контексте мифологема петербургского генезиса выполняла в «сотворении заново» России Петром функцию символического прасобытия, то в постпанегирическом контексте осмысления исторических импликаций Петровских реформ она утрачивает свою однозначность и перекрещивается с контрмифом о гибели города. Постпанегирическая петербургская поэзия интегрирует в письменную традицию изображения города устные фольклорные легенды, в особенности связанные с представлением о запустении Петербурга (см. выше главу I, 1.3). Это ведет в конечном счете к формированию мифопоэтического субстрата петербургской литературы XIX в., ядром которой является непреодолимая дихотомическая осцилляция между сотериологий и апокалипсисом.
В постпанегирической петербургской литературе предгородская пустыня – лексико-семантическое поле корня «пуст-» – отождествляется с предкосмогоническим хаосом. Уже в оде Боброва «Торжественный день столетия» (1803) упоминаются «пустынны краи», по которым текла Нева до «чудесного» основания города. Как «дикая, мрачная пустыня» описывается предгородское состояние этого места в «Прогулке в академию художеств» Батюшкова [Батюшков 1814: 321]. При этом панегирическая традиция здесь уже не амплифицируется, как в случае Боброва, а трансформируется. Введение образа Петра I, который, стоя перед пустыней, представлет себе свой «парадиз»[332]332
«<…> и воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные!» [Батюшков 1814: 322]
[Закрыть], означает перефразирование петербургской космогонии в нарратив, в котором важную роль играет процессуальность этого события. Если панегирик изображал возникновение Петербурга лишь с точки зрения hic et nunc и не тематизировал его становления, то в постпанегирической поэзии речь идет о состязании между Петром I и природой, итогом которого стало возникновение города. Преодоление предгородского состояния описывается теперь не только при помощи риторической формулы «где прежде… там ныне…», но и посредством изображения космогонической сцены основания, в которой Петр I наделяется чертами (библейского) Бога:
Здесь будет город, сказал он, чудо света. <…> Здесь Художества, Искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал – и Петербург возник из дикого болота [Батюшков 1814: 322].
При этом деяние Петра I не просто мгновенно, как в описании Сумарокова[333]333
См. выше главу I, 1.2.
[Закрыть], оно образует еще и мифически-нераздельное единство со словом: слово Петра примордиально («Здесь все было безмолвно», 322), оно стоит у истоков космоса, способствуя его мгновенному возникновению[334]334
Благодаря этому петербургская космогония приобретает дополнительное мифологическое измерение: в вавилонском мифе о сотворении мира и затем в библейской и античной традициях первозданное состояние отождествляется с безмолвием, а созидание – со словом (см. об этом: [Bohme, Bohme 1996: 38]).
[Закрыть].
У Шевырева (1829), сходным образом, слово Петра побеждает водный хаос и созидает городской космос:
Рек могучий [Петр] – и речам
Море вторило сурово,
Пена билась по устам,
Но сбылось Петрово слово. <…>
И родится чудо-град
Из неплодных топей блата.
[Шевырев 1829: 71]
Здесь, однако, акт творения Петра I становится своего рода «пробой силы», влекущей за собой не только возведение города, но и угрозу со стороны разрушительной природы. Иначе, чем в панегирике, где угроза природы осмыслялась как знак (или следствие) немилости Бога или утраты мифического ядра города (то есть законного властителя), в тексте Шевырева и в постпанегирической петербургской поэзии в целом эта угроза переосмысляется в прямое следствие петровской космогонии: в первоначальном покорении хаоса-природы заложена возможность ее разрушительного возврата. Возникновение ordo artificialis (то есть города) уже не означает отмены ordo naturalis, который начинает угрожать тогда, когда ordo artificialis нарушается изнутри (вследствие воцарения «неистинного» монарха): борьба между природой и культурой воспринимается теперь как изначально заложенная в структуре петербургского мифа.
Основание Петербурга изображается Шевыревым в балладном стиле как вызов Петра морю и его последующее покорение:
Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда; <…>
Хлынет вспять моя Нева,
Ополченная водами:
За отъятые права
Отомщу ее волнами. <…>»
Речь Петра гремит в ответ:
«Сдайся, дерзостное море!
Нет, – так пусть узнает свет:
Кто из нас могучей в споре?»
[Там же: 70–71]
Иначе, чем в панегирике, здесь подчеркивается процессуальность космогонического акта и особенно его следствия. Основание города как «проба силы» предстает во всей своей неестественности («Но сбылось Петрово слово. <…> И родится чудо-град / Из неплодных топей блата»), которая несет в себе возможность бунта покоренной природы. Этот бунт, однако, обречен на провал, поскольку петровский камень способен подчинять ее вновь и вновь:
Помнит древнюю вражду,
Помнит мстительное море,
И да мщенья примет мзду,
Шлет на град потоп и горе.
Ополчается Нева,
Но от твердого гранита,
Не отъяв свои права,
Удаляется сердита.
[Там же: 72]
На угрозу моря реагирует статуя Петра: царь сдерживает взглядом бушующие волны, насмешливо над ними торжествуя («Кто ж из нас могучей в споре?»).
Борьба воды и камня, как известно, является центральным мотивом пушкинской поэмы «Медный всадник». Здесь, однако, явная интертекстуальная отсылка к одической традиции XVIII в.[335]335
См.: [Пумпянский 1939].
[Закрыть] означает дальнейшую, основоположную трансформацию топики петербургского панегирика, подробно цитируемой во вступлении к поэме панегирическим рассказчиком. Этот последний, но по своей значимости первый панегирик городу и его генезису интертекстуально опирается прежде всего на оды Боброва, но, кроме того, также на постпанегирическую поэзию, например, Батюшкова или Шевырева[336]336
См.: [Пушкин 1978: 125–144].
[Закрыть].
В противовес традиции XVIII в., петербургский панегирик является здесь прежде всего основой историософской рефлексии над условиями и границами искуственного порядка в истории[337]337
Кратко намеченные здесь соображения по поводу «Медного всадника» подробно изложены в работе «Ru?land zwischen Chaos und Kosmos. Die Uberschwemmung, der Petersburger Stadtmythos und A S. Puskins Verspoem «Der eherne Reiter»» [Grob, Nicolosi 2003].
[Закрыть].
Распространенная в одической традиции дихотомия прежде – ныне, предгородское – городское, хаос – космос проходит красной нитью через все «Вступление». Хаотический ландшафт, основной характеристикой которого был мрак («чернели избы»; «лес, неведомый лучам / в тумане спрятанного солнца»; «из тьмы лесов»), вытесняется теперь космическим светом («блеск»; «ясны <…> громады»; «заря»; «сиянье»; «пламень»). Там, где прежде царили горизонтальная дисперсия («широко / Река неслася»; «чернели избы здесь и там»; «у низких берегов»), тление и болото («По мшистым, топким берегам»; «из топи блат»), теперь поднимается вертикальность Петербурга («юный град <…> вознесся»); «Громады стройные теснятся / Дворцов и башен»), обладающая формой и порядком («В гранит оделася Нева»). Бедные деревянные хижины вытесняются каменными строениями («В гранит оделася Нева»), редкие, убогие лодки – кораблями со всего света. Дисперсивное, медленное, затрудненное природным хаосом движение уступает место миру быстрых и точных движений («здесь нам суждено / В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море»; «корабли <…> К богатым пристаням стремятся» [Пушкин 1978: 9-11]).
Перед пустынным ландшафтом стоит погруженный в мысли Петр, представляющий себе, как и в поэме Батюшкова, возникновение города. Процессуальность городского генезиса играет здесь столь же важную роль. Тем не менее демиургическое основание города у Пушкина уже не является исторически окончательной победой петровской культуры над хаосом не-культуры; но оно и не просто историческая «дерзость», влекущая за собой месть укрощенной природы. Оно, скорее, стоит у истоков исторических процессов, выразительно демонстрирующих взаимообусловленность порядка и хаоса. Петербургское наводнение предстает здесь не просто местью природы, а образом вполне культурно осмысляемых природных стихий, разбуженных и спровоцированных упорядочивающими и культуросозидающими силами петровского «цивилизаторского процесса» и все же превосходящих могуществом возможности человека. Петр I является в этом контексте главным деятелем в большой исторической игре стихийных сил порядка и беспорядка; его обращенная к Неве рука репрезентируетв данном случае не силу укрощения, но силу воли, побуждающую речные воды течь по новому руслу[338]338
Это историософское измерение поэмы находит подтверждение в тематико-лексических параллелях между «Медным всадником» и написанной в то же время «Историей пугачевского бунта». Эти параллели касаются семантического поля слова «мятеж», или «мятежный». В «Медном всаднике» воспроизводится описанная Пушкиным в «Истории пугачевского бунта» взаимосвязь между все более рестриктивной политикой государственной власти и восстаниями «непросвещенной черни» (см.: [Grob, Nicolosi 2003]).
[Закрыть].
Застывшая оппозиция хаос – космос, задававшая тон в панегирике, размывается метафорикой «Медного всадника». Панегирический дискурс о победе культуры над природой, новой России над старой превращается в этом первом каноническом тексте петербургской литературы в том числе в рефлексию над динамикой и силой исторических процессов. Но именно это расширение и уплотнение семантического поля городского текста стало, так сказать, роковым для петербургского панегирика, поскольку «игровое» цитирование панегирического городского текста Пушкиным способствовало его восприятию как всего лишь неструктурированного сырого материала. Выявление структуры и семантики панегирического городского дискурса XVIII в. имеет, однако, центральное значение не только для толкования «Медного всадника», но и для концептуализации петербургского текста в целом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?