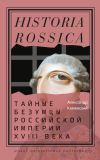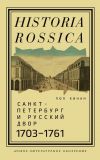Текст книги "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)

Академия наук (слева). Деталь гравюры Е. Виноградова с рисунка М. Махаева. 1753 г.
Похожую цитатность, переносящую в русский текст классические exempla (в данном случае из уже упоминавшегося «Панегирика на шестое консульство Гонория Августа» Клавдиана) мы находим у Ломоносова, например, в «Оде на рождение Великого Князя Павла Петровича» (1754):
Там [в Петербурге. – Р.Н.] многие народа лики
На стогнах ходят и брегах;
Шумят там праздничные клики
И раздаются в облаках.
Там слышны разны разговоры.
Иной, взводя на небо взоры:
«Велик господь мой, – говорит, —
Мне видеть в старости судилось
И прежде смерти приключилось,
Что в радости Россия зрит».
Иной: «Я стану жить дотоле
(Гласит, младой свой зная век),
Чтобы служить под ним мне в поле,
Огонь пройти и быстрость рек».
[Ломоносов 1754: 140]
Однако у Ломоносова адаптация топики городского панегирика впервые принимает самостоятельные очертания. Ломоносов – переходный писатель, поэтому его петербургский панегирик колеблется между применением правил и конституированием специфической петербургской топики как в похвальных речах, так и в торжественных одах, как будет показано ниже.
3. От городской топики к топике Петербурга
Второй этап развития петербургской топики – время, когда заимствованная топика осмысляется в качестве чужой и предпринимаются попытки сгладить ее инаковость, приспособить ее к Петербургу как специфическому объекту прославления. Актуализация унаследованной через метатексты панегирической городской топики, поставлявшей общезначимые критерии для прославления города, сменяется в середине XVIII в. как в похвальных речах, так и в торжественных одах более активным применением этой топики к городу Петербургу и его культурным и пространственным особенностям. Зарождается петербургская топика, не воспринимающая более городское пространство через призму общезначимых панегирических категорий.
Развитие специфической петербургской топики во второй половине XVIII в. совпадает с окончательным перенесением петербургского панегирика в сферу торжественной оды, поскольку жанр похвального слова исчезает из литературного обихода. «Слово на освящение академии художеств» Ломоносова (1764) является вершиной и одновременно концом традиции петербургской laus urbium. Но если после Ломоносова laus urbium и исчезает из письменной традиции, ее топика отчасти сохраняется в жанре оды, причем акцент смещается здесь на адаптацию этой топики.
3.1. «Слово на освящение академии художеств» Ломоносова (1764)Ломоносов встраивает laus и descriptio в «архитектурный текст», то есть в текст, прославляющий одно архитектурное сооружение (академию художеств). Тем самым он трансформирует обычную макроструктуру похвальной речи, поскольку экфрасис и восхваление архитектурного сооружения являются, как правило, элементами городского панегирика[288]288
О панегирическом архитектурном стихотворении см.: [Kranz 1988: 48–54]; об экфрасисе как описании произведений искусства см.: [Robillard, Jongeneel 1998].
[Закрыть]. Тот факт, что descriptio города строится здесь на экфрасисе одного из его зданий, обусловлен не только топосом «ubi», но еще и тем обстоятельством, что новое строение открывает новую перспективу созерцания и описания города, а именно – взгляд сверху (см. ниже 3.2).
Сопоставление «Слова» Ломоносова и «Слова в похвалу Санктпетербурга» Бужинского выявляет разницу между двумя первыми фазами петербургской топики: поиск лексических эквивалентов топосов латинского городского панегирика, то есть соответствий между городом и топическими категориями, сменяется теперь более четкой выверкой и «пригонкой» топики к самому объекту «Петербург», который не должен более удовлетворять всем топическим критериям, чтобы быть достохвальным, а прославляется в соответствии с топосами, выражающими его «суть». Кроме того, обоснование топических предикатов уже не преследует нормативно-дескриптивных целей опосредования топики, как у Бужинского, поскольку применение топики легитимируется теперь не столько правилами, сколько самим объектом.

Здание Академии художеств. Рисунок М. Н. Воробьева. 1813 г.
Кажется, что топика выполняет здесь (по крайней мере, отчасти) присущую ей функцию: как диалектический метод, она управляет рассмотрением действительности и ее текстуализацией в разработанные речевые образцы, потенциальность которых нуждается, однако, в периодическом пересмотре. Текст Ломоносова колеблется между еще не завершенным процессом переноса топики городского панегирика в петербургский панегирик и процессом применения этой топики к объекту прославления и культурному контексту, символическим элементом которого является Петербург[289]289
Ломоносов даже более, чем Бужинский, последователен в применении каталога топосов laus urbium: он, например, применяет locus «de laude inco-larum», который Бужинским упускается из виду. При этом особое внимание он уделяет приурочиванию топических предикатов к конкретным характеристикам города, а не просто применяет их со ссылкой на авторитет риторики. Ломоносов прославляет, например, полиэтничность Петербурга («стечение разноплеменных народов и языков» [Ломоносов 1764: 813]), а не просто общезначимое трудолюбие его жителей.
[Закрыть]. Это будет продемонстрировано ниже на примере locus «de situ».
Топическая схема laus urbis с ее категориями концептуализации места, на котором расположен город, перенимается и Ломоносовым, причем он не просто переводит каждый отдельный топос, а обосновывает его свойствами города. Так, например, местоположение города не просто «выгодно» («пользуемся великим доброхотством натуры» [Ломоносов 1764: 811]), но оно выгодно в том числе потому, что водные пути связывают Петербург одновременно с западом и востоком[290]290
«Вопервых, примечая состояние сего места, находим, что пользуемся великим доброхотством натуры, которая на востоке распростроняет великия через целое отечество реки для сообщения с дальными асийскими пределами […]. На западе разливается море, отверзая ход во все страны вечерния. Обое служит к соединению внутренних и внешних избытков» [Ломоносов 1764: 811–812].
[Закрыть]. При этом обоснование природных топосов имеет весьма научный характер: за топическим описанием невской воды как «чистой» и «здоровой» следует подробное научное объяснение этого для Ломоносова в первую очередь геологического явления:
Главную потребность содержания человеческой жизни, воду, источает природа чистую и здоровую невскими струями, собрав прежде оную в ладожския недра, от стекающихся быстрых рек внесенную мутность на дно ниспуская и отливая предосторожно, якобы через край несколько принаклоненнаго сосуда, отделяет для нашего употребления прозрачнейшую часть благорастворительныя стихии [Там же].

Вид на Зимний дворец и Эрмитаж со стрелки Васильевского острова. Гравюра В. Патерсона. 1799 г.
Такая положительная оценка местоположения города явно примыкает к линии топики, введенной в петербургский панегирик Бужинским. Закрепление Ломоносовым этой нормативной топики situs, ее приурочивание к характеристикам объекта восхваления противоречат, однако, другой линии поэтической концептуализации географического положения Петербурга, в которой первоначальное хаотическое состояние преодолевается лишь благодаря акту основания города (см. выше главу I). Эти две линии топики, вписанные с самого начала в петербургский панегирик, представляют две разные композиционные стратегии городского панегирика: с одной стороны, подчеркивание однородной положительности города, достохвальности всех его элементов; с другой стороны, противопоставление двух дивергентных состояний места, диахроническая дихотомия между хаотическим prius и космическим nunc, в свете которой прославляется величие города. Первая линия топики отвечает риторическим правилам для laus urbis и усваивается петербургским панегириком именно в силу своего нормативного статуса. Правда, в конечном счете она отбрасывается в ходе XVIII в.[291]291
Отдельные элементы этой линии топики сохраняются в петербургском панегирике и продолжают актуализироваться, как, например, предикат Невы «чистые струи» (см. ниже 4.2).
[Закрыть] в силу своего несоответствия семантике города. Иначе обстоит дело с формулой «где прежде… там ныне…», которая становится конституирующим элементом петербургской топики, поскольку она в значительной мере поддерживает космогоническую составляющую петербургского мифа и, более того, воздействует на нее.
С этой точки зрения отрывок из речи Ломоносова, посвященный прославлению города, является последним (и, конечно же, наиболее искусным) образцом применением топики, исчезающей из литературного обихода. Зато в стихотворении Тредиаковского «Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу» (1752) встречается гибридная форма слияния двух этих топических линий, касающихся местоположения города. Сообразно с риторическими нормами, Тредиаковский начинает восхваление города с описания географического положения, причем положительные природные топосы соседствуют с отрицательными: с одной стороны, берег «приятный», страна «любезная», а невские волны «легки и чисты»; с другой же стороны, противопоставляются хаотическое «прежде» и космическое «ныне»:
О! прежде дебрь, се коль населена! […]
Осушены почти уж блата мшисты […]
Се рай стал, где было пусто!
[Тредиаковский 1752: 287; 289]
Не случайно стихотворение Тредиаковского было написано в середине XVIII в; это позволяет рассматривать его как парадигматический пример трансформации заимствованной топики городского панегирика в специфическую петербургскую топику.
3.2. Восприятие пространства и смена перспективВ процессе развития специфической петербургской топики важную роль играет восприятие пространства. В первых текстах петербургского панегирика намечается картина городского пространства, универсального и одновременно аперспективного в своей общезначимости. Первым шагом к передаче зрительного впечатления от города является взгляд на него извне: взгляд с реки открывает перспективу, всеохватывающую и потому сильно абстрагирующую город, то есть сводящую его к одной растянутой вдоль Невы линии. Абстрагирующее восприятие города в значительной мере определяет формирование специфической петербургской топики. Городское пространство утрачивает свою универсальность и сливается с линией Невы и «декорацией» береговых построек. Ломоносовский взгляд сверху тоже мало что меняет в восприятии города как сплошного, отражающегося в воде фасада. Лишь у Державина впервые вводится «внутренняя» перспектива созерцания города, связанная с развертыванием в одах лирического «я».

Вид Аничкова дворца (дома Разумовского) и Невского проспекта в середине XVIII в. Гравюра Бодуэна
Античная и (опирающаяся на античную) laus urbium эпохи Ренессанса представляли собой, как правило, descriptio urbis, призванную передавать прежде всего зрительное впечатление от прославляемого города. Простое перечисление городских реалий (церквей, дворцов и т. д.), принятое в Средневековье, вытесняется в городском панегирике Возрождения описанием, пренебрегающим полнотой и селектирующим реальность, чтобы передать визуальный образ города[292]292
См. об этом: [Smith 1992: 153].
[Закрыть]. Нередко отобранные городские пейзажи подаются из определенной перспективы, например из перспективы прохожего. Например, Леонардо Бруни в «Laudatio urbis Florentinae» «водит» читателя по Флоренции: эта мысленная прогулка, начинающаяся с бульвара на набережной и заводящая в переулки и даже внутрь домов, завершается описанием Палаццо делла Синьориа, символического центра города[293]293
См.: [Baron 1968: 235ff.]. Смит [Smith 1992: 153] указывает на то, что «Laudatio» Бруни является первым ренессансным городским панегириком, отличающимся от средневекового панегирика тем, что он передает зрительное впечатление от города.
[Закрыть].
Панегирическое изображение города в Петровскую эпоху лишь условно примыкает к традиции descriptio. Гавриил Бужинский, занятый в первую очередь переводом топики laus urbis и поиском (изобретением) соответствий между res Петербург и риторическими нормами, в своей похвальной речи пренебрегает собственно описанием города. Описание значимых строений происходит почти мимоходом и касается скорее их функции, чем их роли в общем облике города. Цель Бужинского – не передача зрительного восприятия, а в первую очередь легитимация спорного права Петербурга на существование. Так, описание Сената сводится прежде всего к описанию его функций как органа власти, то есть его роли в преобразовательной политике Петра I:
Коль несравненныя похвалы достоин град сей, внемже устроена всего государства самыя, правоты судящее правителствующаго (sic!) Сената собрание, ненамзду взирающее, ненадированиех судящее, носам и всем должную истину хранящее, оправдающее невинных <…> [Гавриил Бужинский 1717: 10].
В тех же первых текстах петербургского панегирика, которые содержат собственно descriptio urbis, отсутствует внутренняя перспектива созерцания города. Наблюдатель не «гуляет» по городу (как у Леонардо Бруни), а созерцает его исключительно со стороны Невы. При таком описании города «извне» городское пространство трансформируется, как правило, в растянутую и непрерывную линию (вереницу береговых построек).
Сведение городской перспективы к одной бесконечной линии, образованной стоящими на берегу Невы зданиями, создает впечатление сплошной театральной декорации, двухмерного пространства, которое может рассматриваться только извне и только с определенного места, а именно – с Невы, единственного трехмерного пространства этого плоского ландшафта. Вот как выглядит это, например, в незаконченной поэме Антиоха Кантемира «Петрида» (1730), где несколько строк посвящены новой царской резиденции:
Над бреги реки всходят искусством преславным
Домы так, что хоть нов град, ничем хуждши давным <…>
Оттоль вверх, в пряму черту, вельмож непресечны
Пространны зрятся дворы <…>.
[Кантемир 1730: 245–246]
В «Истории Императора Петра Великого» Феофана Прокоповича город не просто абстрагируется до растянутой линии:
<…> на том же берегу вверх и вниз многие иныя Господские палаты позорныя в единой линии стоят и больше триех верст займут <…> [Беспятых 1991: 256].
Прокопович явно приписывает этой линии свойства декорации, что хорошо иллюстрирует, например, описание Летнего сада:
<…> вертоград, образцем Итальянским насажденный, с прекрасными архитекторскими гульбищами и холодниками, дивную являет красоту и позором своим пловущих по реке увеселяет [Там же].

Панорама Невы. Вид со стороны моря. Рисунок Х. Марселиуса
Летний сад выполняет свою функцию, будучи рассматриваемым извне, то есть со стороны реки. Это не трехмерное пространство, место для прогулок, предлагающее наблюдателю полюбоваться на него изнутри, а полотно, которым возможно полюбоваться, проплывая мимо по Неве, и только таким образом оно выполняет свою «отдохновительную» функцию.
Восприятие Петербурга как сплошного, отражающегося в воде фасада, в который вписана и Петропавловская крепость, остающаяся в той же плоскости, свойственно и первым живописным изображениям города (особенно гравюрам А. Зубова)[294]294
Далее я буду опираться на работу Г. Каганова [Kaganov 1997: 1 – 18].
[Закрыть]. В ландшафте, образуемом в основном необъятными и пустынными водными просторами, поднимающиеся на заднем плане фасады зданий являются (идеализированной и идеологизированной) формой власти человека над петербургским пространством. Фиктивная непрерывность линии, образуемой зданиями и дворцами, символизирует победу Петра над хаосом и пустотой: в петровском космическом порядке не должно быть места вакууму. Этот порядок закрепляется еще и тем, что изображаемая «космическая» линия состоит из зданий, олицетворяющих своих владельцев. Панорама соответствует панегирическому «групповому портрету» нового российского придворного общества.

Петербург. Панорама, гравированная А Зубовым в 1716 г.
Абстрагирование городского пространства до вытянутой линии и связанное с этим восприятие города извне, то есть с Невы, имеет место и в торжественной оде XVIII в. Именно эти элементы характеризуют применение городской топики панегирической окказиональной лирики, особенно вышеописанного топоса adventus, к объекту прославления «Петербург». Общезначимость панегирического городского пространства сменяется теперь специфической репрезентацией ликующего города, в которой Нева играет дистинктивную роль. В качестве центрального пространства в панегирическом восприятии города Нева часто выполняет функцию «маршрута процессии» в топосе adventus. Ломоносов, следуя Пс. 97: 8 («Реки восплещут рукою вкупе»), переносит ликующую толпу на берега Невы, причем толпа и берег метонимически друг с другом слиты:
Брега Невы руками плещут <…>.
[Ломоносов 1742: 85]
На этот, ставший топическим, стих намекает Державин в оде, также посвященной торжественному въезду императрицы в город, причем здесь появляется дополнительный кинетический момент:
С плеском рук бежит вслед брег, <….>
Петрополь встает на встречу;
Башни всходят из-под волн.
[Державин 1810: 37; 39]
Нева, однако, выступает не просто как место торжества, но и как непосредственный его участник, что достигается за счет ее персонификации, как и города в целом, и изображения в виде ликующего существа[295]295
Персонификация реки становится не позднее чем со времени Клавдиана одним из распространеннейших панегирических городских топосов; ср.: [Schmidt 1999: 353].
[Закрыть]:
В стенах Петровых протекает
Полна веселья там Нева,
Венцем, порфирою блистает,
Покрыта лаврами глава.
Там равной ревностью пылают
Сердца, как стогны все сияют
В исполненной утех ночи.
О сладкий век! О жизнь драгая!
Петрополь, небу подражая,
Подобны испустил лучи.
[Ломоносов 1748: 126]

Летний дворец и Летний сад. Вид с Большой Невы. Гравюра А Ф. Зубова. 1716–1717 гг.
Здесь «ревность» реки тождественна «ревности» горожан (что дополнительно подчеркивается аллитерацией «равной ревностью»); персонификация Невы и акцентирование ее чувств унифицирует панегирическое городское пространство, предстающее как одно сплошное пылкое сердце. Река не делит город на две части, а объединяет его в одно непрерывное панегирическое пространство, простирающееся и ввысь, благодаря праздничному фейерверку («Петрополь, небу подражая, / Подобны испустил лучи»).
В «Слове на освящение академии художеств» Ломоносов сохраняет излюбленную «внешнюю» позицию наблюдателя, но вводит при этом в петербургский панегирик новую перспективу: взгляд на город сверху. Здесь, как и в случае «взгляда с Невы», мы имеем дело с перспективой восприятия, возникающей при «покидании» города. В обоих случаях между наблюдателем и созерцаемым объектом устанавливается дистанция, позволяющая воспринимать город в его целостности. И в том, и в другом случаях речь идет о панорамном – «весьма захватывающем» – виде, поскольку город здесь полностью «раскрывается» «скользящему взгляду» наблюдателя [Hauser 1990: 108].
Панорамный вид с Невы, каким мы его находим, например, у Зубова и Феофана Прокоповича[296]296
Показательно, что порядок описания архитектурных объектов в «Истории Петра Великого» Прокоповича (Зимний дворец и Летний сад, Адмиралтейство, Васильевский остров и т. д.) воспроизводит панораму на гравюре Зубова, то есть порядок расположения зданий слева направо. Следовательно, здесь идет речь об одном и том же «образце восприятия» (Muster der Wahrnehmung) [Hauser 1990, passim].
[Закрыть], конечно, не совсем равнозначен виду сверху, поскольку последний превосходит ограниченность и двухмерность первого тотальным, трехмерным видением города. Лишь благодаря взгляду сверху город становится полностью «прочитываемым»[297]297
Штирле [Stierle 1993: 54] пишет вслед за Бартом («La Tour Eiffel», 1964), что в созерцающем восприятии Парижа «Эйфелева башня [являет собой] то место, с которого раскинувшийся город предстает прочитываемой панорамой».
[Закрыть]. Исходя из этого, можно было бы ожидать, что в description Ломоносова город впервые обретает пространственную глубину[298]298
Этой точки зрения придерживается, например, Циглер [Ziegler 1974: 45].
[Закрыть]. Но эта предполагаемая трехмерность Петербурга оказывается в этом тексте иллюзорной.
Описание Ломоносова начинается традиционно, с упоминания зданий, глядящих на Неву и на каналы:
Распростертыя рядом по главным берегам невским и меньших протоков государственныя и обывательския палаты каким великолепием восхищают зрения, усугубляя красоту в струях спокойных изображением, пересекающимся то от волнения, то от плавающих многочисленных судов разнаго рода, отнимающих любезное мечтание на время, якобы для увеличения приятности и смотрящих жадности [Ломоносов 1764: 812–813].
Фасад города наделяется здесь дополнительной характеристикой ирреальности. Там, где говорится, что красота зданий усугубляется их отражением в воде, отражение уже перестает быть украшением вещи, оно само – вещь. Ибо отраженные фасады становятся единственным объектом созерцания, который пропадает, как только водная поверхность начинает волноваться, и возвращения которого с нетерпением ожидает наблюдатель. Кажется, что даже не фасад, а его отражение передает здесь действительное впечатление от Петербурга: впечатление отраженной двухмерности.[299]299
В XVIII в. Петербург вызывал у многих приезжавших туда иностранцев впечатление сплошной театральной декорации. В этом плане показательны «Русские путешествия» Ф. Альгаротти (1739), в которых въезд в город описывается следующим образом: «Ma qual cosa le diro prima, qual poi di questa citta, di questo gran finestrone, diro cosi, novellamente aperto nel norte, per cui la Russia guarda in Europa? <….> Dopo aver vogato parecchie ore, non altro vedendoci intorno che l'ac-qua, e quel tacito e brutto bosco, ecco che volta il fiume; e ne piu ne meno che all'opera, ci si apre dinnanzi in un subito la scena di una imperial citta. Sontuosi edi-fizi sull'una e l'altra riva del fiume, che gruppano insieme; torri con l'aguglia dorata che vanno qua e la piramidando; <…> Entrati in Pietroburgo, la non ci parve piu quale la ci pareva da lungi» [Algarotti 1969: 205–207]. («И что Вам сказать вначале, и что потом об этом Городе, об этом, скажем так, большом окнище, недавно открытом на севере, из которого Россия смотрит в Европу? <…> После нескольких часов гребли, не видя кругом ничего, кроме этого тихого и убогого леса, вот, наконец, изгиб реки, и ни много ни мало, а как в Опере, перед нами нежданно открылась сцена имперского города. Помпезные постройки на том и другом берегу реки, стоящие группами, башни с золочеными шпилями, там и сям пирамидально возвышающиеся <…>. Когда мы прошлись по Петербургу, город уже не представлялся нам таким, каким мы увидели его издалека»; цит. по: Ф. Альгаротти, «Русские путешествия», СПб., 1997; пер. М. Г. Талалая.) Эта цитата содержит знаменитое место, упомянутое Пушкиным в «Медном всаднике» и ставшее с тех пор топосом петербургской литературы. Показательно, что «окно в Европу» оказывается не средством, открывающим России новую перспективу, а прежде всего поверхностью, отражающей квинтэссенцию идеального европейского города, но не способной проникнуть в ее глубину. Петербург – не окно, а зеркало, призванное ослеплять Европу ее собственным усиленным отражением. Это декорация маскарадного спектакля, в котором русские разыгрывают европейскую жизнь. Контраст между безмолвным и невзрачным ландшафтом и внезапным появлением города, вдруг заслоняющего собой природу, вызывает у Альгаротти ощущение, что он попал в оперу. Здания, выстроившиеся в ряд на берегах Невы, незадолго до того еще поросших лесом, их теснота и двухмерность, присущая всем элементам картины без исключения, создают впечатление театральной декорации, которая с более близкого рассмотрения обнаруживает свою искусственность. О театральности Петербурга в восприятии иностранцев (с XVIII в. вплоть до маркиза де Кюстина) см.: [Рудницкая 1973; Лотман 1984: 39–40].
[Закрыть]
Затем Ломоносов меняет точку наблюдения и описывает Петербург сверху. Вид с башни заменяет вид с реки:
Взойдет кто на высокое здание, увидит, кругом осматривая, якобы плавающия на водах домы и токмо разделенныя прямыми линеями, как бы полки, поставленныя урядными строями [Там же].
Необычные сравнения, изобретаемые Ломоносовым для описания глубины городского пространства, делают язык этих строк нарочито метафоричным, как это свойственно эпохе кончеттизма. «Трехмерный» взгляд на Петербург не означает здесь уменьшения абстракции перспективного видения, совсем наоборот. Город как линия, или декорация, предстает в своей пространственной глубине лишенным фундамента, поскольку создается впечатление, что дома сюрреалистическим образом плавают на воде. Вездесущность движущейся воды и отсутствие суши уравновешиваются, в свою очередь, геометрической, создающей порядок фигурой линии. Прямые проспекты придают форму и устойчивость городу, обыкновенно пребывающего во власти зыбкой водной стихии. Сопоставление с выстроенными полками придает геометрическому порядку дополнительную военную коннотацию, очевидно намекающую на (необходимую в глазах Ломоносова) насильственность петровского освоения хаотического, нецивилизованного пространства и на его перевоплощение в городской космос[300]300
Согласно Топорову [Топоров 1995: 333–334], линия является типичной петербургской формой культурного освоения «дикого» пространства. Если развитие Москвы мыслится как центробежное (то есть как органичный рост), то в случае Петербурга «необходимость быстрого «захвата» большого пространства заставляет намечать линии». Топос города, созданного при помощи циркуля и линейки, сохраняется в петербургской литературе вплоть до Бродского [Бродский 1999а: 75].
[Закрыть].
«Ломоносовский» взгляд сверху обнаруживает сильное сходство с интерпретацией городского пространства на знаменитых литографиях Михаила Махаева середины XVIII в.[301]301
К празднованию 50-летнего юбилея города Елизавета заказала Академии наук «панорамный портрет» Петербурга. Альбом литографий, выполненных Михаилом Махаевым, вышел в 1753 г.; см.: [Kaganov 1997: 19–30].
[Закрыть] У Махаева, как и в последнем цитированном отрывке из Ломоносова, точка наблюдения совпадает с уровнем городских крыш: такой взгляд сверху позволяет созерцать город во всем его охвате и тем самым нивелировать его пространство, то есть скрыть незастроенные участки. В центре литографий Махаева – регулярное пространство проспектов: «<…> what constitutes the main object of Makhaev's scenes, are the infinitely long and irreproachably aligned Petersburg «perspectives». Even the Neva looks like a prospekt of sorts. It is not the buildings in themselves (although they are depicted skillfully and in detail) but precisely space that is the central figure in these cerimonial portraits of the city» [Kaganov 1997: 26].

Аничков дворец и Невский проспект в сторону Адмиралтейства. Гравюра Я. Васильева с рисунка М. Махаева. 1753 г.
Взгляд же на город изнутри и связанное с ним изображение городской жизни полностью отсутствуют в литографиях Махаева. Точно так же и регулярное употребление местоимения «я» ломоносовских од («я» выполняет там функцию рупора всеобщего восхищения) не имеет ничего общего с психологизированным, субъективным описанием города. Эта ситуация меняется как в сфере искусства, так и литературы в 80-х гг. XVIII в., когда вышеописанная топика пространства стала дополняться субъективным созерцанием города изнутри. В сфере искусства эта перемена связана с именем итальянского архитектора Джакомо Кваренги, сделавшего ряд акварелей с видами города. Вот как Каганов [Kaganov 1997: 30] описывает разницу в построении перспективы у Махаева и у Кваренги: «Quarenghi looked from ground level and so emphaticallychose points no higher than the eye level of a pedestrian. Whereas Makhaev showed broadly unfolded vistas, most of Quarenghi's pictures show a narrow close-up, a small detail of the city. <…> The position taken in the name of the absolute state, a position soprahuman in principle, with its appropriately inhuman objectivity (the objectivity of an optical instrument!), is replaced by the position of the private person moved only by a subjective inquisitiveness, and this changes the image of space completely».

Шествие на набережной. Акварель Дж. Кваренги
Эта новая субъективность и интимность восприятия городского пространства совпадает в петербургском панегирике с новым взглядом на город, который мы находим в одах Державина. Державин созерцает город уже не только извне, но, как и Кваренги в своих акварелях, и изнутри, к тому же из перспективы, соответствующей пределу человеческого глаза. Носителем этой новой интерпретации городского пространства в одах Державина выступает лирическое «я», тематизирующее само себя, а не коллективное «мы», как в одах Ломоносова. Установка на панорамический, или всеохватывающий, взгляд уступает место индивидуальному и ограниченному взгляду, сильно субъективирующему восприятие города.

Адмиралтейство и Зимний дворец со стороны Невского проспекта. Гравюра Г. Качалова с рисунка М. Махаева. 1753 г.
Так, в «Видении Мурзы» (1783) описание города в начальных стихах обнаруживает, по сравнению с одической традицией, отчетливо суженное восприятие города: это обусловлено как взглядом на город из окна, так и временным ограничением (ночь). В этих стихах, предваряющих разговор поэта Мурзы с призраком Фелицы (Екатерины II)[302]302
«Видение Мурзы» опирается на более раннюю оду Державина «Фелица».
[Закрыть], впервые в петербургском панегирике описывается ночной городской ландшафт, воспринимаемый из субъективной перспективы находящегося в своей комнате лирического «я»:
На темноголубом эфире
Златая плавала луна:
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златыя стекла рисовала
На лаковом полу моем. <…>
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Белт в брегах своих сверкал.
Природа, в тишину глубоку
И в крепком погруженна сне,
Мертва казалась слуху, оку
На высоте и в глубине.
[Державин 1783: 157–160]
Вместо панегирического изображения города, в котором элементы природы либо затушевываются, либо урбанизируются (когда Нева выполняет функцию проспекта), здесь появляется городской ландшафт, восприятие которого диктуется природными явлениями. На Неве играют серебристые блики, вызванные светом луны, Петербург и природа сливаются друг с другом, погруженные в сон.
Тем не менее петербургская поэзия Державина в целом не вносит радикальных изменений в петербургский панегирик. В других его текстах, например, в «Шествии по Волхову Российской Амфитриты» (1810), отсутствует субъективное, ограниченное восприятие города, торжественный въезд в город на Неве описывается, напротив, традиционно, то есть посредством господствующего, всеохватывающего взгляда[303]303
См. анафорическое «вижу», каждый раз вводящее перечисление городских реалий.
[Закрыть], характерного скорее для ломоносовского лирического «я».
Пространственная топика в петербургской поэзии Державина не перефразируется полностью, а пополняется и обогащается. Пополнение топики за счет новой интерпретации городского пространства продолжает практиковаться и в позднепанегирической поэзии[304]304
См., например, описание ночного города в «Ночи» Боброва (1804), отсылающее к «Видению Мурзы» Державина.
[Закрыть]. На этом последнем этапе (в начале XIX в.) петербургский панегирик переживает новый расцвет в связи со столетним юбилеем города. Сложившаяся традиция одического изображения Петербурга воспроизводится, расширяется и – в случае Боброва – маньеристически осложняется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.