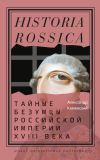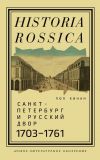Текст книги "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Вышеописанное направление традиции не играло никакой роли в древнерусской литературе. Древнерусский городской панегирик, одним из первых примеров которого является «Слово о законе и благодати» Илариона (XI в.)[253]253
В конце своего «Слова…» Иларион прославляет Киев Ярослава.
[Закрыть], не знал норм loci ab urbe, хотя и разработал свой собственный имплицитно-топологический метод[254]254
Об отказе от риторики как прескриптивного и дескриптивного метатекста в древнерусской культуре см. в том числе: [Успенский 1994б].
[Закрыть]. Это, впрочем, не означает, что русская традиция городского панегирика никак не влияла на новолатинскую или что одна традиция просто-напросто заместила собой другую. Некоторые формальные топосы из древнерусского панегирика были переняты и продолжали использоваться, как, например, топос быстроты возведения города, который мы находим в «Инока Фомы Слове похвальном о Великом Князе Борисе Александровиче» (середина XV в.)[255]255
См.: [Слово Инока Фомы 1982: 298].
[Закрыть]. Сходным образом, обозначение места основания города как «пустыни», как уже говорилось (см. выше главу I, 1.3), является топосом, заимствованным из древнерусской агиографии.
Адаптация риторической традиции laus urbium является для петербургского панегирика конститутивным элементом, заново структурирующим традицию собственно городского панегирика. Поэтому далее будет рассмотрено освоение как нормативного, так и текстового аспектов риторической традиции laus urbium.
2.4. Laus urbium в восточнославянской культуреК началу XVII в. в России происходит изменение в культурно-образовательной концепции, которое можно рассматривать как следствие перенятия западноевропейских традиций образования и введения учебных центров западного образца. В этой связи латинская, импортированная через Польшу, риторическая и поэтическая традиция в своих добарочном, барочном и послебарочном проявлениях играет решающую роль в создании текстов и речей, а также в новой систематизации бытующей коммуникативной системы. Теорию и практику городского панегирика – в форме, конститутивной для петербургской литературы XVIII столетия, – следует рассматривать в контексте вышеобозначенных изменений культурной ситуации.
В так называемой «Риторике Макария» (ок. 1620 г.) впервые бегло упоминается laus urbium: среди возможных объектов восхваления называется и город[256]256
См.: [Лахман 2001: 72.]
[Закрыть]. Трактат Макария, однако, был «изолированным» сочинением, не оказавшим почти никакого влияния на ораторское искусство в России. Несравнимо большую роль в развитии русской литературной культуры сыграло нормативное риторическое и поэтическое учение, разработанное по польско-латинскому образцу и утвердившееся в XVII в. в украинских центрах образования (в первую очередь Киевской Духовной академии). Вершинами этой традиции, оказывавшей все более сильное вляние на московскую культуру в конце XVII в., были «De arte poetica» (1705) и «De arte rhetorica» (1706) Феофана Прокоповича[257]257
[Феофан Прокопович 1961 и 1982].
[Закрыть]. Вплоть до XVIII в. эти трактаты изучались на курсах поэтики и риторики как в Киевской, так и в Московской академиях.

Феофан Прокопович. Гравюра середины XVIII в.
Восьмая книга «Риторики» Прокоповича посвящена эпидейктическому жанру. Вслед за общими рассуждениями о laudatio (о значении amplificatio, стиле и цели laus), Прокопович обращается к объектам прославления и соответствующим loci. Восхваляя город, оратор должен остановиться на следующих пунктах: происхождении города (origo), то есть его основателе (боге, полубоге или человеке); antiquitas и богатстве; местоположении (situs, который следует восхвалять как amoenus, salubris, fertilis); строениях, красоте его архитектуры; городских властях (ratio administrationis) и, наконец, деяниях, победах и триумфах, связанных с городом[258]258
См.: [Феофан Прокопович 1982: 403].
[Закрыть].
В конце этого отрывка Прокопович ссылается на рассуждения о laus urbium в своей за год до этого написанной «Поэтике». Здесь loci для laus urbis группируются несколько иначе, чем в «Риторике». В содержательном же плане обе схемы почти полностью совпадают (VIII: 2). Прокопович выделяет три категории: 1) то, что относится к прошлому города («conditor, antiquitas, cives atque earum [sic!] gesta, bella, victoriae»); 2) то, что свойственно настоящему («domus, aedificia, templi [sic!], doctorum religiosorum frequentia»); 3) то, что выражает постоянную характеристику города («loci amoenitas, aeris salubritas, fertilitas agrorum, vicinitas et utilitas flu-minum, montium, camporum, silvarum» и т. д.)[259]259
См.: [Феофан Прокопович 1961: 265]. О распространении теории laus urbium в Московской академии см. трактат «Clavis Poetica» (1732) Федора Кветницкого, у которого учился в том числе молодой Ломоносов. Кветницкий повторяет традиционную схему, придерживаясь при этом обычной терминологии (см.: [Kvetnickij 1985: 170]). Главные представители грекофилов внутри Московской академии, братья Лихуды, в своей написанной в основном по-гречески риторике также берут на вооружение топику городского панегирика, не отличающуюся от топики латинской традиции. См. перевод «Риторики» Лихудов на русский язык, выполненный Козьмой Греком (1698 – листы 190–191). В ней содержатся следующие вопросные пункты: а) начало; б) местоположение; в) начертание; г) жилища; д) стражи; е) вертограды;
ж) жители. Основным источником «Риторики» Лихудов считается вышедшая в 1681 г. в Венеции на греческом языке «Ars rhetorica» Франкискоса Скуфоса (Филарета Скуфы) (см.: [Сазонова 1991: 33; Вомперский 1988б: 60–62]).
[Закрыть].
Описание нормативных правил Прокоповичем является парадигматическим примером того, что теория риторической laus urbium в украинско-русском культурном контексте не отличается от теории западной неолатинской риторики. Это объясняется одним из важнейших аспектов риторики раннего Нового времени – верой в универсальность правил, которую можно сравнить с понятием универсальности в грамматике Пор-Рояля. Эта установка на универсальность проявляется, например, в перечне публичных строений, которые Прокопович [Феофан Прокопович 1982: 403] рекомендует описывать: «templa gymnasia, balneae, fora theatra, amphitheatra, circi, porticus viae, pontus [pontes] statuae, monumenta arcus trophea, moni-tiones [munitiones], aquaeductus». Это все, за редким исключением, реалии античного (римского) города, не имевшие соответствия в восточнославянской действительности того времени.
В случае риторики, являющейся своего рода «вторичной грамматикой» с дескриптивной и нормативной функциями одновременно[260]260
См.: [Лахманн 2001: 5-21]. Сказанное относится и к поэтике. Несмотря на то что риторика и поэтика в XVII в. являются разными, параллельными дисциплинами и что сохраняется традиционное разделение коммуникативных компетенций этих обеих «вторичных грамматик», говоря о фазе импорта риторики в Россию, можно исходить из начавшегося позднее процесса риторизации поэтики и поэтизации риторики – берущего начало в Новое время в творчестве Скалигера, – который в итоге привел к слиянию обеих дисциплин в учении о красноречии Ломоносова.
[Закрыть], «мы не всегда имеем дело с метатекстом, который берет свое начало в той культуре, в описании которой он участвует» [Лахманн 2001: 45]. Тот факт, что в данном случае дескрипция и прескрипция не относятся более к одному и тому же объекту рассмотрения/ воздействия, поскольку описание того, что предписывается, происходит из другого культурного контекста, объясняется универсальным статусом риторики раннего Нового времени. Как показывает Лахманн [Там же: 162 и след.; 171] на примере Феофана Прокоповича, применимость риторических правил к другим (неолатинским) языковым системам основана на том, что эти правила воспринимаются как «межязыковые универсальные феномены», «действительные для всех языков в их функциональном употреблении» [Там же: 163].
В украинской и русской литературной традиции XVII в. «неолатинское сообщество» [Picchio 1978] является тем «другим» культурным контекстом, из которого импортируется риторика: «Notre conception d'une 'communaute neo-latine', – пишет Пиккио [Picchio 1978: 12], – se refere a des systemes litteraires modernes 'derivant du latine' dans le sense qu'ils se modelerent sur des etalons de rhetorique et de poetique latine». Для литературного канона этого сообщества свойственна адаптация общего свода литературных, кодифицированных в эпоху Ренессанса «правил игры», считавшихся вечными и существующими независимо от текстовой конкретизации идеальными моделями. Этот новый «символический язык» [Picchio 1978: 16], разработанный теоретиками Ренессанса, был применим, благодаря своей установке на универсальность, к различным языковым системам. Он функционально отделился от греческо-латинских моделей и мог действовать в качестве общего кода в разных регионах европейского литературного сообщества. Внутри этого сообщества новые литературные «правила игры» распространялись учебниками риторики и поэтики, выполнявшими тем самым функцию носителей новолатинства. Появление в XVII в. многочисленных учебников риторики и поэтики по латинско-польскому образцу доказывает распространение литературных «правил игры» раннего и позднего Ренессанса[261]261
См.: [Вомперский 1988а; Елеонская 1990: 21–54].
[Закрыть] и в восточнославянском пространстве, что обусловило совершенно новый, опиравшийся на риторические правила, подход к составлению текста[262]262
Импорт риторики в Россию является важной составляющей широкого круга проблем, который описывается в культурной семиотике как столкновение двух моделей культуры – «культуры текстов» и «культуры правил» (см.: [Лахманн 2001: 22–44]); об оппозиции «культура текстов» versus «культура правил» ср.: [Лотман, Успенский 1971]. Новая культурная модель (культура правил), которая постепенно закрепилась во второй половине XVII в. в России в связи с официальной культурной реформой, отличается от древнерусской культуры принципиально иным осмыслением знака и текста. Наряду с преимущественно непроизвольным, миметическим, соотношением между планом выражения и планом содержания (культура текста) выступает теперь в основном произвольное соотношение. В силу этого выражение становится свободно выбираемым фактором, а выработка текста поддается изучению. Возникающие на основе этого тексты управляются моделирующим сводом правил. Это делает возможным адаптацию риторических и поэтических метатекстов, чуждых древнерусской «культуре текстов» (см.: [Успенский 1994б]). Превращение официальной культуры XVII в. в культуру правил не означает упразднения традиционной культурной модели. Традиционная культура текста становится, скорее, антимоделью, выполняющей внутри системы русской культуры функцию «сохранения идентичности» в противовес обновлению культуры элементами «чужого» (эту точку зрения представляют, например, старообрядцы). На протяжении большей части XVIII в. традиционное осмысление текста и знака также выполняет функцию некоего кода, что в определенных сферах (например, в сакральной) ведет к двойному кодированию текстов. См.: [Uspenskij, 2ivov 1983: 25–56]. Ю. Мурашов [Murasov 1993] рассматривает наслоение и перекрещивание двух противоположных семиотических концепций (мистики письма и риторики) как особенность русской культуры, отличавшую ее вплоть до начала XIX в. На основе этого он развивает тезис о «грамматоцентризме» русской культуры, противопоставляющей западной «метафизике присутствия» (Деррида) правду написанного слова.
[Закрыть].
Установка риторики раннего Нового времени на универсальность не должна, однако, заслонять от нас ее действительного применения в русском культурном контексте; фактически речь шла не о заимствовании чужой системы образования, а прежде всего об освоении совершенно иного понятия знака и текста. Перевод новых «жанровых форм и связанных с ними приемов» [Лахманн 2001: 171] (а не конкретных текстов) в русскоязычное пространство, осуществлявшийся Симеоном Полоцким, Феофаном Прокоповичем и другими, предполагал, правда, веру в их универсальность, но должен был тем не менее учитывать языковые и литературные конвенции национальной традиции.
Далее на примере панегирика Гавриила Бужинского (1717) будет рассмотрено, как совершался «перевод» laus urbium в русский литературный контекст. «Слово в похвалу Санктпетербурга» является первым русскоязычным текстом, систематически применяющим риторические предписания по составлению городского панегирика.
2.5 «Слово в похвалу Санктпетербурга» Гавриила Бужинского (1717)Подтверждением того, что Гавриил Бужинский сознательно переводит топику laus urbium, является определенная текстовая стратегия, часто повторяющаяся в его похвальной речи: Бужинский обосновывает достохвальность Петербурга, подчеркивая использование топики городского панегирика, то есть он неоднократно отсылает к тем риторическим критериям, которые обычно применяются к городу, чтобы показать его величие:
Велие градовом похваление, аще создателя своего преславнаго коего воина имут [Гавриил Бужинский 1717: 1].
Великими возносимы бывают Грады похвалами, егда на честном, красном, веселом, полезном месте осаждены суть [Там же: 5].
Эта постоянная отсылка на теоретический метауровень, считающийся «правильным» для прославления города, выполняет в том числе функцию разъяснения примененной топики реципиенту. Текст, поставляющий заодно и нормативный контекст, выполняет таким образом теоретико-дескриптивную функцию. Посредством этого приема автор пытается познакомить читателя/слушателя с незнакомым ему кодом, поднять его до своего уровня осведомленности[263]263
Ср.: [Uhlenbruch 1979: 290]. Уленбрух описывает этот процесс «вербализации пока еще не освоенных пространств» [Там же: 275] на примере поэзии Симеона Полоцкого.
[Закрыть].
Сопоставление восхваления монарха и восхваления города, развиваемых в тексте параллельно, показывает особенно отчетливо стремление Бужинского обнажить прием. Восхваление монарха примыкает к традиции basilikos logos, уже закрепившейся в России и воспринимавшейся как автором, так и современной ему аудиторией как конвенция: ее топика не требует указаний на легитимирующий теоретический метауровень. Городской же панегирик – как его понимает Бужинский, то есть в смысле традиции laus urbium – не имеет древнерусских текстовых образцов. Это вынуждает автора обосновывать применяемый им метод прославления Петербурга.

Русский военный флот у Кронштадта. Гравюра П. Пикарта. 1715 г.
Давая понять читателю/слушателю, на какую традицию опирается его панегирик, Бужинский не только указывает на «правильность» этой традиции для эпидейктического изображения Петербурга, то есть на то, что текст проецируется на контекст, который легитимирует его как «отвечающий правилам». Параллельно обосновывается достохвальность новой столицы, именно потому, что она удовлетворяет критериям риторического городского панегирика. В этом смысле топика обладает здесь дополнительной функцией: риторический контекст легитимирует существование города. Риторический нормативизм Бужинского доходит до того, что выполнение топических правил становится стратегией легитимации нового города.
В тексте Бужинского – как уже явствует из заглавия («Слово в похвалу Санктпетербурга и его основателя») – тесно сплетаются восхваление города и восхваление монарха. Город легитимируется как объект восхваления посредством соотнесения с фигурой царя. С самого начала Бужинский дает понять, чем в первую очередь обусловлено величие города: а именно тем фактом, что его основателем является Петр I:
Велие градовом похваление, аще создателя своего преславнаго коего воина имут, вящшее егда вожду или князю коему свое восписуют основание. Не удобоверителне же похваляются, егда начало аки род свои от царя коего производят, еже древнии стихотворцы изъявляющи, в похвалу градов великих, богов некиих создателеи их баснотворне вымыслили: <…> Сего града кто не прославит; <…> Егда создателя сицего имать пресветлеишаго великих земель Великаго ГОСУДАРЯ, отца россиискаго отечества, Воина мужественнаго, Вожда благоразсуднаго, ИМПЕРАТОРА премилостиваго, МОНАРХА БОГОМ венчаннаго, БОГОМ соблюдаемого, БОГОМ России дарованнаго [Гавриил Бужинский 1717: 1].
Совмещение восхваления монарха и восхваления города нередко практиковалось в панегирической традиции[264]264
См. в связи с этим на примере «Laudes Constantinopolitanae»: [Fenster 1968: 324–325].
[Закрыть]. Петербург сам по себе не был бы подходящим, достойным восхваления объектом, не обращай Бужинский неоднократно внимания читателя/слушателя на то, что главным аргументом в пользу «права» города на существование в словесном мире панегирика является его «основатель, архитектор и защитник» Петр Великий [Там же: 1, 5, 8, 10, 12].
Таким образом, в силу дистинктивной корреляции между городом и его создателем, первым locus ab urbe, на котором Бужинский строит свою аргументацию, является топос conditor. Риторические нормативные правила ставят меру похвалы городу в зависимость от его основателя, то есть от того, был ли им бог, полубог, король, полководец или «нормальный» человек[265]265
См. в том числе: [Menander Rhetor 1981: 47].
[Закрыть]. Применяя центральный для панегирика прием comparatio как способ amplificatio[266]266
См.: [Lausberg 1973: 222–223].
[Закрыть], Бужинский осложняет предписания относительно этого топоса, утверждая, что Петербург заслуживает наибольшей хвалы среди всех городов, ибо его основатель – в одно и то же время героический полководец и богоизбранный император (а не просто король). Поэтому вовсе необязательно изобретать бога в качестве основателя города, как это было принято у античных поэтов[267]267
В связи с основанием Рима многими поэтами действительно подчеркивается божественное происхождение Ромула. См.: [Gernenetz 1918: 25–26].
[Закрыть]. Показательно, что эпидейктическое осложнение Бужинского касается не других городов или посвященных им текстов, а непосредственно панегирической топической конвенции, что объясняется уже рассмотренным приматом адаптации правил над адаптацией текстов.
Бужинский переводит не только «формальные» топосы, то есть риторические «места», но и конкретизированные в речи предикаты (exempla). Это особенно проявляется в топосе местоположения города (situs), одном из ключевых вопросных пунктов laus urbis. Вот как Бужинский вводит этот топос и соответствующие предикаты:
Великими возносимы бывают Грады похвалами, егда на честном, красном, веселом, полезном месте осаждены суть [Там же: 5].
В приводимых Бужинским эпитетах места, на котором расположен Петербург, можно явно распознать русскоязычные функциональные соответствия топосам situs, в той форме, в какой они были кодифицированы латинской риторикой: «веселое место» соответствует amoenus situs, так как «веселый» означает – и означал в XVIII в. – «приятный для взора»[268]268
См.: [Словарь XVIII в., Т. 3: 65; Поликарпов 1704: лист 45 (первая пагинация)].
[Закрыть], как и его латинское соответствие, очень часто упоминающееся в описаниях риторических норм для laus urbis в связи с situs. «Красное» и «полезное» Бужинский использует для перевода слов speciosus и utilis, встречающихся, например, у Квинтилиана в субстантивированной форме: «Et est [laus] locorum <…> in quibus similiter speciem et utilitatem intuemur» («Образование оратора», III, 7, 27)[269]269
«Хвалятся некоторые места <…>; здесь равно рассматривается красота и польза» [Квинтилиан 1834: т. 1: 210]. См. также [Menander Rhetor 1981: 32; Поликарпов 1704: лист 115 об. (первая пагинация) («красный») и лист 19 об. (вторая пагинация) («полезный»)].
[Закрыть]. «Честное место» соответствует honestus situs. Еще Квинтилиан наделил прилагательное honestus коннотацией «святой, сакральный», рекомендовав использовать его для описания храма восхваляемого города[270]270
«Est laus et operum, in quibus honor, utilitas, pulchritudo, auctor spectari solet. Honor ut in templis, <…>» (Institutio oratoria, III, 7, 27). («Хвалятся и общенародные здания, в которых благолепие, польза, красота, и достоинства здателей обыкновенно приемлются в рассуждение: благолепие в храмах <…>» [Квинтилиан 1834: т. 1: 210].
[Закрыть]. Именно такой коннотацией обладает это слово у Бужинского, считающего место, на котором был возведен Петербург, «честным», ибо в 1240 г. оно было ареной победы Александра Невского над шведами:
Честное Града сего место прежде многих веков победою преславною святаго Благовернаго Великаго князя АЛЕКСАНДРА, обладателя российского, над Невою свеев победившаго [Там же: 5].
Отсылка к героическим деяниям Александра Невского в связи с основанием Петербурга является – как уже говорилось (см. главу II, 3.3) – элементом петровской идеологии. Имплицитное уподобление военных побед Петра, открывших путь к основанию Петербурга, победе Александра Невского, и в том и в другом случае над шведами, считавшимися противниками русской веры, вписывает основание города в историю русского православия и легитимирует его[271]271
Этот топос сохраняется в литературе русского классицизма и встречается, напр., в «Похвале ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу» Тредиаковского и в «Оде на победу Государя Императора Петра Великаго» Сумарокова. О функции мифа об Александре Невском в построении культурной идентичности Петербурга см. выше, глава II, 33.
[Закрыть]. Одновременно «честность» места является единственным возможным указанием на antiquitas Петербурга.

Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Гравюра первой половины XVIII в.
Восхваляя городское пространство, Бужинский проигрывает топическую схему до конца, при этом постоянно поясняя, чем Петербург заслужил все вышеупомянутые эпитеты. Топологический характер носит, например, восхваление близости города к морю и выгодность такого местоположения для торговли, причем Бужинский прибегает здесь к столь же традиционному сравнению Петербурга с Константинополем (а Петра I c Константином). Кроме того, новая русская столица изображается, в силу своего местоположения, как «стена крепкая» государства [Там же: 9], что уже рекомендовал Менандр Лаодикейский[272]272
См.: [Menander Rhetor 1981: 39].
[Закрыть] в качестве modus tractationis для прибрежных городов и что стало топосом в речах и проповедях Прокоповича[273]273
См. «Слово на похвалу памяти Петра Великаго» (1725), где Петербург называется одновременно «вратами» и «крепостью» (см. выше, глава III, 34).
[Закрыть].
Применяя топические критерии к Петербургу, Бужинский не видит проблемы в переводе топических предикатов на русский язык; тем не менее он не может полностью вычеркнуть культурный контекст Петровской эпохи, не жертвуя при этом коммуникативной эффективностью своей похвальной речи. Легитимация и идеологизация города – вот главные цели, которые преследует Бужинский в своем тексте. В силу этого он сводит воедино два жанра: похвальную речь и традиционную проповедь, чтобы повысить пропагандистский потенциал своего панегирика. Гомилетическая структура речи проявляется – как уже упоминалось (глава I, 1.3.) – в разделении на две принятые формы проповеди: дидаскалию и профитию. Дидаскалию отличают логический анализ и объективная аргументация, профития же стремится оказать эмоциональное воздействие и аргументирует аффектированно[274]274
См. об этом: [Православный словарь 1971, т. 2: 1920–1922]. С риторической точки зрения дидаскалия соответствует «интеллектуальному», а профития – «аффективному» воплощению риторическойpersuasio. Первая форма argumentatio выполняет задачу docere, в то время как вторая различает между двумя ступенями интенсивности аффекта: более легкой (ethos), служащей цели delectare, и более сильной (pathos), служащей цели movere. (См. об этом: [Lausberg 1973: 140–141].
[Закрыть]. Если вышеописанный «перевод» топики laus urbis можно отнести к полю логической аргументации, то в последней, пророческой части речи Бужинский покидает это поле, бросаясь в словесную атаку против критиков Петербурга и доводя ораторскую напряженность речи до предела. Здесь он обращается к знакомому русской аудитории и эффектному приему, имеющему мало общего с традицией laus urbis, а восходящему к старорусскому городскому панегирику: уподоблению города второму Иерусалиму[275]275
См. выше, глава I, 1.3, и более подробно: [Николози 2003].
[Закрыть].
Таким образом, перевод топики, осуществляемый Бужинским в похвальной речи, не всегда удовлетворяет теоретическим установкам времени, концептуализировавшим перенос риторических правил и топосов в чужие культурные контексты как непосредственный и не вызывающий проблем. Обращение к традиционной форме проповеди и к образу Небесного Иерусалима свидетельствует о «компромиссах», на которые шел Бужинский, стремясь придать своей похвальной речи эффективность помимо освоенной топики. На стыке панегирика и гомилетики, прославления города и прославления монарха складывается в тексте Бужинского первый русский вариант топики городского панегирика.
С утверждением одописи в послепетровское время развивается второе направление панегирической петербургской топики, которое следует приурочить к традиции окказиональной лирики. Здесь речь идет в первую очередь о панегирической репрезентации города как арены торжественных событий, топика которой, в свою очередь кодифицированная риторикой, усваивается петербургским панегириком. Как будет показано в следующей главе, и в этом случае мы имеем дело с освоением, состоявшим, главным образом, в переводе приемов выработки текста.
2.6. Ex loco circumstantiarum loci: торжественный ПетербургРазница между двумя основными проявлениями петербургского панегирика – торжественной речью и окказиональной лирикой (торжественной одой) обусловлена не только формой oratio и связанными с ней приемами, но еще и тем обстоятельством, что в панегирической окказиональной поэзии Петербург выполняет не столько функцию объекта хвалы, сколько выступает (в большей степени и чаще) как место прославляемого события. В силу этого Петербург оказывается лишь одним из обстоятельств, которые автор панегирика должен проанализировать в связи с этим событием, хотя и одним из самых значимых и часто упоминаемых.
Значение Петербурга как панегирической арены торжественного события вытекает из теории и практики окказиональной лирики[276]276
Далее я буду опираться на исследование В. Зегебрехта [Segebrecht 1977: 111–138].
[Закрыть]. В соответствии с этим, автор должен был первым делом вызвать в памяти все известные критерии для восхваления события. Тут он прибегал к помощи устойчивых поисковых формул, перечисленных в гексаметрической строчке «quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?» и мнемотехнически бывших всегда наготове. Перечень рассматриваемых критериев включал, таким образом, и обстоятельства места происходящего события (ubi?).
Важнейшим топосом для изобретений, касающихся места действия, является locus circumstantiarum loci. С его помощью выясняется прежде всего реакция места на событие: «Место события становится в этом случае форумом всеобщего участия. Так, города и ландшафты предстают «ошеломленными», «огорченными», «скорбящими», «печальными», «сетующими» или «счастливыми», «ликующими», «торжествующими»» [Segebrecht 1977: 124], в зависимости от того, вызывает событие печаль или радость, при этом место часто персонифицируется.
Поскольку Петербург был ареной важнейших, достойных эпидейктического изображения событий в политической жизни[277]277
Cобытия в жизни царской семьи (свадьбы, рождения и т. д.) могут быть в равной степени причислены к «политическим».
[Закрыть] России XVIII в., на его долю выпадала, соответственно, центральная роль в панегирической репрезентации этих событий. Здесь – как и в случае вышеописанной laus urbium – освоение нового жанра (торжественной оды) означало одновременно перенятие связанной с ним топики, являвшейся, со своей стороны, продуктом многовековой риторико-поэтической традиции. И в данном случае освоение означало главным образом перевод приемов и нормативных exem-pla, то есть imitatio, понимавшуюся как commutatio, иначе говоря, исходившую из самоочевидности «ликвидации исторической и культурной дифференций» между имитатором и имитируемым, как утверждает Лахманн [Lachmann 1990: 306] в связи с определением imitatio у Феофана Прокоповича.
Далее будет рассмотрено освоение этой топики в России на примере так называемого топоса adventus, при этом главное внимание будет уделено фазе «перевода».
Окказиональная лирика Ломоносова содержит многочисленные примеры риторической inventio, в которой Петербург выступает как сцена изображаемых событий. Например, в «Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 1748 года» поэтическая материя 71–80 стихов рождается из locus circumstantiarum loci[278]278
Применяя locus circumstantiarum temporis и locus contrarium, или per negationem, к временным характеристикам происходящего события (захват власти Елизаветой совершился в ночь с 24 на 25 ноября 1741 г.), Ломоносов приходит к строчкам: «Как ночь на полдень пременилась, / Как осень нам с весной сравнилась». Здесь мы имеем дело с весьма распространенным приемом inventio: временные обстоятельства, как, например, зима, осень или ночь, противопоставляются категориям обратного ряда, с целью подчеркнуть достохвальность события. См. об этом: [Segebrecht 1977: 123].
[Закрыть]-.
Подобным жаром воспаленный
Стекался здесь российский род,
И радостию восхищенный,
Теснясь, взирал на твой приход.
Младенцы купно с сединою
Спешили следом за тобою.
Тогда великий град Петров
В едину стогну уместился,
Тогда и ветр остановился,
Чтоб плеск всходил до облаков.
[Ломоносов 1748: 123]
Яркость изображения торжествующего города достигается на уровне elocutio за счет применения приема evidentia (йтсотшсослс;). В то же время это изображение строится на узнаваемых поэтических элементах литературной традиции, одновременно являющихся составляющими определенного литературного топоса: человеческая толпа, ликующими возгласами приветствующая императрицу; теснота на улицах и площадях; толкотня стариков и молодежи. Дж. Д. Гаррисон [Garrison 1975: 85–89] называет этот топос «proces-sional topos», причем следует отметить, что этот топос применялся при описании не только торжественных процессий, но и вообще ликования в городе. Поскольку возникновение этого топоса следует относить к панегирику времен императорского Рима в связи с определенным поводом для панегирической репрезентации императора, а именно прибытием императора в какой-либо город (adventus), этот топос будет в дальнейшем называться топос adventus.

Вид памятника Петру Великому при его открытии в 1782 г. С гравюры Мельникова, сделанной с рисунка Давыдова
Топос adventus играл немаловажную роль в русских одах, поэтому здесь необходимо на нем остановиться, в том числе показать его диахронический срез. «Панегирик императору Траяну» Плиния Младшего содержит первый пример этого топоса, который неоднократно будет использован в панегириках Клавдиана, например в «Панегирике на шестое консульство Гонория Августа» (404 н. э.), славящем возвращение Гонория в Рим[279]279
По поводу интертекстуальных связей между панегириками Плиния и Клавдиана в контексте топоса adventus см.: [Claudianus 1996: 359ff].
[Закрыть]:
Omne Palatino quod pons a colle recedit
Mulvius et quantum licuit consurgere tectis,
una replet turbae facies: undare videres
ima viris, altas effulgere matribus aedes.
exultant iuvenes aequaevi principis annis;
temnunt prisca senes et in hunc sibi prospera fati
gratantur durasse diem moderataque laudant
tempora, quod clemens aditu, quod pectore solus
Romanos vetuit currum praecedere patres.
[Claudianus 1963, т. 2: 112–114][280]280
«Толпа, как единый лик, покрыла пространство от Палатина до Мульвиева моста и, насколько возможно, заполнила крыши: улицы бурлят от столпившихся мужей, а высокие дома сверкают женами. Юноши ликуют при виде равного им по годам императора; старцы, перестав восторгаться прошлым, благодарят судьбу за то, что дожили до этого дня и восхваляют эти славные времена, когда правитель, такой доступный и неповторимый в своем великодушии, запретил сенаторам шествовать перед своей колесницей».
[Закрыть]
В «Панегирике на третье консульство Гонория Августа» (396 н. э.) прославляется похожее событие, о котором напоминает Клавдиан, – триумфальное шествие Гонория, бывшего тогда еще ребенком, по улицам Рима – с использованием аналогичных картин:
Quanti tum iuvenes, quantae sprevere pudorem
spectandi studio matres, puerisque severi
certavere senes, cum tu genitoris amico
exceptus gremio mediam veherere per urbem
velaretque pios communis laurea currus!.
[Claudianus 1963, т. 1: 278–280][281]281
«Сколько юношей, сколько матрон забыли стыдливость в желании увидеть тебя, а суровые старцы состязались [за места] с молодежью, когда ты, в нежных объятиях своего отца, проезжал по Риму в триумфальной колеснице, украшенной лишь простой лавровой ветвью».
[Закрыть]
Лежащим в основе этого топоса «образом мышления» (Denkform) [Beller 1972: 177] является мотив всеобщего ликования, вызванного появлением властителя, которое метонимически изображается как ликование столицы. Всех верноподданных объединяет безграничная радость, что выражается в упоминании разных полов и возрастов. Одновременно участвующие во всеобщем ликовании верноподданные сливаются в одну сплошную человеческую массу, в одно «лицо» (una turbae facies). Шествие властителя притягивает к себе все взоры, становится собственным содержанием жизни: все остальные виды жизнедеятельности прерываются, и начинается состязание за лучшие места, напоминающее отчаянную борьбу растений за свет – источник жизни в тесном пространстве.

Биржа и Гостиный двор на Васильевском острове. Гравюра И. Елякова с рисунка М. Махаева. 1753 г.
Единодушное ликование по поводу прибытия нового властителя в столицу часто символизирует общее социальное и политическое примирение, то есть, на языке панегирика, начало новой эпохи, сменяющей период политического мрака. Приход прославляемого монарха к власти кладет начало новой социальной гармонии, полному идеологическому согласию между монархом и верноподданными, которое особенно ярко выражается во всеобщем ликовании.
Подробная история этого топоса не входит в задачи данной работы, да в этом и нет необходимости: достаточно некоторых примеров, подтверждающих его историческую преемственность и устойчивость. В эпоху Ренессанса парадигматическим для этого топоса является следующее место из панегирика Эразма Роттердамского «Gratulatorium carmen (Illustrissimo principi Philippo…)» 1504 г., посвященного Филиппу Бургундскому:
Ecce canunt reducem populusque patresque Philippum,
Clamat io reducem laeta undique turba Philippum,
Responsat reducem vocalia tecta Philippum,
Nec fallax ista est iteratae vocis imago:
Saxa enim reducem sentiscunt muta Philippum
Et recinunt reducem minime iam muta Philippum.
[Erasmus von Rotterdam 1995, Vol. 2: 334][282]282
«Вот возвращенье Филиппа народ и сенат восхваляют, / «Ио», – ликует толпа, возвращенье встречая Филиппа; / Отзвук дают звонкозвучные кровли: Филипп возвратился, / И не обманчив сей образ опять повторенного звука: / Ведь возвращенье Филиппа безмолвные чувствуют скалы / И, не безмолвны совсем, отзвук шлют возвращенью Филиппа» [Эразм Роттердамский 1983].
[Закрыть]
В панегирике Томаса Мора Генриху VIII «Carmen Gratulatorium» безграничность ликования выражается в гиперболизированной, напряженной образности. Пространство вокруг монарха переполнено до предела, непрерывно перебегающие взоры толпы тщетно пытаются настигнуть ускользающий объект своего неутоленного любопытства:
Quacunque ingreditur studio conferta vivendi
Vix sinit angustam turba patere viam.
Opplenturque domus, et pondere tecta laborant.
Tollitur affectu clamor ubique novo.
Nec semel est vidisse satis. Loca plurima mutant,
Si qua rursus eum parte videre queant.
[More 1953: 17][283]283
«Всюду теснится толпа, обуянная жаждою видеть, / И позволяет едва узкой тропою пройти. / Множество люда в домах, и кровли под тяжестью стонут./ Крик отовсюду один с новой любовью звучит. / Мало им видеть однажды. Места многократно меняют, / Если откуда-то вновь смогут увидеть его». [Мор 1973]. Топос adventus встречается также в панегирической окказиональной лирике Джона Драйдена (см.: [Garrison 1975: 162 и 192].
[Закрыть]
Топос adventus продолжает воспроизводиться в окказиональной лирике XVII в., оставаясь значимым и для немецкого панегирика первой половины XVIII в.[284]284
См., например, «Oden der deutschen Gesellschaft in Leipzig» [Gottsched 1728] и оду Иоганна Кристиана Гюнтера 1718 г., посвященную Евгению Савойскому [Gunther 1718].
[Закрыть]
Адаптация топоса adventus русской одой происходит довольно рано: впервые он появляется в оде на латинском языке, написанной Феофаном Прокоповичем в 1727 г. на коронацию молодого царя Петра II[285]285
Топос adventus зафиксирован и в литературе допетровского времени. В «Казанской истории», прославляющей взятие города Казани Иваном Грозным, этот топос применяется в описании въезда царя-победителя в Москву (гл. 93; см. [Казанская история 1985: 546–549]). Здесь налицо все конститутивные элементы топоса: всеобщее ликование, выраженное через упоминание всех полов и возрастов («<…> весь великий град Москва изыдоша на поле за посад в стретение царя великаго князя: <…> богатии и убозии, юноши и деби, и старцы со младенцы, и чернцы с черницы <…>»); густая толпа вдоль дороги («оба полы пути стояще но единаго и угнетающеся»); массы людей на крышах домов и отчаянные попытки найти «лазейку» в стене из человеческих тел, чтобы «узреть» царя: («Овии же народи московстии, возлезше на высокия храмины и на забрала, и на полатныя покровы, и оттуду зряху царя своего; овии же далече напред заскачише и от инех высот неких, лепящеся, смотряху, да всяко возмогут его видети»). Возникает вопрос об интертекстуальной связи этих строк с топосом adventus: наличие такой генетической связи можно было бы спекулятивно вывести из схожего развития этого топоса в византийской панегирической традиции.
[Закрыть]. Здесь ареной всеобщего торжества выступает Москва:
Vides, ut aucti fluminis in modum,
Ad Te videndum confluit undique
Gens Russa, connitens et ardens
Ore tuo fieri beata
Linquit colonus grata mapalia
Mercator auri, provolat, immemor,
Et rura, et abstrusi recessus,
Et patulae vacuantur urbes.
Mens et voluntas omnibus unica,
Spectare TANTI lumina PRINCIPIS,
Cuntique tractus obsidentur,
Et via fert speciem theatri.
[Феофан Прокопович 1727: 2][286]286
Известна русская версия этой оды под заглавием «Перевод с латинских стихов, сочененных Архиепископом Феофаном на сретение Императора Петра Второго в Нове Городе Его Величеству поднесенных»: «Зриши, что на подобие разлившейся реке, / Отвсюду стекается тебе видети народ Российский, / Жаждущий и тщащийся лицем твоим насладиться. / Оставляет пехотник приятные себе стопы, / Купец, забыв злато, прибегает, / Из деревень, из дальных пределов, / Из пространных градов все грядут, / Мысль и желание всем едино, / Государя толикого видети. / Дороги везде множеством народа заняты, / И самой путь показует вид Театра».
[Закрыть]
При первом применении locus circumstantiarum loci в прославлении публичных событий (обыкновенно коронаций или дней коронаций) происходит освоение топоса adventus. При этом воспроизводятся классические exempla, которые полностью покрывают сферу inventio.

Изображение фейерверка и иллюминации, которые в новый 1748 г. пред Зимним Е. И. В. домом представлены были. 1748 г.
Показательной в этом смысле является ода Михаила Собакина[287]287
Собакин был кадетом Рыцарской академии в Петербурге и следовал, как Сумароков и многие другие, учившиеся в этой Академии, просодическим правилам Тредиаковского. Поэтому его ода написана «русским гексаметром», то есть тринадцатисложным (семистопным) трохеем. См. об этом: [Берков 1936: 32; Алексеева 1996: 21].
[Закрыть] «Радость столичнаго города Санктпетербурга» (1742), начальные стихи которой составлены исключительно из элементов различных проявлений топоса adventus:
Стогнет воздух от стрелбы, ветры гром пронзает,
отзыв слух по всем странам втрое отдавает.
Шум великий от гласов слышится всемесно,
полны улицы людей, в площадях им тесно.
Тщится всякой упредить в скорости другова,
друг ко другу говорят, а неслышат слова.
Скачут прямо через рвы и через пороги,
пробиваяся насквозь до большой дороги.
Всяк с стремлением бежит в радостном сем стоне
посмотрить Елисавет в ляврах и короне.
Старость, ни болезнь, ни пол, ни рост не мешают,
обще с удоволством зреть вси ея желают.
Радость видна на лице всяком без притвору,
малой и великой кричат несмотря разбору. <…>
Путь широки узок стал, полн людей странами,
в знатных украшен местах торжества вратами.
Полны кровли у домов, окны то ж, народу
на заборах места нет, ни по крыльцах входу.
Всякой ищет меж людей голову пробити,
чтобы героиню могл вскользь хоть посмотрети.
Взрослыя не только ю, но младенцы знают,
перстом всякои указав ко другим взывают.
Вот идет Елисавет, свет наш и денница,
победительница, мать [и] императрица.
[Собакин 1742: 116–117]
Эти стихи строятся исключительно на amplificatio традиционных мотивов и образов: ликующие голоса, скопление людей на улицах, спор между стариками и молодежью за лучшие места и за право посмотреть на императрицу, переполненные проемы окон и крыши, процессия, все более стесняемая толпой. Здесь в полной мере проявляется общезначимость застывших образов и изобразительных форм, переданных традицией. В силу своей универсальности петербургское пространство вполне может быть заменено любым другим городским панегирическим пространством. Ликующий Петербург ничем не отличается от других ликующих городов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.