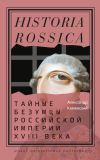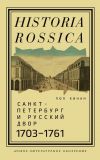Текст книги "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
В то время как Москва низводится до энтропической не-культуры, идеологические и формирующие идентичность элементы ее семантики перенимаются, если не сказать сильнее – узурпируются и используются в качестве «строительного материала» для петербургской культуры. Эту легитимационную стратегию следует рассматривать как очередную форму культурного освоения, осуществляемого Петербургом. Разумеется, что культура, концептуализирующая сама себя, то есть осуществляющая символическую репрезентацию своего социального строя, вынуждена прибегать к готовым конструктам, интерпретационным образцам, идеологиям, чтобы добиться социального признания. Это происходит и в Петровскую эпоху, когда символическая репрезентация радикальности реформ не обошлась без обращения к сложившимся легитимационным стратегиям и стереотипам. Лотман и Успенский [Лотман, Успенский 1982] уже проанализировали роль, которую сыграла концепция «Москва – третий Рим» (по замечанию Синицыной [Синицына 1998:327], «православный вариант» translatio imperii[175]175
Историософская концепция translatio imperii была, как известно, разработана в латинское Средневековье Отто фон Фрейзингом с целью идеологического обоснования создания власти посредством «переноса власти» (см.: [Curtius 1963: 38–39]). Согласно Б. Успенскому [Успенский 1996], концепция Филофея имела первоначально в основном религиозно-эсхатологическое значение (Москва как второй Иерусалим, центр православия); однако в XVII в. эта концепция была значительно «секуляризована» в смысле политико-экспансионистской идеологии. Изменения в московской государственной идеологии стали особенно заметными в царствование Алексея Михайловича. См. об этом: [Живов, Успенский 1987: 62–63].
[Закрыть]) в петровской государственной идеологии. Петербург, согласно Лотману и Успенскому, в своей символической ориентации на Рим узурпирует составляющие эту доктрину идеологемы и одновременно меняет их кодировку: наследие Константинополя, принятое Москвой, имело как мессианско-теократические (со ссылкой на Иерусалим как святой город), так и секулярно-политические импликации (со ссылкой на Рим как имперский город), дополнявшие друг друга. Петровская перекодировка этой идеологии состояла в том, что святость, перешедшая от Москвы к Петербургу, теперь подчинена государственности. С этой точки зрения католический Рим и Москва как православный «новый Рим» ставились в один ряд в силу своей «ложной» святости и противопоставлялись «истинному Риму»[176]176
Ориентация на Рим сохранялась в панегирике на протяжении всего XVIII в., сопровождая на литературном уровне имперскую экспансионистскую политику России. Обозначения «новый» или «северный Рим» были самыми употребительными эпитетами Петербурга, превосходящим по частоте все остальные. См., например, [Сумароков б. г. а: 254]: «Петрова хижинка стала Северным Римом»; [Ломоносов 1756]: «<…> в России строишь Рим»; [Нартов 1756]: «Коль ты прекрасен Град! Ты Риму стал подобен». Ср. об этом: [Baehr 1991: 49–55].
[Закрыть] – Петербургу[177]177
С этой точки зрения, по замечанию Лотмана и Успенского [Лотман, Успенский 1982: 242], становятся понятными внутренняя логика и семиотическая актуальность синкретически пародийных церемоний Всешутейшего собора, в котором «издевательство над папским Римом неизбежно превращалось в дискредитацию русского патриаршества».
[Закрыть].
При этом важно указать на то, что этот процесс освоения уже сложившейся символики и идеологии выступает не как translatio, а как узурпация. Архитектурные, геральдические, патрональные и прочие ссылки и намеки на такие города, как Рим, Константинополь или Новгород[178]178
См. об этом: [Лотман, Успенский 1982; Вилинбахов 1984; Смирнов 1991: 184–185]. Аналогия с Римом проводится, в первую очередь, через апостола Петра, чьим именем назван не только город, но и его главный храм, Петропавловский собор, одновременно взявший на себя функцию московского Архангельского собора как усыпальницы русских царей. Кроме того, герб и флаг России были модифицированы по римскому образцу. С Новгородом Петербург связывают прежде всего деяния Александра Невского (см. ниже) и тот факт, что Петербург относился первоначально к Псковско-Новгородской епархии. Миф об основании Петербурга обнаруживает некоторые параллели к основанию Константинополя. Автор вышеупомянутой легенды «О зачатии и здании царствующаго града Санктпетербурга», рассказывая об орле, символически сопровождавшем основание города, эксплицитно сравнивает основание Петербурга с основанием Константинополя. Помимо этого, в петровской геральдике большую роль играет крест Константина. Отсылка к другим городам является, по мнению Гройса, характерной чертой Петербурга в целом, поскольку город на Неве представляет из себя «обширную культурную цитату» [Groys 1995: 169]. Утверждение Гройса продолжает интерпретацию города, восходящую к иностранным описаниям Петербурга. Первоначальная архитектурная цитатность города переносится в XIX в. на культурно-исторический уровень. Ср., например, у А. И. Герцена [Герцен 1984:54]: «Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож».
[Закрыть], конституируют символику города, идентичность которого строится отчасти на отталкивании от отрицательного («ложного») оппонента, то есть Москвы. Петербург узурпирует имперские притязания Москвы и сообщает им новые функции, заново определяя отношение к Западу и выставляя себя в качестве наследника Новгорода, другого русского полюса, долгое время соперничавшего с Москвой. Именно посредством отсылки к Новгороду – при одновременном отталкивании от Москвы – и к Александру Невскому конструируется историческая преемственность нового города: Александр Невский, одержавший победу над шведами в 1240 г. в устье Невы, считался символическим предтечей Петра I и был объявлен патрональным святым Петербурга. В 1724 г. его мощи были перенесены в построенный в 1710 г. и названный его именем монастырь. Вот как, например, Феофан Прокопович подытоживает славное прошлое (antiquitas) пограничного города Петербурга:
3.4. Переосмысление границСе, идеже Александр святый посея малое время, тебе [Петру I] превеликая угобзися нива. Где он трудился, да бы не безвестна была граница российская, ты престол российский тамо воздвигл еси [Феофан Прокопович 1718: 103].
Не менее важную роль в построении русской культурной идентичности в Петровскую эпоху играет проведение символической границы с Западом, то есть новая концептуализация западноевропейской культуры и ее отношения к русской культуре. Петровскую эпоху отличает – по верному замечанию М. Бассина [Bassin 1991] – коренная реконструкция российского географического пространства в символико-идеологическом смысле, основанная на беспрецедентной ориентации на западную культуру и на признании ее превосходства. Необходимость быстрого освоения западной культуры возникла вследствие осознания того, что Россия – часть Европы и должна отныне добиваться равноправной позиции среди европейских держав[179]179
Самопровозглашение Петра I «императором» было символическим актом, способствующим переосмыслению политических притязаний Москвы как открытой конфронтации с западными государствами. Номинальное отождествление с высшей политической инстанцией Европы сломало идеологическо-религиозную границу между православным царем и главами остальных европейских государств и вызвало, особенно со стороны Австро-Венгрии, бурные реакции и непризнание (см.: [Ronchi De Michelis 1983]).
[Закрыть], в том числе путем реорганизации государства в колониальную империю. Создание российского имперского пространства означало концептуализацию двух географических границ: с Западом и с Востоком. Границей с Востоком являлась граница между европейской и азиатской частями России, то есть граница с колониальной окраиной (Сибирью и Кавказом)[180]180
Лишь в результате определения географической границы Европы внутри российской территории российское пространство стало отчетливо делиться на «собственно Россию» и «колонии». Историк и географ Татищев предложил рассматривать Урал в качестве «естественной» восточной границы, которую на юге продолжала географическая «цепочка»: река Урал – Каспийское море – Кавказ – Черное море. Разделение Татищевым российского пространства на две симметрические части (Европу и Азию) имело решающее значение для российской имперской идеологии XVIII в. см.: [Bassin 1991: 6–7].
[Закрыть]. Границу с Западом олицетворял Петербург, находившийся в непосредственном, так сказать, физическом контакте с другими европейскими городами, принадлежность к культурному сообществу которых теперь осознавалась Россией.

Летний (ныне не существующий) дворец. Гравюра М. Махаева. Середина XVIII в.
«Понятие границы, – пишет Лотман [Лотман 1996: 183] в контексте своей культурно-семиотической теории семиосферы – двусмысленно». Она разделяет и соединяет в одно и то же время, поскольку «принадлежит обеим пограничным культурам» (или семиосферам). Граница по своей сущности «би– и полилингвистична», она – «механизм перевода текстов чужой семиотики». То, что Лотман определяет здесь как универсальную культурно-семиотическую модель, явно содержит мнемонические следы определенного культурного контекста, а именно петербургской культуры и пограничного положения этого города[181]181
О концептуализации Лотманом центра и периферии в семиосфере и ее очевидной ориентации на петербургскую культуру и ее фазы в отношениях с Западом см.: [Frank 2000: 124–125]. Зенкин [Зенкин 1998: 205–207], кроме того, убедительно показал, как дуальность культурной типологии Лотмана из изначально абстрактно-универсальной стала специфической чертой самоописания русской культуры, то есть как в итоге в этих универсальных культурно-семиотических моделях проявилась память определенного, породившего их культурного контекста.
[Закрыть]. С такой же амбивалентностью изображается новооснованный город в панегирике Петровской эпохи: как «крепость» и как «врата» в Европу. Стефан Яворский [Стефан Яворский 1708: 518], например, называет Петербург «Врата водная царствия российскаго», в описании же Гавриила Бужинского [Гавриил Бужинский 1717: 9] этот город предстает как «второму Иерусалиму Россискому Государству стена крепкая и столпа оный давидов». То, что эти определения следует рассматривать не как противоположные или даже взаимоисключающие концептуализации Петербурга, а как две стороны одной медали, доказывает следующее место из знаменитого «Слова на похвалу памяти Петра» Феофана Прокоповича:
Се и врата ко всякому приобретению, се и замок, всякия вреды отражающий: врата на мори, когда оно везет к нам полезная и потребная; замок томужде морю, когда бы оно привозило на нас страхи и бедствия [Феофан Прокопович 17256: 137].
Текст Прокоповича отражает двусмысленность восприятия пограничного положения Петербурга в первые годы после его основания: как открытую дверь и одновременно как закрытую, обращенную к Западу («на мори» или «к морю») крепость. Еще более показательной, чем это колебание границы между открытостью и закрытостью, является направленность тематизированного здесь культурного контакта, особенно если учитывать послепетровское пространственно-семиотическое восприятие Петербурга. Мы, очевидно, имеем здесь дело с ярко выраженным процессом «интровертированного освоения», протекающим лишь в одном направлении: с Запада в Россию. Петербург выступает как место встречи разных культур и, вместе с тем, как место фильтрации чужого. Импорт культуры петровского времени, происходящий на границе, в любой момент может быть остановлен перед границей. Новая резиденция предстает пунктом концентрации западной цивилизации, которая должна быть переправлена далее в империю. Лишь в ходе XVIII столетия Петербург станет местом более или менее равноправного культурного обмена между Россией и Европой (см. ниже 4.3).

Вид Васильевского острова и триумфального ввода шведских судов в Неву после победы при Гангуте 1714 г. Гравюра А Ф. Зубова
3.5. Эталонная реальностьПодводя итог, можно представить роль Петербурга в самоконцептуализации Петровской эпохи в виде следующей схемы: Петр в качестве демиурга создает Петербург как образец нового мира, призванный служить моделью будущей России[182]182
См.: [Geyer 1962].
[Закрыть]. Панегирик петровского времени рисует эталонную реальность Петербурга как воплощение утопии, наделяя преобразованную Россию чертами новой столицы[183]183
См. цитированное выше (3.2) место из Прокоповича [Феофан Прокопович 1716].
[Закрыть].
Лотман и Успенский [Лотман, Успенский199б: 433 и след.] справедливо указывают на то, что новый город в устье Невы, будучи «ядерным элементом» петровской культуры, стал «структурообразующим генератором»: он воплощал идею «регулярности», стоявшую тогда в центре культурного самомоделирования. Рядом с вожделенным идеалом регулярного государства, построенного по западному образцу, тогдашняя бытовая реальность казалась «нерегулярной» и «неправильной». То, что при этом ориентация на Запад не только была вызвана признанием его культурного превосходства, но и означала перекодировку внутрикультурных ценностных критериев, теперь не подлежит сомнению. При этом Запад воспринимался не столько как конкретная политико-географическая реальность, сколько как идеал искомой правильности, призванный сменить «неправильную» российскую реальность[184]184
Радикальность петровского проекта абсолютно новой действительности подчеркивается первоначальной идеей Петра построить новую столицу не просто на границе империи, а за пределами материка: в 1709–1712 гг. был разработан (впоследствии отвергнутый) план постройки новой столицы на острове Котлин – там, где позднее возник Кронштадт (см.: [Луппов 1957: 25 и след.]). Швед Л. Ю. Эренмальм, находившийся в те годы в русском плену, сообщает, что Петр I планировал построить на острове Котлин «новый Амстердам», со своей резиденцией в центре (см.: [Беспятых 1991: 94]). Символическое отмежевание от старой России проявляется здесь особенно отчетливо, так как новый центр конципируется как точная копия другого города, к тому же за пределами материка.
[Закрыть].
Радикальность подобного культурного самопроекта постепенно смягчилась в послепетровское время, когда код русской культурной идентичности – согласно приведенной выше типологии Гизена (см. 2.1) – стал соответствовать скорее «традициональной», нежели «универсальной», модели, как будет показано в следующей главе.
4. Петербург в послепетровское время
Коренная перестройка культурной памяти в Петровскую эпоху сменяется установкой послепетровского времени на темпоральную преемственность, начало которой связывалось с мифом Петровских реформ. Гарантом и носителем этой преемственности считался монарх, эксплицитно прославлявшийся как истинный последователь Петра I. Теперь уже не требовалось насильно «подгонять» действительность под утопические проекты: реформаторско-просветительские конструкты (например, Наказ Екатерины II) не предназначались для конкретного воплощения и с самого начала сосуществовали с социальной действительностью как чисто «метаполитические» проекты[185]185
См. об этом: [Лотман, Успенский 1996: особенно 434].
[Закрыть]. В этом контексте изменилась и роль Петербурга в построении русской культурной идентичности, прежде всего с точки зрения пространственной семиотики. Петербург, правда, продолжал концептуализироваться в панегирике как эталонная реальность или синекдотический репрезентант преобразованной России[186]186
См. выше главу I, 2.1.
[Закрыть]; но параллельно он стал интегрироваться в более развернутое изображение российского пространства, то есть стал выступать как одно (хотя и самое важное) из мест великой и растущей вширь Российской империи. Теперь, наряду с эпидейктическим изображением Петербурга, продолжающего оставаться символом отождествления России с севером, появляются эпидейктические изображения других городов, в первую очередь Москвы. Это ведет кресемиотизации старой столицы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
На этой новой фазе построения русской культурной идентичности значимость утопической «эксцентричности» петербургской культуры несколько снижается в силу ресемиотизации второго, то есть старого, центра – Москвы. В русском панегирике вновь начинает прославляться старая царская резиденция, как, например, в «Слове…» Феофана Прокоповича на день коронации Анны Иоанновны (1734 г.), где оба города называются «царствующим градом»[187]187
«Царствующий град», очевидно, представляет собой русский эквивалент (кальку) греческого х РатЯеиоша, одного из употребительнейших перифрастических наименований Константинополя (об эпитетах Константинополя см.: [Fenster 1968: 75–77]).
[Закрыть].
Петр I сам закрепляет культурный статус Москвы как второй столицы, оставляя за ней привилегию быть местом коронации русских царей. В 1724 г. Екатерина Алексеевна, вторая жена Петра I, коронуется в московском Успенском соборе. Этот ритуал, называемый теперь «коронация» и заменивший скорее номинально, чем по сути, традиционное «венчание на царство»[188]188
См.: [De Michelis 1985]. В незначительных изменениях ритуала кроется тем не менее глубокая символика: ср., например, введение императорской короны, внешне напоминающей корону римско-германского императора и заменившей традиционную шапку Мономаха. Об интересном соответствии между коронованием Екатерины I и Марины Мнишек см.: [Успенский 1998: 161–163; 192–194].
[Закрыть], в значительной мере определяет культурную (и панегирическую) идентичность Москвы почти до конца XVIII в. и обосновывает «остроумную» [Топоров 1995: 274] ситуацию государства с двумя столицами[189]189
С юридической точки зрения ситуация эта была несколько щекотливой, поскольку перенесение резиденции в Петербург не было санкционировано указом ни до, ни после (см.: [Geyer 1962: 186]).
[Закрыть]. Основоположная для городской символики церемония коронации требовала соответствующей эпидейктической репрезентации, что в конечном счете привело к формированию (нового) Московского текста панегирической литературы[190]190
У истоков этой одической традиции стоит Феофан Прокопович, сочинивший латинскую оду на коронацию Петра II, см. [Феофан Прокопович 1727]. Несомненно, Московский текст русской литературы старше петербургского. Допетровская традиция городского панегирика (см. ниже главу III, 2.3) перечеркивается в Петровскую эпоху новолатинской laus urbium: панегирик Прокоповича, Яворского и Бужинского способствует формированию нового городского текста, обходящего молчанием более раннее эпидейктическое изображение Москвы. Московский текст XVIII в. не столько примыкает к допетровской традиции городского текста, сколько вырабатывается в контексте петербургского панегирика.
[Закрыть].
Московский панегирик возникает как «придача» к эпидейктической репрезентации Петербурга. Только с основанием Московского университета (1755) и установлением интенсивной культурной жизни одический Московский текст обретает свою собственную, внутреннюю перспективу. Развитие Московского текста панегирической литературы отражает эволюцию роли Москвы в русской культуре XVIII в., которую можно обозначить как переход от энтропии к статусу второго центра.
Если в Петровскую эпоху Москва как символ старой, «ложной» России была сведена к асемиотической энтропии и потому считалась недостойной изображения, то в послепетровское времяона получает статус дефункционализованного центра. Москва является лишь побочным и пассивным участником динамики русской культуры и представляет статичное, преодоленное, хотя и славное прошлое (см. топическую оппозицию «молодой Петербург» – «старая Москва»). Вот как, например, изображает Ломоносов ликование Москвы в оде на рождение будущего Павла I, уделяя сначала пять строф иерархически более значимому ликованию Петербурга:
Москва, стоя в средине всех [градов росских],
Главу, великими стенами
Венчанну, взводит к высоте,
Как кедр меж низкими древами,
Пречудна в древней красоте.
Едва желанную отраду
Великому внушил слух граду,
Отверстием священных уст,
Трясущи сединой, вещает:
«Теперь мне небо утверждает,
Что дом Петров не будет пуст!
Он в нем вовеки водворится;
Премудрость, мужество, покой,
И суд, и правда воцарится;
Он рог до звезд возвысит мой».
[Ломоносов 1754: 141]
Москва занимает здесь, правда, однозначно центральное положение, но лишь в ряду прочих русских городов, получающих «радостную весть» только во вторую очередь и не принимающих активного участия в придворной жизни. Изображение Москвы «старухой» (см. особенно «седина»), ее древности (antiquitas) топологично; Ломоносов подчеркивает эту древность чрезмерным даже для одического стиля нагромождением библейской метафорики[191]191
Стих «Как кедр меж низкими древами» содержит намек на Иез. 31, в то время как «Что дом Петров не будет пуст!» отсылает к Пс. 68: 26. Ср.: [Солосин 1913: 266].
[Закрыть] и церковнославянизмов [192]192
В «Слове на освящение академии художеств» (1764) Ломоносов подчеркивает почтенность Москвы, «старинной столицы», ссылаясь на многочисленность старых церквей и вообще на «древность» города, с которым Петербург, естественно, не может тягаться.
[Закрыть].
Старый, дефункционализованный центр России осваивается заново. Основание университета ресемиотизирует Москву, поскольку до нее доходит и возвращает к жизни центробежная, «целительная» сила нового центра:
Москва доселе ревновала,
На муз в Петровом граде зря,
Но днесь в отраде просияла,
За промысл твой благодаря;
Как орля юность обновилась,
Ее седина пременилась,
Уже красуется собой
И прежню бодрость ощущает,
Главу до облак возвышает,
Являя свету вид младой.
[Поповский 1756: 107]
Н. Н. Поповский, как один из основателей Московского университета, стоит у истоков новой панегирической концептуализации Москвы. Взгляд на Москву изнутри (а на Петербург извне) позволяет не только номинально воспринимать Москву как вторую русскую столицу. Присвоенный в свое время Петербургом эпитет Москвы «царствующий град»[193]193
См.: [Одесский 1998].
[Закрыть] стал применяться в послепетровский период к обоим городам. Феофан Прокопович [1734] называет Петербург «царствующий град», а Москву – «другой царствующий град», причем Москва часто определяется как «первопрестольная» столица России[194]194
См.: [De Michelis 1985: 265].
[Закрыть]. Древность Москвы выступает теперь не просто как знак устаревшего и дефункционализованного прошлого, а как активный элемент культурной памяти. Москва – это «мать» русских городов, а Петербург эксплицитно называется ее «сыном»:
Прослави [Муза] древнюю столицу,
Блаженных горду мать градов; <…>
Тебе и сам Петрополь сын.
[Петров 1782: 387]
Преславен, знаменит Петрополь чудесам,
Достойный сын Москвы, Царицы над градами.
[Костров 1783: 328]
Эта генеалогическая связь иллюстрирует новую фазу в панегирической концептуализации обеих столиц. Сложившееся отношение между старым и новым центрами явно ставится c ног на голову, что противоречит петербургской космогонии, в которой старое, будучи хаосом в чистом виде, не порождает нового. Характерно, однако, что эта мысль существует наряду с не теряющим актуальности представлением о процессе освоения заново, то есть возвращения к жизни, движущей силой которого является Петербург, царская резиденция:
Ты мать градов: остави ревность,
Что позже прочих новый свет
Твою приосеняти древность
От трона мудрости течет.
[Костров 1782: 322]
Возникающее при этом противоречие не может быть проблемати-зировано в мире эпидейктической словесности, однако оно закладывает, по сути, начало дихотомии Москва – Петербург, с конца XVIII в. оказывающей воздействие, наряду с другими факторами, на культурную идентичность России[195]195
Традиция сравнительного, основанного на оппозициях описания обоих городов, достигшего расцвета в физиологическом очерке 40-х гг. XIX в., также восходит к XVIII в., а именно к опубликованному лишь в 1872 г. тексту Екатерины II «Размышления о Петербурге и Москве» (см.: [Топоров 1995: 327; Погосян 1997]).
[Закрыть]. Некоторые тексты обнаруживают скрытую оппозицию, едва обозначенное соперничество, что, однако, не нарушает целостности панегирического космоса, осмысляющего отрицательный полюс исключительно как существующий вне своих пределов (в пространственном или темпоральном смысле). При этом здесь имеется в виду не только топос «ревности», которую Москва, как правило, испытывает к Петербургу, а места, подобные приведенному ниже:
Два ока в Греции считались:
Афины и Лакедемон;
От них повсюду разливались
Суды, уставы и закон;
России град Петров с Москвою
Почтеньем, славой и красою;
Как крин, цветут науки в них;
Как Феб меж прочими звездами,
Так меж другими городами
Они в странах сияют сих.
[Поповский 1756: 107]
Поповский иллюстрирует мысль о культурном преимуществе двух столиц, которую мы находим позже, например, у А. С. Хомякова[196]196
См. обзор у Ванчугова: [1997: 106–107].
[Закрыть], не совсем уместным сравнением с Афинами и Спартой. Вряд ли следует видеть в этом умышленный намек на соперничество греческих городов; скорее, мы имеем здесь дело с непроизвольной оценкой противоречивой в корне ситуации[197]197
Незнание исторических событий Поповским исключается ввиду его ученой биографии. См.: [Словарь писателей 1999, т. 2:473–477].
[Закрыть]. Столь же проблематичен переходящий от Москвы к Петербургу титул «царицы городов»: Костров [Костров 1782] называет Москву «Царицей над градами», а Державин [Державин 1810] удостаивает Петербург эпитета «всех градов царица». Интересно, что каждый из них – один москвич, другой петербуржец – беспокоится о первенстве «своего» города[198]198
Здесь, разумеется, пока еще рано говорить о впоследствии столь значимом «сравнительном» тексте, строящем идентичность обоих городов исключительно на оппозициях, в которых существование Москвы и Петербурга взаимообусловлено. См. об этом: [Топоров 1995: 268–274].
[Закрыть].

Вид Исаакиевской площади со стороны Большой Морской улицы в конце XVIII в. Гравюра Патерсона
4.3. СеверОписанный процесс концептуализации двух центров представляет собой, с пространственно-семиотической точки зрения, один из важнейших феноменов построения культурной идентичности в послепетровскую эпоху. «Фиксированность» Петровской эпохи на северной границе уступает в целом место более сложному восприятию всего российского пространства, выражаемому в оде посредством приема «геоэтнической панорамы» [Топоров 1991][199]199
Понятие «геоэтническая панорама» обозначает изображение географического и одновременно этнического пространства с высоты птичьего полета посредством его локализации по сторонам света, содержащее, кроме того, перечисление его «богатств» (рек, гор, городов, народов и т. д.). Этот прием появляется уже в древнерусских летописях, но особенно часто применяется в классицистических одах. См., например, следующие стихи у Ломоносова [Ломоносов 1747]: «Воззри на горы превысоки, / Воззри в поля свои широки, / Где Волга, Днепр, где Обь течет; / Богатство, в оных потаенно, / Наукой будет откровенно, / Что щедростью твоей светет». В рамках данной работы представляется невозможным охватить различные панегирические концептуализации российского пространства XVIII в. Следует, однако, упомянуть работу А. Зорина [Зорин 2001: 31-156], вкоторой анализируется русская одопись 60-70-х гг. XVIII в. (особенно поэзия В. П. Петрова) с точки зрения содержащихся в ней изображений южных областей (в ракурсе экспансионистско-политических проектов).
[Закрыть]. В этих обобщенных панегирических изображениях пространства Россия однозначно локализуется на севере, а Петербург, со своей стороны, предстает как квинтэссенция этой особенности новой, преобразованной России[200]200
О. Буле [Boele 1991: 17–30] указывает на принципиальную пространственно-семиотическую переориентацию русских самоописаний XVIII в., локализующих Россию уже не на востоке, а на севере. Отождествление с севером было, однако, не совсем чуждо и древнерусской культуре: например, в «Повести временных лет» Русь определяется как «полночная страна».
[Закрыть]:
Посеянные им, возрастайте бы,
Науки, на брегах чистых вод Невы,
Труды Петровы, процветайте,
Музы, на Севере обитайте.
[Сумароков 1758: 101]
Вижу, Севера столица
Как цветник меж рек цветет,
В свете всех градов царица,
И ее прекрасней нет!
[Державин 1810: 39]
Панегирическая литература продолжает концептуализировать новую царскую резиденцию как пограничный город, то есть как «врата» («вечные врата», согласно Сумарокову [Сумароков б. г. б: 311]) России.

Дом светлейшего князя Меншикова. Гравюра А. И. Ростовцева. 1716 г.
Но если в Петровскую эпоху контакт Петербурга с чужим носил чисто импортирующий или интровертированно-осваивающий характер, то в послепетровское время Петербург выступает как место двусторонних встреч с европейской культурой. В некоторых текстах говорится даже о «паломничестве народов» в Петербург, отсылающем к библейскому топосу стечения народов в Иерусалим[201]201
См., например: Ис. 60: 5.
[Закрыть]:
С богатством дальны шли народы
К Елисаветиным брегам.
[Ломоносов 1750: 133]
Петербург превращается из места импорта в место взаимообмена[202]202
См., например: у Сумарокова [Сумароков б. г. а: 254]: «О врата, врата Бальтийскаго моря, отверзающия нам легкия пути ко многим областям, врата к России которыми входит и умножается богатство ея».
[Закрыть], открытое не только на запад, но и на восток:
Во-первых, примечая состояние сего места, находим, что пользуемся великим доброхотством натуры, которая на востоке распространяет великия через целое отечество реки для сообщения с дальними асийскими пределами <…> На западе разливается море, отверзая ход во все страны вечерния [Ломоносов 1764: 811–812].

Дворцовая набережная. Гравюра первой половины XVIII в.
Создается впечатление, что в середине XVIII в. панегирик приписывает Петербургу роль, которую Лейбниц прочил всей новой России, а именно роль культурного моста между Европой и Азией[203]203
См. об этом: [Boele 1996: 23].
[Закрыть]. Но и будучи «перевалочным пунктом», Петербург однозначно сохраняет свою «западную» позицию:
Петрополь ныне щит Европы,
Врагам народ российский страх.
[Сумароков 1775: 4]
Показательно, что здесь Петербург видится по другую сторону границы, то есть как неотъемлемая часть Европы. Делящая и одновременно единящая граница Петровской эпохи становится порогом, «переправой» между Западом и Востоком, и в то же время демаркационной линией, отделяющей интегрированную в Европу, но лежащую на периферии Россию от внеположенного Европе Востока.

Вид Смольного института. Акварель Дж. Кваренги
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.