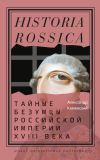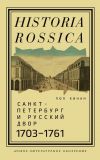Текст книги "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
II
Эксцентрический центр: самосознание культуры
В обобщающем замечании Бродского о Константинополе очевидно просматривается «адрес» самого автора, чьи размышления в данном случае равно относятся к Петербургу. Не случайно они почти дословно совпадают с суждениями Лотмана об «эксцентрическом городе» [Лотман 1984: 30 и след.]. Это именно тот тип города, к которому, по Лотману, относятся и Петербург и Константинополь. «Эксцентрический» означает «на краю культурного пространства» и представляет собой отличительный признак этого типа, противопоставляемого семиотической «центричности» таких городов, как Рим, Иерусалим или Москва. Помещение столицы или царской резиденции вблизи границы государства – примеры тому поставляют не только император Константин или Петр I, но и Святослав (Переяславец) – означает, согласно Лотману, ликвидацию существующей пространственно-семиотической ситуации вследствие мены местами центра и периферии: основание «периферийного» центра свидетельствует не только о военной, но и о культурной экспансии, о вовлечении внешнего культурного пространства в построение собственной идентичности. Помимо этого, эксцентрический город утопичен по своему характеру, ибо он создает видимость пространственной центричности, которой пока нет.
Тезис Лотмана об «эксцентрическом» типе города лег в основу приводимых здесь соображений о роли петербургского панегирика в построении русской культурной идентичности в ХУШ в.[150]150
Типология Лотмана представляется, однако, несколько спорной.
С одной стороны, «эксцентричность» Константинополя не совсем равнозначна «эксцентричности» Петербурга: Константин хотел построить Aevrepа Рюцт, а не Ша Рюцт), то есть вторую резиденцию, которая должна была дополнить, а не заменить Рим (то есть мы имеем здесь дело с renovatio, а не translatio; ср. об этом: [Irmscher 1983]); Петр I же избрал периферию, чтобы построить новый и единственный центр, который должен был взять на себя роль Москвы (см. ниже). С другой стороны, утверждение о том, что «концентрические» города конструируют отчетливую границу с внешним, мыслимым как враждебное, пространством, применимо к Москве, но не к Риму и его культурному синкретизму.
[Закрыть] Изображение Петербурга в панегирических текстах не только закладывает основу литературного городского мифа; оно одновременно участвует в построении новой культурной идентичности посредством создания образов «своего» и «чужого», в основном проблематизирующих (семиотически) пограничное положение Петербурга[151]151
Далее за основу будет браться тезис, выдвигаемый – хотя и со значительными теоретическими и методологическими различиями – как тартуско-московской школой, так и более новыми культурологическими течениями (например, новым историзмом), о том, что литературные тексты активно участвуют в символической репрезентации культурной идентичности, поскольку они в общем являются «средством культурной автоинтерпретации» [Bachmann-Medick 1996: 9].
[Закрыть]. Панегирик, как место проведения культурной границы, четкого определения и разграничения «своего» и «чужого», является важной действующей силой символической русификации Петербурга, то есть вовлечения этого «чужеродного тела» в культурную идентичность Петровской эпохи. Между конструированием «своего» и вынесением за скобки «чужого» Петербург концептуализируется как идеально-символический центр и в то же время как граница, делающая возможным, но тем не менее фильтрующая культурный контакт с Западом.
1. Символика петербургской космогонии
С культурологической точки зрения описанная в предыдущей главе петербургская космогония представляется не просто мифологизированием на тему основания города, но также действенной стратегией в (само)конструировании русской культуры XVIII в. В контексте символического складывания культурной идентичности петербургская космогония выступает ключевым элементом самоописания Петровской эпохи как «нового начала» русской культуры, как ее преобразования в смысле «рождения заново», «сотворения из ничего». Далее будет рассмотрена формирующая идентичность «риторика нового» и одна из ее важных культурных предпосылок – сакрализация царя[152]152
О семиотико-символическом аспекте Петровских реформ см.: [Живов 2000].
[Закрыть].
В Петровскую эпоху кристаллизуется представление о возрождении, о полном обновлении России вследствие реформаторской деятельности Петра I – демиурга «новой» России, способной соперничать с другими европейскими государствами, ставшее впоследствии одним из продуктивнейших мифов русской культуры XVIII столетия. Эту «риторику нового» обнаруживает целый ряд текстов, как, например, приводимый ниже часто цитируемый отрывок из похвальной речи, с которой в 1721 г. Г. И. Головкин выступил от имени Сената перед Петром I по поводу провозглашения его императором:
Мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и во общество политичных народов присовокуплены [ПСЗРИ 1830, Т. 6: 445].
Или знаменитое «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича, уже во вступлении которого содержится следующая характеристика Петра:
Виновник безчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу <…> [Феофан Прокопович 1725а: 126].
Мысль петровского времени о полном обновлении России была подхвачена последующей эпохой и не теряла актуальности на протяжении всего XVIII столетия[153]153
Преемственность этой концепции следует пояснить некоторыми примерами. Кирилл Флоринский в одной проповеди 1741 г. развивает представление о допетровской культуре как неструктурированном, а-семиоти-ческом сыром материале (своего рода хаосе): «запамятовали были, коим образом Петр Великий обрете нас подобных древу лесному, криву, суковату, дебелу, ожелтему, неотесанну, ни на каково дело неудобну, своима рукама коль в красные статуи переделал, да еще и небездушны» [Кирилл Флоринский 1741: 8]. Сумароков пишет в «Слове похвальном о Петре Великом»: «До времен ПЕТРА Великаго Россия не была просвещенна ни ясным о вещах понятием, ни полезнейшими знаниями, ни глубоким учением; разум наш утопал во мраке невежества» [Сумароков б. г. а: 248]. В одической традиции ср., например, у В. И. Майкова: «[Петр] извел из тьмы на свет их [русских. – P.H] вскоре» [Майков 1763: 193], или в ее поздний период, у С. С. Боброва, связывавшего создание Петербурга с созданием нового народа: «Но, о премудрый основатель! / Одних ли сих творец ты стен? / Одних ли сих чудес ты здатель? / Народ тобою сотворен; / Народ – трофей в трофеях главный! / А ты – России всей творец» [Бобров 1803: 114].
[Закрыть]. Она стала не только устойчивымтопосом в русской историографии, но прежде всего главным критерием концептуализации русской культуры XVIII в. на разных уровнях, включая литературный[154]154
См. в связи с этим: [Picchio 1991]. Центральные представители русской словесности первой половины XVIII в. (Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков), подражая Петру Великому, пытались повторить мифологический акт сотворения нового на литературном уровне.
[Закрыть].
Важной предпосылкой возникновения и развития петербургской космогонии является представление о русском царе как о демиурге, творце нового мира, не имеющее соответствия ни в западной, ни в русской традициях допетровского времени. С культурно-семиотической точки зрения это представление возникло вследствие взаимодействия двух факторов: с одной стороны, (общеевропейской) концепции носителя верховной власти как гаранта социальной гармонии и посредника между космическим (божественным) и социальным порядками, с другой стороны, (специфически русских) мессианистических ожиданий, которые с XV в. связывались с царем[155]155
См. об этом у В. Живова [Живов 199бб: 665]: «Европейская концепция монарха как распорядителя всеобщего блага приводит в России к беспрецедентной сакрализации царя, распространяющейся со времен Алексея Михайловича и характеризующей весь императорский период русской истории. В русском варианте мифологии государства монарх выступал как земной бог и земной спаситель, связанный таинственной харизматической связью с небесным Богом и Спасителем-Христом <…>».
[Закрыть].
Мифологизация фигуры царя при Петре I, являющаяся, в конечном счете, источником петербургского мифа в его космогоническом и эсхатологическом аспектах, тесно связана с феноменом сакрализации царя. Согласно фундаментальной работе В. Живова и Б. Успенского [Живов, Успенский 1987], на которую я далее буду ссылаться, Петровская эпоха представляет собой новую, более интенсивную фазу в процессе сакрализации монарха. Начало этого процесса связано с появлением в XV–XVI вв. концепции «Москва– третий Рим» (то есть с зарождением традиции «официального мессианизма»[156]156
См.: [Смирнов 1991: 169–192].
[Закрыть]). Во второй половине XVII в. в процессе сакрализации происходит решительный перелом, когда при Алексее Михайловиче официальный мессианизм наполняется не только преимущественно теократическим, но и более отчетливым политическим смыслом и отдаляется от культурного изоляционизма. (Пере-)ориентация на Византию и ее придворную культуру, сопровождавшая ориентацию на западную культуру, означала присвоение царем роли византийского императора – «священнослужителя», «иконы Христа», чья харизма была сопоставима с харизмой патриарха. Но если сакральность византийского императора была функциональной, то есть определялась его ролью, то перенятие византийского канона Россией может быть интерпретировано, или семиотически прочитано, как узурпация привилегий церкви царем, в отрицательном и положительном смысле. Истинность царя, которая первоначально связывалась с его справедливостью, а позже, со времен Ивана IV, с его харизматической природой, его богоизбранностью, теперь определяется еще и «харизматическим каноном», который отчасти прочитывается при помощи добарочного, древнерусского, кода, основанного на непроизвольности знака. Царь буквально отождествляется с иконой Христа.

Часть титульного листа брошюры «Triumpf polskiey muzy…». 1706 г.
Петр I осуществляет узурпацию церковных полномочий царем (а теперь императором), упраздняя патриаршество и объявляя царя главой русской православной церкви. Параллельно этому панегирик, один из мощнейших механизмов пропаганды Петровской эпохи, ускоряет процесс сакрализации Петра I, помещая (посредством нарочито эффектного двойного кодирования своих текстов) сакральные атрибуты царя между метафорическим и неметафорическим прочтением[157]157
См. об этом, например, [Амелин 1992]. О семиотике истории на примере Петра I см.: [Успенский 1994а]. Конфликт между миметическим и произвольным понятиями знака является основоположной в семиотической интерпретации русской культуры тартуско-московской школой. Описанный здесь феномен сакрализации царя связан с установлением в России XVII в. «культуры правил», вырабатывающей произвольные знаки. Интерпретация этих знаков как миметических, а не как произвольных может привести к отождествлению слова и вещи, заслоняющему подразумеваемую метафоричность, или же они могут быть отвергнуты по причине своей мнимости. Таким образом, сакрализация царя означает одновременно его демонизацию.
[Закрыть]. Царь-бог, как преобразователь страны, становится демиургом и подвергается беспримерной мифологизации.
О том, какую роль играет основание, то есть «сотворение» Петербурга на символическом уровне культурного самоописания Петровской эпохи, свидетельствует (хронологически) первый текст петербургского панегирика уже упоминавшийся цикл проповедей Стефана Яворского «Три сени» (1708)[158]158
См. выше главу I, 1.3.
[Закрыть]: Петровская эпоха концептуализируется в нем как Преображение России. Как уже говорилось, эти три проповеди были прочитаны в Санкт-Петербурге в дни трех (в символическом понимании) великих праздников: Вознесения Христова, Троицы и 29 июня – дня Петра и Павла, патрональных святых царя. Знаменательно, что в основу всех трех проповедей был положен один и тот же стих Евангелия (Мф. 17: 4), а не специально предусмотренные для этих праздников места из Библии. Стихи Мф. 17: 1-13 (а также в Лк. 9: 33) описывают историю Преображения Христа и берутся обыкновенно за основу проповедей на праздник Преображения Господня (6 августа)[159]159
См.: [Onasch 1981: 367–368].
[Закрыть].
Барочное остроумие (acumen) этого цикла проявляется в том, что Яворский переносит смысловой потенциал Преображения Христа на политическую действительность России и заостряет его посредством соотнесения с великими праздниками (Вознесением и Троицей), в свою очередь связанными с превращением и преображением. Три «сени», которые хотел построить апостол Петр, видятся ему построенными Петром I и отождествляются им с тремя столпами преобразованной России: Санкт-Петербургом, армией и флотом[160]160
Изображение этой петровской триады стало устойчивым топосом русского панегирика. См., например, у А. А. Ржевского [Ржевский 1764: 247]: «Флот, войско, грады насадил».
[Закрыть]. Барочное остроумие помогает ему «изобрести» скрытые соответствия между тремя символическими столпами новой России и Иисусом, Моисеем и Илией, для которых должны были быть построены «сени»[161]161
Тот факт, что цитируемые места полностью вырываются из библейского контекста – прием, типичный для барочной проповеди, – обусловливает некоторую паралогичность аргументации Яворского. Преображение Христа происходит на горе, где апостол Петр и хотел построить три сени; Петр I же строит свой город у моря. Яворский оправдывает это, в том числе утверждая, что вода – пространство, избранное Богом, а гора – сатаной.
[Закрыть].
Посредством такого эффектного двойного кодирования текстов Яворский представляет Преображение петровской России, ее теофанию: подобно тому как Преображение Христа является одновременно историей его интронизации, Яворский связывает петровские надежды на будущее с Преображением России.
1.4. «Радикальная специфика» русской культурыЗначительный вклад в исследование «риторики нового» внесла тартуско-московская семиотическая школа. Культурное самоописание этой эпохи было соотнесено в том числе с известной дуалистической концептуализацией русской культуры, бинарная модель которой исключает культурное чистилище, то есть культурные резервы для возникновения чего-то действительно нового (см.: [Лотман, Успенский 1977])[162]162
Эта дуальность, согласно Лотману и Успенскому, обусловлена отсутствием чистилища в русской православной традиции. И. П. Смирнов [Смирнов 1991: 45 примеч. 68] указывает на неточность такого утверждения, поскольку так называемые мытарства, то есть парение души между землей и небом после смерти (40 дней), как пребывание в «нейтральной сфере», вполне сопоставимы с пребыванием в чистилище.
[Закрыть]. Тем самым Петровская эпоха была вовлечена в схему развития, принципиальным образом выявляющую ее относительный характер: ее самоконцептуализация как «новой культуры» повторяет базисную парадигму русской культуры, периодически осмысляющей новое как эсхатологический поворот по отношению к старому, но в действительности конструирующей новое как «выворачивание наизнанку» уже существующей культурной глубинной структуры[163]163
Тезис, который сначала – разумеется, по политическим причинам – распространялся на период до XVIII в., в постперестроечное время был применен Лотманом ко всей русской культуре и негативно оценен (см.: [Лотман 1995]). В последних работах Лотман намекает на возможность переключения всей русской культуры постсоветского периода «с бинарной системы на тернарную», то есть на возможность обращения процесса демократизации в процесс «нормализации»
в смысле удаления структурной необходимости периодически наступающих общественных катаклизмов ([Лотман 1992а: 264]; об этом: [Зенкин 1998: 206–207]).
[Закрыть].

Кунсткамера. Гравюра Г. Качалова. 1711 г.
Осмысление этой «тотальной и радикальной специфики России» [Hansen-Love 1997: 424] как предпосылки закрепления петербургского мифа с его космогоническими элементами в Петровскую эпоху[164]164
Другой, такой же значимой, культурно-семиотической предпосылкой является, согласно Лотману и Успенскому [Лотман, Успенский 1992], ориентация Петровской эпохи на мифологическое сознание. Мифы и мифотворчество показательны для Петровской эпохи, ставшей образцом культуры, самоописание которой заметно ориентируется на мифологическое мьгшление. Это проявляется, например, во всеохватывающем процессе переименования той эпохи: «Это сотворение «новой» и «златой» России мыслилось как генеральное переименование – полная смена имен: смена названия государства, перенесение столицы и дача ей «иноземного» наименования, изменение титула главы государства, названий чинов и учреждений, перемена местами «своего» и «чужого» языков в быту и связанное с этим полное переименование мира как такового» [Там же: 70–71]. Согласно Лотману и Успенскому, процесс номинации является специфическим типом семиозиса в мифологическом сознании, в котором знак «аналогичен собственному имени» (см. выше главу I, 1.2).
[Закрыть] упускает, однако, из вида тот факт, что построение русской культурной идентичности в начале XVIII в. претерпело решительный перелом, который следует видеть не только в непрерывности глубинной структуры. Аргументация Лотмана и Успенского затушевывает историческую значимость петровского «проекта нового», не учитывая тот факт, что этот проект совершенно заново конструирует границу между «своим» и «чужим», между внутренним и внешним пространствами русской культуры. В этом процессе решающую роль сыграло основание Петербурга, поскольку оно символизировало проведение новых границ на уровне символической репрезентации. Намеченный здесь разрыв в самоописании русской культуры будет очерчен в следующей главе; далее речь пойдет о специфической роли петербургского панегирика в построении русской культурной идентичности в XVIII столетии.
2. Культурная идентичность, открытие границ
Построение культурных категорий «своего» и «чужого» переживает в Петровскую эпоху решительную смену парадигмы, в основном в силу (вынужденного) освоения чужого (западного) культурного наследия, которое можно было бы назвать, следуя провокационному и, безусловно, проблематичному тезису Гройса [Groys 1995: 169], «самоколонизацией». «Новая» русская культура концептуализирует себя теперь через определение заново двух своих культурных оппонентов: Запада (раньше выступавшего как Другое вообще, а теперь ставшего частью новой идентичности[165]165
Здесь, разумеется, речь идет не о процессе озападнивания, который, как известно, начался уже раньше (в XVII в.), а о самомоделировании собственной идентичности как (в некоторой степени) «интровертированно-усваивающей» идентичности (об «интровертированном освоении» см. ниже, 2.1).
[Закрыть]) и допетровской культуры (становящейся диахронически внутренним Другим). Граница между «своим» и «чужим» переживается драматически: с одной стороны, уже и без того непростое культурное отношение к Западу становится противоречивым, что выражается в тесном переплетении освоения и отталкивания, интеграции и дезинтеграции. С другой стороны, проводится диахроническое различение между собственным культурным прошлым, утратившим культурный статус и концептуализируемым как преодоленное «чужое», и настоящим, собственно «своим», олицетворяемым в основном Петербургом – петровским «парадизом»[166]166
Показательно, что Петр I, называвший, как известно, свой город «раем», использовал при этом западную форму «парадиз». См.: [Письма и бумаги 1887–1991, т. 4: 207 и 368; т. 10: 57].
[Закрыть]. Петербургский панегирик является одним из важнейших источников, конструирующих и одновременно символически репрезентирующих эту строящую идентичность границу; он содержит образы культурной тождественности (Identitat) и инакости (Alteritat), которые далее будут рассмотрены более подробно.
При том, что проведение границы между внутренним и внешним пространствами того или иного сообщества является основоположной и непременной операцией, сопровождающей символическое кодирование коллективной идентичности, связанная с этим концептуализация «своего» и «чужого» может быть весьма многообразной. В этой связи особенно продуктивную типологию содержит работа Б. Гизена [Giesen 1999: 24–26], в которой различаются три кода коллективной идентичности: «примордиальный», «традициональный» и «универсалистский».

Троицкая площадь и Гостиный двор на Городском острове. Гравюра А. И. Ростовцева. 1716–1717 гг.
В «примордиальных» кодах «внутреннее и внешнее различаются исходя из пола или поколения, родства или происхождения, этнической или расовой принадлежности» [Там же: 32]. Это различие мыслится как «исходное», а граница между ними проводится «отчетливо» [Там же: 33]; внешний мир «демонизируется» [Там же: 36][167]167
Примордиальный код конструирует не только расистские сообщества;
в XIX в., например, он выступал в качестве обоснования «демократического национального государства», поскольку «политическое равенство граждан объяснялось их естественной однородностью» [Там же: 39].
[Закрыть]. В отличие от этого, «традициональные» коды коллективной идентичности «складываются на основе знания имплицитных правил поведения, традиций и общественных ритуалов» [Там же: 42], то есть на основе временной преемственности, изначально конструируемой ритуализованной памятью; при этом чужое не демонизируется, а уважается и держится на расстоянии, граница же намечена весьма расплывчато: это ведет к сосуществованию различных групп, нередко строящих свою коллективную идентичность «на отношении к персоне властителя» [Там же: 50][168]168
Например, в случае Австро-Венгерской монархии.
[Закрыть].
Третий код коллективной идентичности, «универсалистский», имеет особое значение для культуры Петровской эпохи. Он «основывается не на воспоминаниях и традициях или естественном родстве, а на особой идее спасения, или парусии» [Там же: 54] и стремится к радикальному изменению существующего порядка. Все внестоящие рассматриваются как «потенциальные члены» [Там же: 56] коллектива, которые «могут обрести свою истинную идентичность» с помощью миссионирования или просвещения. Поэтому универсалистские коллективы «преобразуют напряженность между священным, страхующим идентичность центром и «неспасенной» периферией в педагогизацию границ. <…> Это инклюзивное движение смещает границу между коллективом и «неспасенным» внешним миром, как правило, все дальше наружу» [Там же: 57]. Приверженность новому порядку нередко демонстрируется посредством «беспощадности» и «безжалостного упорства», «лишений» и «кровавых жертв» [Там же: 58]. Универсалистский код коллективной идентичности всегда связан с более или менее радикальной утратой памяти, ибо «необходимо отречься от мира прошлого и строить будущее как новый, лучший порядок» [Там же: 60]; поэтому настоящее всегда ложно, а «истинный порядок – это, соответственно, всегда нереализованный порядок, порядок будущего» [Там же: 61][169]169
Этот код обнаруживает интересные параллели с культурной типологией, разработанной тартуско-московской школой на основе известной дихотомии «культура как совокупность текстов» versus «культура как система правил» (см.: [Лотман, Успенский 1971]; о проблематизации этой дихотомии применительно к русской культуре XVII в. см.: [Lachmann 2001: 22–44]). Речь идет здесь, в частности, об образе Другого, о не-культуре, создаваемой «культурой правил». Культура, подобная петровской, типологически ориентированная на «культуру правил», то есть концептуализирующая сама себя как упорядоченную, знаковую систему правил, создает образ не-культурно-го как не-знакового и неупорядоченного, как хаоса в чистом виде. Поскольку с точки зрения Лотмана культура – всегда динамический конструкт, этот тип культуры предстает как механизм ассимиляции и трансформации не-текстов в тексты, то есть как культура, осмысляющая себя как космическое, активное начало, пытающееся интегрировать не-культурное в свой «правильный космос». В отличие от конструктивистской типологии Гизена, модель Лотмана и Успенского опирается исключительно на семиотический механизм культуры и особенно на оппозицию двух типов культуры с двумя различными осмыслениями знака (знаковая непроизвольность «культуры текстов» versus знаковая произвольность «культуры правил»); кроме того, эта модель имплицитно предполагает диахроническое развитие культуры, осмысляющее «культуру текстов» как явление (прежде всего русского) Средневековья.
[Закрыть].
Гизен подчеркивает, что универсалистским кодам соответствует особенно «экспансивная динамика великих империй» [Там же: 63], например римской или исламской, но и движение Французской революции и пр. На мой взгляд, русская коллективная идентичность Петровской эпохи тоже отчасти конструируется посредством универсалистского кода. Коренное изменение существующего порядка и «безжалостное упорство» в реализации порядка, нацеленного на будущее, утрата культурной памяти при подмене старого новым – таковы феномены, характеризующие Петровскую эпоху. Модель Гизена, однако, не совсем отвечает историческому формату этой эпохи и потому должна быть дополнена. «Универсалистский» код существует и действует здесь наряду с другим, противоположным ему, явлением: «интровертированным» освоением культуры. Под этим следует понимать «имитирующую ориентацию на культуру обладающего превосходством оппонента», в данном случае Запада[170]170
О понятии «интровертированного освоения культуры» см.: [Frank 2003].
[Закрыть]. В силу переосмысления Запада как обладающей превосходством культуры и в силу вынужденного «интровертированного освоения», происходит параллельное отмежевание от внутреннего «чужого» (допетровской культуры), которое теперь должно быть заменено «новым» (петровским «своим»), то есть «педагогизировано». Символическая функция Петербурга в контексте конструирования границы, формирующей идентичность, может быть сведена к следующему: с основанием Петербурга в России появляется децентрированный центр, выступающий в то же время как периферийное место диалога с внестоящим Западом и как центр педагогизации внутреннего «чужого» (допетровской культуры). Петербургский панегирик отражает эту парадоксальную ситуацию и вносит вклад в интерпретацию этого города как границы и одновременно идеального центра России.
3. Петровский Петербург
3.1. «Централизация» ПетербургаПеремещение политического центра на периферию обыкновенно означает симуляцию (еще) не существующей центричности, которая вначале должна быть сконструирована посредством символической репрезентации. Поэтому одной из первых задач петербургского панегирика была концептуализация новой царской резиденции как центра России, осуществлявшейся, в частности, по известному образцу ubi imperator, ibi Roma.

Зимний дворец Петра I. Гравюра А Ф. Зубова. 1716–1717 гг.
Стефан Яворский [Стефан Яворский 1708], например, концептуализирует Петербург как фактическую православную церковь, то есть как место, в котором православным христианам предстоит жить со своим новым главой – царем. Новооснованный город – это «церковь святая» [Там же: 518], поскольку он – построенная Петром I «сень Христова» (см. выше), то есть его обитель («сень то есть Христова, в ней же любимое Христу Богу нашему обитание», [Там же: 513]). В то же время Петербург – церковь, поскольку он не что иное, как «собрание правоверных» [Там же]. Определение «церковь» является общим признаком в отождествлении города с «сенью Христовой»; город приобретает коннотацию центричности в силу сакрализации царя, который его строит и управляет из него церковью и государством. Гавриил Бужинский [Гавриил Бужинский 1717], в свою очередь, называет Петербург «Новым Иерусалимом» России[171]171
См. выше главу I, 1.3.
[Закрыть], намекая тем самым на осмысление библейского Иерусалима как центра мира[172]172
См.: [Scott/Simpson-Housley 1994].
[Закрыть].
«Централизация» Петербурга при помощи традиционной религиозной метафорики означает одновременно его русификацию, то есть она представляет собой одну из важнейших форм символического освоения нового города русской культурной идентичностью. Этот процесс символического утверждения нового центра соотносится с процессом отрицательной пересемиотизации старого центра (Москвы) и допетровской культуры в целом, который будет рассмотрен в дальнейшем.
3.2. «Энтропизация» Москвы«Изобретение нового» в Петровскую эпоху происходит, как уже говорилось, за счет резкого отмежевания от допетровской культуры, что одновременно означает резкое вмешательство в культурную память[173]173
См. об этом [Живов 2000: 575]: «Основным положением, внедренным Петром в культурное самосознание и укрепившимся там на многие десятилетия, является вера в коренное противостояние между старой и новой Россией, в отсутствие между ними практически всякой культурной преемственности».
[Закрыть]. Центральным моментом этого процесса является пересемиотизация старого центра: модель самоописания этой эпохи переосмысляет Москву из элемента культуры в хаотическую не-культуру[174]174
О семиотическом механизме культуры, «управляющем мнемоническими парадигмами, ограничиванием и отъединением, памятью и забвением» см.: [Lachmann 1996, особенно 47–52]. О культурной памяти вообще см.: [Assmann 1988 и 1992].
[Закрыть]. Петровская (петербургская) культура создает образ (ей) чужого («старой» московской культуры) как энтропической величины, которую следует «педагогизировать»
Поэтому не случаен тот факт, что после основания Петербурга Москва перестает открыто фигурировать в петербургском панегирике: отрицание достохвальности Москвы приводит к зачеркиванию ее культурной идентичности как символа старого. Правда, Москве отводится в мире петровского панегирика роль отрицательного оппонента, оттеняющего положительный полюс (Петербург / новую Россию) в мире бинарных структур эпидейктической словесности; при этом, однако, бывшая царская резиденция, сведенная к неопределенному а-культурному хаосу, утрачивает свое имя и свою идентичность, в то время как Петербург постоянно «именуется».
Феофан Прокопович, например, изображает новую петровскую действительность, противопоставляя друг другу а-культурное русское «прежде» и наделяемое чертами Петербурга «ныне»:
Что бо была Россия прежде так не долгого времени? И что есть ныне? Посмотрим ли на здания! На место грубых хижин наступили палаты светлые, на место худаго хврастия, дивныя вертограды. Посмотрим ли на крепости! Имеем таковыя вещию, каковых и фигур на хартиях прежде не видели и не видали [Феофан Прокопович 1716:44].
Полное обновление России символизируют здесь реалии, одновременно являющиеся характерными чертами культурной инакости Петербурга по сравнению со старой Россией: «светлые палаты», «дивныя вертограды», регулярные «крепости». Пейзажно-архитектурные образцы старой России («грубые хижины» и «худое хврастие») призваны подчеркивать в этом символическом сопоставлении ее энтропический аспект. Характерно, что они вновь появляются в другом произведении Прокоповича – «Истории Императора Петра Великого» – в описании места, на котором был основан Петербург:
Было на нем некое Чухонское жилье, несколько промеж хврастием рыболовских хижин; а острова прочие густым лесом зарослые стояли, а между лесами оными мало негде сухой земли, везде мокрота и грязь, <…> [Беспятых 1991: 255].

Торжественный ввод шведских фрегатов в Неву после Гренгамской победы. Гравюра А Ф. Зубова. Около 1721 г.
Не случайно Феофан наделяет петербургское «прежде» в «Истории…» теми же коннотациями, как и образ старой России в процитированной похвальной речи. Такие дискурсивные совпадения в текстах одного и того же автора придают отчетливость на символическом уровне культурного самоописания отождествлению мифологизированного преодоления первобытного хаоса в момент основания города с превращением допетровской не-культуры в петровский культурный космос.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.