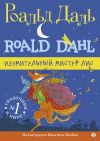Текст книги "Жизнь мальчишки"

Автор книги: Роберт Маккаммон
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В мой затылок впилась уже третья горошина, вызвав сильную боль. Однако все мое внимание было сосредоточено на осе, обнюхивающей ложбинку между мизинцем и безымянным пальцем. Мое сердце бешено колотилось, кожа покрылась мурашками. Что-то пронеслось мимо моего лица; приподняв голову, я заметил вторую осу, которая, совершив облет головы Демона, уселась ей на макушку. Должно быть, Демон почувствовала щекотание. Она подняла руку и смахнула осу, даже не зная, что село ей на голову. Оса с сердитым жужжанием вновь поднялась в воздух, мельтеша черными крыльями. Я решил, что она вот-вот ужалит Демона, но оса, очевидно учуяв родственное существо, внезапно взмыла к потолку.
Преподобный Ловой продолжал свою проповедь, рассказывая о распятом Христе, плачущей Марии и о камне, который откатывают прочь.
Я поднял глаза к потолку церкви.
Возле одного из вращавшихся вентиляторов я заметил маленькую дырочку размером не более четвертака. Из нее на моих глазах вылезли одна за другой три осы и спустились на прихожан. Через несколько секунд из дырки в потолке появились еще две осы и принялись описывать круги в спертом, удушливом воздухе.
За стенами церкви продолжал грохотать ливень. Стук дождя порой почти заглушал рулады преподобного Ловоя. О чем он говорил в те минуты, не знаю: я переводил взгляд с осы, примостившейся между моими пальцами, на дырку в потолке.
Все больше ос снижалось по спирали в душное закрытое пространство, в насыщенный дождевой влагой воздух церкви. Поначалу я пытался их считать. Восемь… девять… десять… одиннадцать… Некоторые из них садились на неспешно вращавшиеся лопасти вентилятора и кружились, словно на карусели. Четырнадцать… Пятнадцать… Шестнадцать… Семнадцать… Вот сквозь отверстие в потолке протиснулся сразу целый черный подергивающийся осиный шар размером с кулак. Двадцать… двадцать одна… двадцать две… Я бросил считать, добравшись до двадцати пяти.
Должно быть, подумал я, где-то на чердаке во влажной тьме шевелится осиное гнездо размером с футбольный мяч. Я завороженно наблюдал за осами, как, наверно, не могла отвести глаз Мария от ран незнакомца, встреченного ею на дороге. За это время из отверстия в потолке выпорхнуло еще не менее дюжины насекомых. По всей вероятности, никто, кроме меня, их не замечал. А что, если осы для всех остальных оставались такими же невидимыми, как Демон, когда она лазила пальцем в нос? Осы медленно кружились под потолком в потоках гонимого вентилятором воздуха. Их скопилось уже целое темное облако, словно бушевавшая за стенами церкви буря сумела каким-то образом найти лазейку внутрь.
Оса, сидевшая у меня между пальцами, задвигалась. Глядя на нее, я вздрогнул, когда очередная горошина ужалила меня сзади в шею там, где были острижены волосы. Добравшись до сустава моего указательного пальца, оса остановилась. Ее жало касалось моей кожи: я ощущал его крошечное зазубренное острие, словно крупицы разбитого стекла.
Преподобный Ловой находился теперь в своей стихии: он бурно жестикулировал, волосы начали сползать на лоб. Снаружи бушевала буря, дождь стучал по крыше, словно настал конец света и пришла пора рубить деревья, чтобы строить ковчег и созывать зверей, каждой твари по паре. Всех, но только не ос, подумал я; на этот раз мы исправим ошибку Ноя. Я продолжал наблюдать за осиным лазом в потолке, и зрелище это меня одновременно ужасало и притягивало. Я подумал, что Сатана нашел-таки способ проникнуть на пасхальное богослужение и теперь кружит над нашими головами, высматривая грешную плоть себе в добычу.
Потом произошло следующее.
Воздев руки, преподобный Ловой проговорил своим хорошо поставленным голосом проповедника: «И в то знаменательное утро, после ухода тьмы, ангелы спустились на землю и га… а… а… кх!..»
Устремив руки вверх навстречу ангелам, он внезапно увидел воочию, как они ползут, шевеля крохотными крылышками.
И тут мама накрыла ладонью мою руку с сидящей на ней осой и нежно ее сжала.
Оса укусила ее, и в тот же миг насекомые под потолком, видимо, решили, что проповедь преподобного Ловоя слишком затянулась.
Мама вскрикнула. Одновременно раздался крик священника. Он и послужил сигналом, которого так долго дожидались осы.
Иссиня-черное облако насекомых, насчитывавшее более сотни жал, обрушилось вниз, как сеть на головы попавших в западню животных.
Я услышал, как ужаленный дедушка Джейберд заорал: «Проклятье!» Бабушка Элис испустила высокую оперную трель. Несколько ос одновременно укусили мать Демона в шею, и та громко завыла. Папочка Демона замолотил в воздухе своими худыми руками. Сама Демон разразилась хохотом. Позади меня крякали от боли Брэнлины, забыв о своей плевательной трубке. По всей церкви раздавались вопли и крики; люди, нарядившиеся по случаю Пасхи в костюмы и нарядные платья, вскакивали с мест и принимались размахивать в воздухе руками, словно сражаясь с невидимыми бесами. Преподобный Ловой танцевал вокруг кафедры в пароксизме мучительной боли, тряся своими многократно укушенными кистями рук с такой силой, словно вознамерился напрочь оторвать их от запястий. Хор по-прежнему слаженно пел, но с их уст срывались не слова очередного гимна, а крики боли от укусов ос, впивавшихся в щеки, подбородки и носы певчих. Воздух заполонился темными вихрями, которые вращались вокруг лиц и голов людей, подобно терновым венцам.
– Прочь! Прочь отсюда! – зашелся кто-то в крике.
– Бежим! – завизжали у меня за спиной.
Единство сестер Гласс разбилось, как стекло: они мчались к боковым церковным выходам, их волосы кишели осами. Все мгновенно вскочили со своих мест. То, что всего десять секунд назад являлось мирным собранием прихожан, теперь напоминало охваченное ужасом стадо коров.
И во всем этом были виноваты осы.
– Моя чертова нога застряла! – в отчаянии стонал дедушка Остин.
– Джей! Помоги ему! – крикнула бабушка Сара, но дедушка Джейберд уже пробивался к выходу сквозь толпу между рядами скамеек.
Отец поднял меня на ноги. Я услышал злобное гудение над левым ухом, и в следующее мгновение оса ужалила меня в мочку, да так, что от боли у меня из глаз брызнули слезы.
– Ой! – услышал я свой собственный крик, мгновенно утонувший без следа в нестройном хоре пронзительных воплей.
Но две новые осы все же услышали меня. Одна куснула меня в правое плечо через пиджак и рубашку; вторая, как африканское копье, пронеслась к моему лицу и впилась в верхнюю губу, результатом чего стало уа-а-ау-а-а-а-в-ва-а-а, что выражало неимоверную боль, но не содержало ни единой толики смысла, и я тоже забил в воздухе руками. Кто-то рядом визжал, заходясь от радостного смеха: сквозь залившие глаза слезы я увидел Демона, прыгавшую, как заводная, на скамье. Ее рот растянулся в ухмылке, а лицо покрылось красными пятнами.
– Все выходите наружу! – что есть силы выкрикнул доктор Лезандер.
Сразу три осы прилипли к лысому черепу доктора, вибрируя и жаля его. Осы ползали по широким плечам его седовласой суровой супруги, ее пасхальная шляпка с синими цветками сбилась набок. Скрежеща зубами в приступе праведного гнева и стиснув в одной руке Библию, а в другой – свою сумочку, миссис Лезандер наносила могучие удары полчищам наседавших на нее насекомых.
Отталкивая друг друга, люди, забыв о своих плащах и зонтах, рвались к выходу в стремлении поскорее избавиться от этой муки и оказаться под струями ливня. Входя в церковь, пасхальная публика являла собой образцовую модель цивилизованного христианского общества, а теперь наружу вываливались толпы настоящих варваров. Женщины и дети падали в липкую грязь церковного двора, мужчины спотыкались об их тела и тоже валились лицом вниз прямо в лужи. Пасхальные шляпки разлетались во все стороны и катились, гонимые ветром, подобно мокрым колесам, пока их не расплющивала бушевавшая стихия.
Я помог отцу высвободить деревянную ногу деда Остина, застрявшую под церковной скамьей. Осы нещадно кусали руки моего отца, и каждый раз, когда очередное жало впивалось в него, его дыхание становилось свистящим. Мама, бабушка Элис и бабуля Сара пытались пробиться в проход между рядами скамей, где люди, падая, не могли выбраться друг из-под друга. Преподобный Ловой, пальцы которого распухли как сосиски, тщетно пытался защитить лица своих детей, пряча их между собой и рыдающей Эстер. Хор распался, некоторые из певчих, убегая, побросали свои пурпурные мантии прямо на пол. Мы с отцом вывели деда Остина в проход между скамьями. Осы налипли на его шею, щеки были мокрыми от слез. Отец отмахивался от ос, круживших вокруг нас, словно кровожадные команчи вокруг вереницы фургонов. Дети плакали, женщины истошно визжали, а осы продолжали нападать и жалить.
– Скорее наружу! Наружу! – выкрикивал в дверях доктор Лезандер, выталкивая людей под дождь, как только в проходе образовывался затор.
Его жена Вероника, хриплоголосая голландская медведица, хватала вырывающихся людей за шиворот и едва ли не вышвыривала их за порог.
Мы уже почти добрались до выхода. Дед Остин шатался, отец поддерживал его. Мама осторожно выбирала ос из волос бабули Сары, словно ее голова была зарослями крапивы. Две раскаленные булавки впились мне в шею, одна за другой с секундным интервалом, – боль была такая, что мне показалось: голова моя сейчас лопнет. Но тут меня схватил за руку отец, сильно дернул, и по моей голове застучали капли дождя.
Когда все члены нашей семьи наконец выбрались из церкви, отец ступил в лужу, не удержался на ногах и упал на колени прямо в грязь. Схватившись рукой за шею, я бегал кругами, крича от боли. Кончилось это тем, что я поскользнулся, ноги мои разъехались, и прямо в своем пасхальном костюме я тоже очутился в густой грязи.
Последним церковь покинул преподобный Ловой. Захлопнув за собой церковную дверь, он со стуком задвинул засов и какое-то время стоял, прислонившись к ней спиной, словно для того, чтобы не выпустить зло наружу.
Буря продолжала бушевать. Тяжелые капли дождя били по нам, как молотки, вколачивающие гвозди, так что мы вообще перестали что-либо ощущать. Некоторые сидели прямо в грязи, другие бродили вокруг в полной прострации, третьи просто стояли, позволяя холодным струям дождя омывать их, смягчая боль.
Мне тоже было больно: от этого я впал в такое исступление, что вообразил, как веселятся осы за закрытой дверью церкви. Ведь в конце концов, эта Пасха была и их праздником. Они также воспрянули из мертвых, вырвавшись из холодных объятий зимы, во время которой осиные гнезда высыхали и крохотные личинки-младенцы обращались в неподвижные мумии. Откатив свой камень, они возродились весной и прочитали нам свою жалящую проповедь о цепкости жизни, которая пребудет с нами гораздо дольше, чем мог бы предсказать преподобный Ловой. Благодаря им каждый из нас испытал на своей шкуре, что такое тернии и гвозди.
Кто-то нагнулся ко мне. Я почувствовал, как чья-то рука приложила комок холодной грязи к моей искусанной шее. Я поднял глаза и увидел залитое дождем лицо дедушки Джейберда. Его волосы стояли дыбом, словно деда только что ударило током.
– С тобой все в порядке, парень? – спросил он меня.
Дедушка Джейберд в самый тяжелый момент повернулся ко всем нам спиной и бежал, спасаясь от осиных укусов. Он стал иудой и трусом, и, предлагая мне целебную грязь, он не обрел искупления.
Я ничего не ответил, глядя как будто сквозь него.
– Все будет в порядке, – сказал он мне, потом выпрямился и отправился посмотреть, как там бабуля Сара, которая стояла рядом с мамой и бабушкой Элис.
Он показался мне наполовину утопленной тощей крысой.
Будь я ростом с моего отца, я, наверно, ударил бы его. Но тогда я был способен только испытывать стыд за дедушку Джейберда, жгучий непереносимый стыд. А кроме того, другая мысль изводила меня: а не перешла ли по наследству и мне частичка трусости дедушки Джейберда? В ту пору я не имел об этом ни малейшего представления, но в скором времени мне предстояло все это узнать.
Где-то на другой стороне Зефира зазвонил колокол другой церкви. Звук доносился до нас сквозь дождь, словно во сне. Я поднялся на ноги. Шея, нижняя губа и плечо пульсировали от боли. Надо заметить, боль учит вас смирению. Даже Брэнлины и те растеряли свое бахвальство и ревели, как младенцы. Я, например, никогда не встречал человека, который сохранил бы самоуверенность, будучи весь нашпигован жалами, а вы?
Пасхальный колокольный звон разносился над залитым водой городом.
Служба закончилась.
Аллилуйя.
Глава 5
Смерть велосипеда
А дождь все лил.
Серые облака висели над Зефиром, изливая на землю из своих раздувшихся утроб настоящий потоп. Я засыпал под барабанную дробь дождя по крыше и просыпался под грохот урагана. Бунтарь скулил и дрожал в своей конуре. Я представлял себе, что он чувствовал. Волдыри от осиных укусов сошли, на их местах остались только красные пятна, а дождь все лил и лил, и ни один проблеск солнца не озарял мой родной город. Дождь не прекращался, и в свободное от домашних заданий время мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть в своей комнате, перечитывая старые журналы «Знаменитые монстры» или просматривая комиксы.
Наш дом насквозь пропитался дождевым запахом – ароматом мокрого дерева и сырой грязи из подвала. Из-за ливня был отменен субботний дневной сеанс в «Лирике»: в кинотеатре протекла крыша. Даже сам воздух стал липким, как зеленая плесень, растущая на влажных валунах.
Через неделю после Пасхи отец, пообедав, отложил вилку и нож, посмотрел на запотевшие окна, по которым стекали капли дождя, и заметил:
– Если так пойдет и дальше, нам придется отращивать жабры.
А дождь все лил и лил. Воздух был пропитан водой, облака не пропускали свет к нашим мрачным хлябям. Наши дворы стали прудами, а улицы – полноводными реками. Из школы нас отпускали пораньше, чтобы все сумели засветло вернуться домой. А в среду днем, без семнадцати три, мой старый велик приказал долго жить.
Еще за секунду до этого я пытался пересечь поток, струящийся по Дирман-стрит. Вдруг переднее колесо моего скакуна угодило в трещину тротуара, от удара задребезжал изъеденный ржавчиной каркас. Несколько поломок случилось одновременно: руль, треснув, обвалился, спицы переднего колеса сломались, сиденье отвалилось, рама расползлась по застарелым швам, и я внезапно оказался лежащим на животе в воде, противно устремившейся внутрь моего желтого плаща. Какое-то время я неподвижно лежал, пытаясь сообразить, что же так неожиданно выбило меня из седла. Потом сел, вытер глаза, посмотрел на велосипед и сразу понял: моему старому другу пришел конец.
Велосипед, который, по меркам жизни мальчишки, уже был стар задолго до того, как попал ко мне с блошиного рынка, умер. Я ясно сознавал это, сидя под проливным дождем. То, что давало жизнь этому созданию человеческих рук, лопнуло по швам и воспарило в сочащиеся водой небеса. Рама треснула и погнулась, руль висел на единственном винте, седло повернулось на сторону, как голова на сломанной шее. Цепь слетела, с переднего колеса соскочила шина, во все стороны торчали спицы. При виде таких разрушений я готов был разрыдаться, но, несмотря на то что мое сердце сжимала невыносимая печаль, я знал, что слезами горю не поможешь. Просто мой велик откатал свое, полностью израсходовав свой ресурс. Я был не первым его владельцем, и, возможно, причина заключалась и в этом тоже. Может быть, велосипед, некогда заброшенный за ненадобностью, многие годы чах от тоски по тем рукам, что впервые держали его руль; год от года все больше старея, он видел свои особые велосипедные сны о дорогах, по которым катился в молодости. По сути, мой велик никогда по-настоящему мне не принадлежал: он носил меня на себе, но его педали и руль хранили память о прикосновениях другого хозяина. Возможно, в эту дождливую среду он убил себя, потому что знал: мне до смерти хочется заиметь другой велосипед, который был бы создан лишь для меня одного. Может быть, и так. Единственное, что я знал наверняка в тот момент: остаток пути до дома мне придется проделать на своих двоих и я не смогу унести на себе останки своего велосипеда.
Оттащив сломанный велик с дороги к кому-то во двор, я оставил его под дубом и зашагал домой с насквозь пропитанным влагой ранцем за спиной и в башмаках, хлюпавших из-за набравшейся в них воды.
Возвратившись домой с работы и узнав о печальной судьбе моего велосипеда, папа усадил меня рядом с собой в кабину нашего пикапа, и мы поехали на Дирман-стрит – забрать обломки велосипеда.
– Наверняка его еще можно починить, – говорил мне отец, глядя на дворники, елозившие взад-вперед по ветровому стеклу. – Мы найдем кого-нибудь, кто сварит раму и руль и все починит. Это точно выйдет дешевле, чем покупать новый велосипед.
– Ладно, – отвечал я, хотя твердо знал, что велосипед мертв и никакая сварка не способна вернуть его к жизни. – Переднее колесо тоже все вывернулось, – добавил я, но папино внимание было сосредоточено на скользкой дороге.
Наконец мы добрались до того дуба, под который я положил обломки своего велосипеда.
– Где же он? – спросил меня отец. – Ты здесь его оставил?
Хотите верьте, хотите нет, но остатки моего велосипеда исчезли. Папа остановил пикап, вылез под дождь и постучал в двери дома, во дворе которого рос дуб. Дверь отворилась, и на улицу выглянула светловолосая женщина. С минуту отец говорил с ней о чем-то, а потом я увидел, как женщина указала рукой куда-то в сторону улицы. Когда отец вернулся, с его кепки капала вода, плечи ссутулились под мокрой курткой молочника. Он уселся за руль, прикрыл дверцу и сказал:
– Эта женщина вышла за почтой, увидела твой велосипед, лежавший под деревом, и позвонила мистеру Скалли, чтобы он приехал и забрал его.
Мистер Эммет Скалли был местным старьевщиком. Он разъезжал по городу на грузовичке, выкрашенном ярко-зеленой краской, на дверце которого было написано красным: «Скалли. Принимаю старые вещи» – и номер телефона. Отец завел мотор и взглянул на меня. Мне был знаком этот взгляд, жесткий и сердитый, – будущее отразилось в нем в самых мрачных тонах.
– Почему ты не постучался в дом и не предупредил эту женщину, что вернешься за велосипедом? О чем ты думал?
– Ни о чем, сэр, – вынужден был признать я. – Я вообще ни о чем не думал.
Отец отъехал от тротуара, и мы снова отправились в путь. Но не домой, а на запад. Я знал, куда мы едем. Магазин подержанных вещей мистера Скалли находился на западной, поросшей лесом окраине города. По пути мне пришлось выслушивать нравоучения отца, сводившиеся примерно к следующему: «Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, мне приходилось ходить пешком, если я хотел куда-то добраться. В ту пору я и мечтать не мог о собственном велосипеде, даже о подержанном. Да к тому же мне и моим друзьям не составляло никакого труда пройти две-три мили. И поэтому здоровья в нас было побольше вашего. В солнце, в ветер, в дождь – в любую погоду мы всегда добирались туда, куда нам нужно, на своих двоих…» – и так далее и тому подобное. Вы понимаете, о чем я: отец пел хвалебную песнь своему детству, что свойственно всякому поколению.
Мы выехали за черту города, блестевшая от влаги дорога пошла через насквозь промокший зеленеющий лес. Дождь не прекращался; клочья тумана, задевая верхушки деревьев, проплывали над дорогой. Папа сильно сбавил ход, поскольку эта дорога считалась опасной даже в сухую погоду. Он все еще терзал меня рассказами о сомнительных радостях безвелосипедной жизни. Как я понимаю, таким способом он хотел дать мне понять, что если велосипед окажется непригодным к починке, то мне лучше привыкать к пешему образу существования. За холмами, скрытыми в дымке тумана, раздавались раскаты грома, дорога петляла под колесами нашего грузовичка, словно дикая лошадь, не желающая скакать под седлом.
Не знаю, что меня толкнуло, но именно в этот момент я повернул голову и посмотрел назад.
Какой-то автомобиль быстро настигал нас.
Волосы у меня на затылке встали дыбом, а по коже поползли мурашки. Черная приземистая машина позади нас напоминала грозную пантеру с блестящими хромированными зубами. Не снижая скорости, она стремительно описывала поворот, который только что с трудом преодолел отец при помощи сцепления, газа и тормозов. Мотор грузовичка надсадно гудел, а машина, приближающаяся к нам, шла бесшумно. Я увидел силуэт фигуры и бледное лицо человека, пригнувшегося к рулю. Я различил языки красного и оранжевого пламени, нарисованные на капоте и черных боках. Когда машина уже почти настигла нас и, не снижая скорости и не пытаясь свернуть, устремилась под наш задний бампер, я не выдержал и пронзительно закричал:
– Папа!
Отец подскочил и резко крутанул руль. Грузовичок стало заносить влево к середине дороги, отмеченной вылинявшей прерывистой линией. Отец отчаянно боролся, чтобы не скатиться в лес. Потом шины вновь обрели сцепление с асфальтом, грузовичок выправился, и отец сердито посмотрел на меня.
– Ты что, спятил? – бросил он мне. – Чуть было не отправил нас на тот свет!
Я оглянулся назад.
Черная машина бесследно исчезла.
Она не обогнала нас. И свернуть ей тоже было некуда. Она просто исчезла.
– Я видел… видел…
– Что ты видел? Где? – потребовал ответа отец.
– Мне показалось, что я увидел… машину, – наконец сумел пролепетать я. – Она чуть было не врезалась в нас… я так испугался…
Отец внимательно изучил зеркало заднего вида. Конечно, он в нем не увидел ничего, кроме того же дождя и пустой дороги. Протянув руку, он пощупал мой лоб:
– Ты хорошо себя чувствуешь?
– Со мной все в порядке, сэр.
И в самом деле – никакой простуды у меня не было. В этом-то я был уверен. Удовлетворившись тем, что меня не треплет лихорадка, отец отнял от моего лба руку и снова положил ее на руль.
– Тогда сиди спокойно и ничего не выдумывай, – приказал он мне.
Я повиновался.
Все внимание отца снова сосредоточилось на коварной дороге, но желваки у него на скулах то и дело напрягались, и я понял: в эти минуты он решает, что со мной делать дальше – то ли отвезти к доктору Пэрришу, то ли хорошенько выдрать.
Больше я о черной машине не заикался, потому что знал точно: отец ни за что мне не поверит. Но я уже видел эту машину раньше на улицах Зефира: она оповещала о себе грохотом и ревом двигателя, а когда летела мимо, от нее исходил жар, и асфальт дрожал под ее колесами. «Это самая быстрая машина во всем городе», – сказал мне Дэви Рэй, когда в знойный августовский день мы болтались с ним на Мерчантс-стрит возле киоска с мороженым, наслаждаясь прохладой, исходившей от кусков льда. «Отец говорит, – продолжал откровенничать Дэви Рэй, – что в нашем городе никто не сможет обогнать Полуночную Мону».
Полуночная Мона. Именно так звали эту машину. Парня, которому она принадлежала, звали Стиви Коули. Его прозвище было Малыш Стиви, поскольку его рост не превышал пяти футов, хотя ему уже исполнилось двадцать лет. Он курил «Честерфилд», сигарету за сигаретой, – может быть, это и задержало его рост.
Но подлинная причина, по которой я ничего не сказал отцу о Полуночной Моне, преследовавшей нас на мокрой дороге, заключалась в событиях прошлого октября. О них знал весь город. Отец состоял тогда в добровольной пожарной дружине, и однажды вечером в нашем доме зазвонил телефон. Папа сказал маме, что это был Марчетт, шеф пожарной дружины. Он сообщил, что какой-то автомобиль попал в аварию на Шестнадцатой трассе и теперь горит в лесу. Отец торопливо оделся и ушел тушить пожар. Когда он через два часа вернулся, в его волосах было полно пепла, а от одежды пахло горящей древесиной. В ту ночь отец увидел что-то такое, из-за чего не захотел больше быть пожарным.
Именно по Шестнадцатой трассе мы сейчас и ехали. Тот автомобиль, что разбился и сгорел здесь в октябре прошлого года, и был Полуночной Моной, а за рулем его сидел Малыш Стиви Коули.
Сейчас тело Малыша Коули – вернее, то, что от него осталось, – лежало в гробу на кладбище Поултер-Хилл. Полуночная Мона тоже исчезла – очевидно, туда, куда исчезают все сгоревшие автомобили.
Но сегодня я своими глазами видел эту машину, мчавшуюся сквозь туман позади нашего пикапа. И я видел, что кто-то сидел за рулем.
Я решил, что буду держать рот на замке. У меня и так хватало неприятностей.
Отец свернул с Шестнадцатой трассы на грязный проселок, уходящий вглубь леса. Скоро мы добрались до места, где на деревьях виднелись прибитые гвоздями старые проржавевшие металлические таблички самого разного вида – их было не меньше сотни, – от рекламы содовой с апельсиновым соком «Грин спот» и порошка от головной боли «Би-Си» до радио «Гранд ол опри». За опушкой с табличками дорога свернула к серому бревенчатому дому с покосившимся крыльцом и двориком перед ним, хотя его трудно было назвать двором, скорее – зарослями сорняков. Здесь находилась самая разнообразная рухлядь: изъеденные ржавчиной машины для отжимания белья и кухонные плиты, светильники и кровати, вентиляторы, холодильники и другая бытовая утварь, наваленная неряшливыми кучами. Тут были и мотки проволоки высотой не ниже моего отца, и огромные корзины, полные пустых бутылок, а посреди всего этого барахла высился металлический знак с изображением улыбающегося полицейского, поперек груди которого была выведена надпись красными буквами: «Стой! Не воруй». В голове копа красовались три дырки от пуль.
Не думаю, что у мистера Скалли возникали проблемы с ворами: не успел отец заглушить мотор пикапа и открыть дверцу, как две рыжие охотничьи собаки, лежавшие на крыльце, вскочили и принялись нас облаивать. Через несколько мгновений дверь распахнулась и на крыльцо выскочила невысокая, хрупкая на вид женщина с тугой светлой косой и ружьем в руках.
– Кто вы такие? – заорала она грубо, как дровосек. – Что вам тут надо?
Мой отец поднял руки:
– Я Том Маккенсон, миссис Скалли. Из Зефира.
– Какой такой Том?
– Маккенсон, мэм!
Чтобы перекрыть собачий лай, отцу приходилось кричать:
– Я приехал из Зефира!
– А ну тихо! – прикрикнула на собак миссис Скалли.
Она сорвала мухобойку с крючка на крыльце и несколько раз вытянула ею псин, что существенно охладило их пыл.
Я выбрался из кабины пикапа и встал рядом с отцом. Наши ботинки увязли в топкой грязи.
– Мне надо повидаться с вашим мужем, миссис Скалли, – сказал отец. – Дело в том, что он по ошибке забрал и увез велосипед моего сына.
– Вот как? – удивилась миссис Скалли. – Обычно Эммет не ошибается.
– Так ваш муж дома?
– Он там, на заднем дворе, в одном из сараев, – ответила жена старьевщика, указывая направление дулом ружья.
– Благодарю вас, мэм.
Мы пошли в нужную сторону, но не успели сделать и десятка шагов, как миссис Скалли крикнула нам вслед:
– Эй, вы! Если споткнетесь и переломаете ноги, мы за вас не отвечаем, понятно?
Если перед домом четы Скалли творился, мягко говоря, беспорядок, то задний двор мог привидеться только в кошмарном сне. Сараи оказались ангарами из рифленого железа размером со склады для хранения табака-сырца. Чтобы добраться до сараев, пришлось идти по изрытой колеями тропинке, петлявшей между горами бесполезной рухляди: проигрывателей, разбитых статуй, садовых шлангов, стульев, газонокосилок, дверей, каминных досок, горшков и кастрюль, старых кирпичей, кровельной дранки, утюгов, радиаторов и умывальных раковин.
– Господи помилуй, – прошептал отец, больше обращаясь к самому себе, когда мы пробрались по узкому проходу между высившимися горами хлама.
Все это хозяйство щедро поливал дождь, с вершин металлических эверестов шумными потоками стекала вода. Когда же перед нами предстала огромнейшая куча перекрученного и перепутанного нечто, я понял, что назвать эту свалку удивительной – значит не сказать ничего. Она была просто волшебной. Я застыл как вкопанный.
Впереди высилась гора из сотен велосипедных рам, сросшихся между собой ржавыми гроздьями, без единой шины, со сломанными каркасами.
Говорят, где-то в Африке есть тайное место, куда уходят умирать слоны. Морщинистые серые великаны ложатся там на землю, освобождаясь от бренной телесной ноши, и их души легко воспаряют к небесам. В тот момент я искренне верил, что мне посчастливилось наткнуться на скрытое от посторонних глаз кладбище велосипедов. Их мертвые остовы год за годом постепенно рассыпаются здесь под воздействием дождя и палящего солнца, после того как их непоседливые велосипедные души покинули свои рамы. В некоторых местах этой огромной кучи велосипеды почти исчезли с лица земли, приняв со временем вид палой медно-красной листвы, которую вскоре сожгут на костре в один из осенних дней. Кое-где из этого кургана торчали разбитые фары, незрячие и вызывающие, как глаза мертвых. На гнутых рулях еще виднелись резиновые рукоятки, с которых кое-где свешивались полосы цветного винила, похожие на поблекшие языки пламени. Стоило только напрячь воображение, и все эти велосипеды представали новенькими, сверкающими от краски и нетерпеливо трепещущими от желания поскорее отправиться в путь, с неизношенными шинами, педалями и ладно пригнанными цепями, пропитанными свежей смазкой. Странно: это видение навевало на меня грусть. Скорее всего, я видел наглядное подтверждение того, что всему когда-нибудь приходит конец, как бы ревностно мы ни берегли то, что нам дорого, и сколько бы за это ни цеплялись.
– Здорово! – пророкотал кто-то рядом. – Я слышал, какой вы там устроили переполох.
Оглянувшись, мы с отцом увидели мужчину, толкавшего по грязи большую тачку. Мужчина был облачен в комбинезон, ботинки его были заляпаны грязью, обширный живот выпирал, лицо покрывали пятна, определенно свидетельствовавшие о неполадках с печенью, а голову украшал единственный клок седых волос. Лицо мистера Скалли было изрезано морщинами, нос с сеточкой лопнувших красных сосудов на кончике напоминал картошку, его серые глаза смотрели сквозь круглые стекла очков. Глядя на нас, он улыбался во весь рот, скаля темно-коричневые зубы. Поросший сединой подбородок мистера Скалли украшала бородавка с тремя торчавшими волосками.
– Чем могу вам помочь?
– Я Том Маккенсон, – представился отец, протянув руку для пожатия. – Сын Джея.
– Вот черт! Прошу прощения, не признал сразу.
Мистер Скалли носил грязные парусиновые рукавицы, и он неспешно стянул одну из них, перед тем как потрясти руку отцу:
– А это, выходит, внук Джея?
– Точно. Его зовут Кори.
– Сдается мне, я вроде пару раз видел тебя в городе, – сказал мне мистер Скалли. – Я помню, когда твоему отцу было столько же лет, сколько тебе сейчас. Мы с твоим дедом тогда были неразлейвода.
– Мистер Скалли, мне сказали, что сегодня днем вы забрали велосипед у дома на Дирман-стрит, – сказал старьевщику отец.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?