Текст книги "Сон Бодлера"
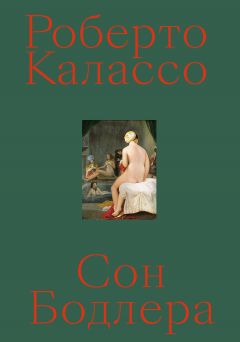
Автор книги: Роберто Калассо
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Почему же доступ в глубины столь ценен для мышления? Бодлер раскрывает это мимоходом: «Глубина пространства – аллегория глубины времени»44. Блестящий пример использования аналогии. Лишь когда пространство являет свою многоплановость, когда отдельные контуры вырисовываются с упоительной, почти болезненной четкостью, только тогда мысль способна прикоснуться, хотя бы на миг, к главной и единственной цели – к Его Величеству Времени, неуловимому и всевидящему. Аллегорию следует рассматривать как прием, необходимый для прохождения этого трудного участка. Тогда станет ясно, что имел в виду Бодлер под выражением «в глубь годов»45. Одновременно очевидное и загадочное, оно украшало его максимы. С ним предполагалось существование – возможно, тоже аллегорическое – персонажа, который, став свидетелем «чудовищного разрастания времени и пространства», способен созерцать этот процесс «без скорби и без страха»46. О нем поэтому можно сказать: «С каким-то меланхолическим восторгом всматривается он в глубь годов»47.
В дни, когда главной заботой было выручить заложенные предметы одежды, уже перепроданные другому владельцу (все, кроме предмета «самой исключительной важности – пары брюк»48), Бодлер получил от Фернана Денуайе предложение прислать ему «стихи о Природе»49 для небольшого стихотворного томика, который он в то время готовил к изданию. Бодлер не стал отнекиваться и принял участие в книге, ставшей данью памяти Клоду-Франсуа Денекуру, dit le Sylvain[15]15
По прозвищу Сильвен (франц.).
[Закрыть], преданному исследователю и духу-оберегу леса Фонтенбло; вклад выразился в двух стихотворениях и двух стихотворениях в прозе. К ним Бодлер приложил сопроводительное письмо – пример беспощадного persiflage[16]16
Зубоскальства (франц.).
[Закрыть], мишенью которого стал не столько несчастный Денуайе, представитель boheme chantante[17]17
Поющей богемы франц.).
[Закрыть], сколько великое множество будущих миров. «О чем же надо было писать? – спрашивает в своем письме Бодлер. – О лесах, о могучих дубах, о зелени, о букашках и – само собой – о солнце?»50 Тон изначально дерзок. Затем он переходит к декларации принципа: «Вы же прекрасно знаете, что меня не волнует растительная жизнь и что вся душа моя восстает против этой новой странной религии, в которой всякое духовное существо всегда будет ощущать нечто shocking». Провидческий дар становится манифестом, скрытым за издевкой. Тут уже вырисовывается натуризм – особая форма интеллектуальной ущербности, берущей начало от Руссо и Сенанкура и затем постепенно выросшей в мощное экономическое предприятие. Бодлер сознательно бичует не безобидную моду парижской богемы, а «новую странную религию». Он предвосхищает презренный культ vacances[18]18
Здесь: курортов (франц.).
[Закрыть], благоговейный тон, в котором это слово будет произноситься сто пятьдесят лет спустя, и «святость овощных диет»51. Он не намерен поощрять этот культ. И дело, разумеется, не в природе. Если и жил на свете поэт, сумевший отразить природу в те редкие мгновения, когда ему доводилось лицезреть ее (начиная с незабываемого описания пиренейского озера в одном из юношеских стихотворений), так это был Бодлер. Но мысль о том, что Природа, нацепившая заглавную букву и сопровождаемая свитой благородных чувств, вновь заслонит собой все, подобно идеалу Добра, была ему чужда, ибо он часто оказывался в противофазе даже по отношению к обыденным атмосферным явлениям. Чужда настолько, что он не усомнился написать: «Я всегда считал, что в Природе, юной и цветущей, есть нечто бесстыдное и удручающее»52.
В подобном нетерпимом отношении Бодлера к природе заложено и нечто иное – то, чем является золотая нить поэзии, что объявила себя «современной». Смотанная в один тугой клубок с дешевыми, низкопробными материями, эта нить иногда вдруг выскользнет из него и засияет несравненно. О том же идет речь и в другом письме, написанном восемьдесят два года спустя после бодлеровского другим поэтом – Готфридом Бенном своему другу Ольце. Тот же аппарат созвучий и противоречий, та же надменная нетерпимость и дерзость: «Дорогой Ольце, мне вновь открылся чудовищный обман природы. Снег, даже если он не тает, – это не повод для большого числа лингвистических и психологических разглагольствований: с его несомненной монотонностью можно превосходно разделаться в процессе домашних размышлений. Природа пуста, пустынна; лишь обыватели что-то в ней подмечают, лишь несчастные болваны, которым приспичило тратить время на непрерывные прогулки… Беги от природы, разрушь эти помыслы, испорти стиль! Природа женского рода, ясное дело! Только ей и заботы, что втянуть мужской род в сожительство и вытянуть из него все семена и соки. Разве это естественно?»53
«Природа», о которой толкует Бодлер в своих «Письмах»54, соткана из аналогий, словно огромная паутина; это природа священная и тайная; многие о ее присутствии даже не догадываются. А Природа (также с большой буквы, но курсивом), которую Бодлер саркастически отвергает в письме Денуайе, лишь новомодное увлечение; в нем сконцентрированы «поступки и желания человека, не тронутого цивилизацией»55, и от него можно лишь «отпрянуть в ужасе»56, пусть даже время и пытается выдать его за идиллию. Противоречие между почитанием первой ипостаси Природы и ненавистью ко второй могло стать причиной душевных терзаний только для Беньямина, все еще отягощенного наследием Просвещения, которое заставляло его видеть в священной и тайной природе – природе мифа – не что иное, как Verblendungszusammenhang, «сцепление ослепления»57, как назвал бы это Адорно, спазматически приверженный словосложению немецкого языка. Честь открытия этого противоречия в Бодлере принадлежит не Беньямину. Сам Бодлер приглашал Беньямина исследовать территорию, представлявшуюся ему источником мистического ужаса. Словно ребенок, поющий в темноте, Беньямин написал тогда, что именно в эту зону необходимо «проникнуть с остро заточенным топором разума и не смотреть по сторонам, чтобы не пасть жертвой кошмара, который влечет и манит в чащу леса»58. Эта экспедиция так и осталась незавершенной – да и заточенный топор едва ли сгодился бы в борьбе с тем, что Беньямин называл «дебрями бреда и мифа»59.
То, что между Природой, разлитой в «чаще символов»60, и Природой, составляющей испорченное нутро человека, нет противоречия и что последняя является составной частью первой, со всей очевидностью следует из заключительной части письма к Туссенелю, где Бодлер рассуждает о том, что «ненавистные, омерзительные твари» животного мира, возможно, суть не что иное, как «ожившее воплощение, пробуждение к материальной жизни злостных мыслей человека»61. И тут круг замыкается, включая в себя Сведенборга и Жозефа де Местра: «Таким образом, природа целиком и полностью сопричастна первородному греху»62. Если природа была сотворена, уже отягощенная виной, значит, человек не заслужил чести принести вину в мир, он может лишь усугубить эту вину, придать ей форму – но в этом и состоит задача литературы. Следовательно, скрытая метафизика Бодлера вступает в связь с ведической теорией жертвенности, о чем он сам, конечно, не имел представления (в его время доступных ведических текстов было крайне мало), однако и в этом плане Бодлер тоже оказался самым архаичным из современных поэтов.
Стихи Бодлера прерывисто выплескиваясь из скрипучего, ржавого агрегата, в котором нередко случались заторы. Одним из его особых качеств была известная нехватка «раскованности» в стихосложении (вспомним фразу, обращенную к Пуле-Маласси: «Или Вы думаете, что я пишу так же легко, как Банвиль?»63). Нетрудно поверить ему, когда он пишет: «Я бьюсь над тридцатью стихами, неприятными, плохо слепленными, плохо зарифмованными»64. У друга Банвиля, напротив, слова текли как по заказу. Этот автомат исправно выдавал поэзию в нужном количестве – но сейчас она едва ли тронет сердце читателя и не оставит в нем заметного следа. В отличие от нее, западающие в память стихи Бодлера, как джинны, бегут из лаборатории, оставляя после себя оголенные провода, пузырьки с красителями и незастланную койку в углу.
Бодлер написал множество стихов, не сподобившихся вечности; их легко перепутать с другими образчиками массовой стихотворной продукции той эпохи. Но именно этот размытый безымянный фон высвечивает иные стихи, которые гордо проходят сквозь толпу, подобно воспетой им прохожей, в чьих зрачках – «и женственность, и нежность, и наслаждение, которое убьет»[19]19
Перевод В. Левика.
[Закрыть]. Эти стихи – или фрагменты – устанавливают осмотическую связь с читателем; они всплывают с неодолимой силой там, где были рождены, и все еще блуждают, как гении места, среди «улиц и гостиниц, в серой патине бессонниц, которым дали приют» (так писал о Париже Чоран65). Недаром юный Баррес заметил: «Ни с чем не сравнимая горькая и одновременно сладкая утеха – повторять про себя стих Бодлера парижским утром, в сумраке, прорезаемом изредка проплывающими фиакрами и бледнеющим светом фонарей, вдоль безлюдных бульваров, когда изможденные и нервные воспоминания о бесплодных часах, о двусмысленной близости, о мелочной и суетной борьбе привычно осаждают вас, будя в душе не угасшее пламя и яд раздражения»66.
Первая страница «Дневника» Ренара: «Тяжелая, будто заряженная электричеством фраза Бодлера»67. Едва ли можно рассчитывать на более лестное определение от мастера сухой, отточенной, легкой прозы, к тому же красующееся на пороге его лаборатории (призванной стать главным произведением) как дань уважения к тому, кто выбрал иной путь. Именно этого «электричества» так не хватало современникам Бодлера. В поколении французских романтиков, в эпоху восторгов и разочарований, обычно много безвкусного, бесформенного, несостоятельного. Бодлер, по крайней мере, не обходится без магнитных бурь.
О тяжести стихов Бодлера почти сто лет спустя размышляет Жюльен Грак: «Стихи Бодлера тяжеловесны, как ничьи; в них есть та тяжесть зрелого плода, который вот-вот сорвется с гнущейся под его весом ветки… Эти стихи придавлены грузом всплывающих в памяти тревог, боли, страстей»68. Ренар и Грак говорят о разных видах тяжести. Одна – атмосферная, другая – вегетативная. Обе свойственны Бодлеру. О чем бы он ни говорил, сказанное им весомо. Его слово держится на сгустках лимфы, квантах энергии, на неведомом натяжении, но в конце концов срывается.
В том же «Дневнике» Ренара попадается следующая запись от 12 января 1892 года:
«Не выношу, – говорит Швоб, – людей, которые называют меня „дорогим собратом“ и во что бы то ни стало хотят причислить к тому же классу, к которому принадлежат сами. – И добавляет: – Как-то, зайдя в пивную, Бодлер сказал: „Тут пахнет разрушением“. – „Да нет, – возразили ему, – здесь пахнет щами и женским потом“. Но Бодлер яростно твердил: „А я вам говорю, здесь пахнет разрушением!“»69.
Что именно имел в виду Бодлер под словом «разрушение», сказано в сонете, носящем это название. Это демон, витающий в воздухе, которым мы дышим.
Подобно вирусу, «неосязаемый, как воздух, недоступный, / Он плавает вокруг, он входит в грудь огнем»[20]20
Перевод В. Левика.
[Закрыть]. Нечто похожее случается, когда приходит смерть – Бодлер уже упоминал об этом в первых стихотворениях «Цветов зла»: «Вдохнет ли воздух грудь – уж Смерть клокочет в ней, / Вливаясь в легкие струей незримо-шумной»[21]21
Предисловие. Перевод Эллиса.
[Закрыть]. Зло существует физически; мы смогли бы даже увидеть и распознать его, обладай наши глаза способностью различать столь малые объекты. Таково еще одно объяснение силы и стремительности вибраций, исходящих из терзаний Бодлера. Тело ощущает их быстрее, чем разум. Свидетельства о Бодлере в основном звучат в унисон реакции его спутников в пивной. Главная их забота – причислить его «к тому же классу, к которому принадлежат сами»70.
Можно сказать, что лишь в Прусте Бодлер обрел достойное преломление собственных откровений, лишь в нем было воспринято и связано воедино намеченное в «человеческой пустыне»71. Не столько по форме – хоть и не счесть моментов, когда мы слышим, как Пруст продолжает ритм и звучность стиха Бодлера, – сколько по силе. Сочинительство, это «заклинание духов»72, позволяло его словам оставлять в материи памяти такие четкие, резкие отпечатки, какие не были доступны даже Рембо и Малларме. Поэтому Пруст считал Бодлера способным «вмиг изрыгнуть самое сильное слово, когда-либо слетавшее с человеческих губ»73. Эта несколько высокопарная фраза взята в кавычки, словно Пруст отчаялся дать объяснение и потому решил попросту повторить то, что считал особым свойством Бодлера: «подчиненность чувства истине», являющуюся, «по сути, признаком гения, силы, превосходства искусства над человеческой скорбью»74. Мощная сила двигает вперед «великие стихи»75, запуская их в гонку, словно колесницы, несущиеся в «гигантской колее»76. Молниеносность и необъятность слились в этом образе. Пруст настаивает на данном свойстве Бодлера, ибо то же самое когда-нибудь скажут и о «Поисках» – огромном своде слов, который держится благодаря одному-единственному импульсу, подобно астральной катастрофе, излучающей волны света.
Демаркационная линия между Бодлером и Прустом пролегает в области композиции. Сам Пруст заметил, что Бодлер действует «уверенно в деталях и сбивчиво в общем плане»77. За некоторыми гениальными исключениями («Лебедь», «Плавание»), у Бодлера не найти стихотворения, в котором была бы выдержана четкая композиция. Порой различим глухой рокот, расходящийся по одному или нескольким стихотворениям, чтобы затем отступить, сбавить обороты, уподобиться другим образцам поэтического языка тех времен. Общий рисунок, однако, отсутствует или не имеет большого значения. Не стоит искать его у Бодлера. Проза Пруста, напротив, отличается демонически замысленной композицией, полной возвращений, повторений, отражений. В любовно выписанном хитросплетении деталей рассказчик всегда умеет показать жесткие нервюры композиции. Все можно рассматривать под микроскопом либо, наоборот, с большого расстояния. Оба способа вызывают парализующее головокружение. Но неспешный бег повествования тут же возобновляется и течет дальше волнообразными извивами, словно бесконечный ночной разговор по душам.
По мнению Бодлера, «почти вся наша самобытность определяется той печатью, которую накладывает на наши ощущения время»78. В его случае «печать» превратилась в рисунок, запутанный, наподобие маорийской татуировки, и глубокий, как тавро техасского быка. Не ощущая этой печати, он не мог написать ни строчки. Возможно, это стало одной из причин, почему Бодлер, питая презрение к большинству проявлений нового, выбрал именно его в качестве последнего слова «Цветов зла».
«Писатель нерва»79 – так Бодлер назвал Эдгара По. Это определение он мог бы присвоить и себе. Уверенный в своем узнаваемом характере, Бодлер прикрывался маской «нервного художника»80. Физиологические параллели развивались вплоть до слова, к тому времени еще не допущенного в лексикон поэтов, – «мозг». Уже не «Идеал», «Мечта», «Разум» (с прописной или строчной буквы), а именно «мозг», казалось, был центром непреодолимого притяжения эпитета «таинственный». Мозжечок также мог стать предметом разговора. «В тесной, окутанной тайной лаборатории мозга…»81 «Таинственные приключения мозга…»82 «При зарождении всякой высокой мысли происходит нервная встряска, отдающаяся в мозжечке»[22]22
Перевод Е. В. Баевской.
[Закрыть]. Отныне мозговая масса заселена. В ней не только, по обыкновению, «кишит рой демонов безумный»[23]23
Перевод Эллиса.
[Закрыть], но и обитают существа, перебравшиеся из поэзии Лотреамона: «И словно сотни змей в мой мозг вонзают жало, / И высыхает мозг, их ядом поражен»[24]24
Перевод И. Чежегловой.
[Закрыть]. Почти одновременно с ним Эмили Дикинсон писала: «Звук похорон в моем мозгу…»83 Не метафизика стала физиологией, а физиология заключила пакт с метафизикой. Поэзия будет его соблюдать.
«Гений есть не что иное, как четко сформулированное детство»84. На молниеносные озарения Бодлера (преуспевшего главным образом именно в «искусстве дефиниций») можно наткнуться где попало и в наименее очевидных местах; иногда они оказываются почти неразделимо перепутаны с чужими текстами (как в данном случае с высказыванием де Квинси) или подделываются под расхожие фразы, рожденные духом протеста. Как правило, это не отдельные предложения, готовые стать афоризмами, а свисающие с фраз лоскуты, которые следует отделить, чтобы они засияли в полную силу. Таков его способ хранить секреты, не пряча их за экзотерическими барьерами, а, напротив, бросая туда, где все перемешано, где они легко могут затеряться, словно лицо в толпе большого города, вновь обретая таким образом тихую и незаметную жизнь. Клеткой, от которой исходят вибрации, оказывается не стих и даже не фраза, а свободное определение, помещенное в оправу хроники, сонета, лирического отступления или краткой заметки.
«Движения, торжественные или гротескные позы своих фигур и одновременно – образуемый ими световой взрыв в пространстве»85;
«Праздник байрама: разлитое на всем сверкающее великолепие, а на его фоне – подобный бледному солнцу скучающий лик ныне уже покойного султана»86;
«Беспредельность, то голубая, то, чаще, зеленая, простирается до горизонта; это – море»87;
«Таинственное расположение элементов мироздания, предстающих людскому взору»88;
«Зеленые сумерки летних сырых вечеров»[25]25
Перевод Е. В. Баевской.
[Закрыть].
Существующая в этих фрагментах кристаллическая решетка восприятия не имела прецедентов в литературе. Ее не было ни у Шатобриана, ни у Стендаля, ни у Гейне – назовем лишь нескольких писателей, родственных Бодлеру, но при этом совершенно различных меж собой. Сочетания ощущений, синтагм, фантазий, отдельных слов, мыслей отступали здесь от магистральных путей, при этом практически не нарушая формы. Даже Гюго, располагавший внушительным количеством регистров, выпускавший из себя стихи, как кит выпускает воду, не был на такое способен. Лишь в незначительной мере результат был следствием изначального замысла или воли автора. Скорее, причина скрывалась в разрушительной распахнутости Бодлера навстречу каждой минуте жизни. Уникальность явления состояла, впрочем, не в самом факте этой чувствительности, а в ее сопротивлении времени. Свидетельства того, что суть ее дошла до наших дней, ничуть не утратив убедительной силы, доступны во множестве на страницах критической прозы. Тогда как в стихах часть пространства отдана тем обязательным темам, которые время подкладывает в колыбель любого поэта.
Бодлер и Флобер родились в один год – 1821-й. Оба одновременно, еще в детстве, стали писателями. Флоберу девять, когда он отправляет письмо своему другу Эрнесту Шевалье: «Если хочешь, объединимся, чтобы вместе писать, я буду писать комедии, а ты – записывать свои мечты. А еще тут есть одна дама, которая приходит к папе и всегда рассказывает нам какие-нибудь глупости. Я их буду записывать»89. Несколько месяцев спустя Бодлер рассказывает сводному брату Альфонсу о путешествии в Лион с матерью. Он говорит тоном взрослого, повидавшего мир и, возможно, уже немного им утомленного, шутливо и любовно оберегающего мать человека: «Первая мамина неосмотрительность: пока наш багаж загружают в империал, она обнаруживает, что у нее нет муфты, и театрально вскрикивает: „Муфта, моя муфта!“ Я же в полном спокойствии отвечаю ей: „Я знаю, где она, и сейчас ее принесу“. Она оставила ее на скамье в конторе»90. Это первые аккорды истории отношений сына Шарля и матери Каролины. Далее следует вступление Бодлера в литературу по благородному пути enumeración caótica[26]26
Хаотического перечисления (исп.).
[Закрыть]: «Сели в дилижанс наконец, отправляемся. Я был поначалу в прескверном настроении из-за всех этих муфт, грелок, покрывал для ног, мужских и женских шляп, пальто, подушек, одеял в немалом количестве, беретов любого покроя, туфель, тапочек с набивкой, сапог, корзин, варенья, фасоли, хлеба, салфеток, огромных кур, столовых ложек, вилок, ножей, ножниц, ниток, иголок, шпилек, расчесок, платьев, бесчисленных юбок, шерстяных чулок, чулок из хлопка, корсетов один на другом, бисквитов, остальное мне не удается вспомнить»91.
Флобер позволяет юному Шевалье записывать свои мечты, оставляя за собой право на bêtises[27]27
Глупости (франц.).
[Закрыть], которые можно почерпнуть из рассказов подруги своих родителей. Бодлер отдает предпочтение несоразмерности всего сущего. Но тут же, впрочем, выбрасывает ее из головы: «В скором времени я вернулся в обычное веселое расположение духа»92. И переходит к описанию вечера, с «красивым зрелищем»93 заката: «Красноватый цвет его удивительно контрастировал с горами, синими, как самые темные брюки»94. Только писатель – только тот писатель, которым Бодлеру суждено было стать, – мог поставить в один ряд закат и цвет брюк. Следующая фраза принадлежит уже Бодлеру образца «Цветов зла», финальной темой которых как раз и станет путешествие: «Напялив шелковый берет, я откинулся на спинку кареты, и мне показалось, что путешествие всегда будет значить для меня ту жизнь, которая мне очень по душе; я бы написал тебе об этом больше, но проклятая тема заставляет меня поставить на этом точку»95. В дальнейшем проклятых тем только прибавится.
«Мама, я пишу тебе не для того, чтобы просить прощения, так как знаю, что ты бы мне не поверила; я пишу, чтобы сказать тебе, что больше не позволю отнять у меня разрешение выходить из дома; отныне я стану работать, что избавит меня от наказаний, которые лишь отложили бы мой выход»96. Это первые строчки письма, написанного тринадцатилетним Бодлером своей матери Каролине. Они же вполне могли бы стать завершением последнего письма, написанного на тридцать с лишним лет позже. Темы вины, заточения, работы, обещаний присутствуют изначально; к ним добавляются вера и выход. Выход (из коллежа) равнозначен освобождению много лет спустя от долгов или от назначенного судом опекуна. А долги – это и вина, и наказание.
Когда Бодлер начнет самостоятельную жизнь в Париже и карающей инстанцией будет уже не школа, а опекун в лице нотариуса Анселя, к отношениям с Каролиной добавится последняя черта – скрытность. Словно любовник, не знающий ни счастья, ни покоя, Бодлер отправлялся на другой берег Сены, на Вандомскую площадь, в квартиру генерала Опика, стараясь остаться незамеченным. Это был «большой дом, холодный и пустой, где мне не знаком никто, кроме матери, – писал он. И добавлял: – Я в одиночестве осторожно вхожу туда и так же выхожу украдкой»97. Не только в отношениях с матерью, но и в любых других обстоятельствах подобная скрытность станет одним из правил его жизни, как будто любую милость он принужден вырвать у вездесущей враждебной силы.
Презрение к мещанству буржуазии он почерпнул из «Жеманниц» Мольера (Мадлон: «Фи, отец! Что вы говорите? Это такое мещанство!»[28]28
Комедия Мольера «Смешные жеманницы». Перевод Н. Яковлевой.
[Закрыть]), но лишь в годы правления Луи-Филиппа Буржуа становится универсальной категорией, вызывающей повсеместное неприятие. В наибольшей степени оно ощутимо во Франции, а точнее – в Париже, столице века. Буржуазия с самого начала неразрывно связана с bêtise (или sottise, как еще говорил Бодлер, и слово это, «безумье», становится первым существительным в начальной строфе «Цветов зла»), с движущей силой ее истории и ее прогресса. В обличье Буржуа вызывает опасения не новый социальный класс, а индивид, способный положить конец всем категориям прошлого, ассимилировав их в составе нового человечества, черты которого не поддаются определению – настолько они изменчивы. Этот взгляд не утратил верности и полтора века спустя, так как господствующие общества по-прежнему держатся на вездесущем среднем классе, округленном в большую или меньшую сторону.
А что тем временем сталось с bêtise? Начиная с пребывания в Бельгии (искаженном отражении Парижа) и дружбы Бодлера с Барбе д’Оревильи, с объемистых материалов, собранных Флобером для «Бувара и Пекюше», и вплоть до «Толкования общих мест» Блуа, разрастается ее эпос – единственный, где, казалось бы, главенствует современность. Но даже он, как и многое другое, разбился вдребезги 1 августа 1914 года. Дальнейшее, обильно смазанное bêtise до мельчайших шестеренок, уже не разъедают те же самые стилистические кислоты. Краус не сможет высмеивать Гитлера так, как Бодлер обходился с бельгийскими вольнодумцами. Но в любом случае bêtise, донимавшая Бодлера и Флобера, останется невидимой, подразумеваемой, мощной платформой, без которой было бы тяжело ориентироваться в новом мире. У обоих писателей это слово навсегда сохранило присущую ему загадочность, на правах едва ли не вселенской тайны.
«Великая поэзия, в основе своей, bête[29]29
Глупа (франц.).
[Закрыть], доверчива, что составляет силу ее и славу» (Бодлер, 1846)98. «Шедевры суть bêtes: они безмятежны, как и подобные им творения природы, крупные звери и горы» (Флобер, 1852)99. С разницей в шесть лет – один в рецензии, другой в письме, очевидно не имея представления о сказанном друг другом, – два аэда bêtise пишут схожие фразы, вводящие это слово в новое измерение. Речь идет не о глупости как таковой, которую другим языкам приходится переводить, но о темном зверином начале, как будто, достигнув вершины, искусство вновь открыло для себя красоту природы, правда скрытую под непроницаемым покровом и надежно защищенную от каких бы то ни было отчетов перед разумом. В этом искусство уподобляется женщине – Бодлер писал о ней в 1846 году: «Есть мужчины, которые начинают стыдиться своей любви к женщине, когда обнаруживают, что она bête»100. Нет ничего более достойного порицания, ибо «bêtise порой служит оправой красоте; именно bêtise придает глазам сумеречную прозрачность темных водоемов и блестящую безмятежность тропических морей»101. Это подтверждает и тонкая грань между bêtise и sottise, глупостью и безумием, на которую указала мадам де Сталь: «Bêtise и sottise различны, по существу, в том, что глупцы [bêtes] охотно подчиняются природе, а безумцы [sots] стремятся во что бы то ни стало доминировать в обществе»102.
Однако значение слова «bêtise» постоянно меняется. Одно из писем, написанных Бодлером Сулари в 1860 году, сродни электрическому разряду: «Все великие люди bêtes; все те, кто берутся быть представителями большинства. Такова кара, наложенная на них Господом Богом»103.
Бодлер в ранней юности не написал ни одного скверного стихотворения. Уже став бакалавром, он отмечал, что «не чувствует в себе никакого призвания»104. Отделившись от семьи, он сказал только, что хочет «быть писателем»105. Из писателей-современников он, по его словам, с увлечением читал разве что Шатобриана («Рене»), Сент-Бёва («Сладострастие») и Гюго (драмы и стихи). Обо всем остальном он сказал матери: «Я отбил у себя охоту к современной литературе»106. Суть «современных произведений» казалась ему «фальшивой, преувеличенной, надуманной, напыщенной»107. К поэзии Бодлер пришел окольным путем – через латинское стихосложение. В этом деле, как ни в каком ином, ему не было равных. Вся его поэзия кажется переводом с мертвого, несуществующего языка, составленного из сочинений Вергилия и христианских песнопений.
Что именно в «Сладострастии» (романе дебютанта, не вызвавшем большой шумихи, «улетевшем прочь, словно письмо по почте»108, по словам самого Сент-Бёва, в книге, написанной тем, кто никогда больше не отважится издать роман) так сильно впечатлило лицеиста Бодлера? Почему эти страницы «поразили его до глубины мельчайшей из артерий»109, даже сильнее, чем «Рене» Шатобриана, где он, наряду с многочисленными сверстниками, «непринужденно расшифровывал вздохи»110? Сама степень освоения текста была разной. Эти «вздохи» уже были «началом пробуждения»111, по мнению Марка Фюмароли. Но «глубины мельчайшей из артерий» можно было достигнуть, только бросив лот в самую тайную область восприимчивости. Каким образом это удалось «Сладострастию»? Достаточно открыть предупреждение, подписанное С.-Б.: «Истинным предметом этой книги является анализ склонности, страсти, даже порока и всей той области души, в которой этот порок властвует, где он задает тон, области вялой, праздной, манящей, потаенной и личной, загадочной и замкнутой, мечтательной до легкости, изнеженной, сладострастной наконец»112. Мы еще не знаем, о чем идет речь. Но нам уже понятно, что это будет территория Бодлера. По крайней мере до тех пор, пока не раскроется двусмысленность названия. Сент-Бёв, обладавший талантом канатоходца в защите собственной респектабельности, спешит заблаговременно принять меры: «Отсюда название „Сладострастие“, неудобство которого состоит в том, что оно может быть неверно истолковано и породить мысли о чем-то более притягательном, нежели то, что оно означает на деле. Но это название, вначале взятое по легкомыслию, уже не было возможности снять»113. Следуя технике, отточить которую ему удастся позднее, Сент-Бёв бросает камень и сразу отдергивает руку. Бодлер в этом смысле – его антипод. Он отстаивал свое право на самые рискованные камни, за что ему приписывали и прочие, которых он даже не касался. Уж он-то не преминет трактовать «сладострастие» в смысле «более притягательном, нежели то, что оно означает на деле». Но это произойдет позже.
Пока что ему, томящемуся в коридорах коллежа Людовика Святого, необходимо проникнуть в пространство слов – в первую очередь, существительных и прилагательных, – которые примыкают друг к другу, следуя непривычным траекториям. В поэзии и прозе Бодлера им суждено в скором времени обрести новый кровоток. Нам не составит труда перечислить эти слова, с оглядкой на Сент-Бёва: «вялый, праздный, манящий, потаенный и личный, загадочный и замкнутый» – и далее по порядку: «мечтательный до легкости, изнеженный, сладострастный наконец»114. Из простой череды этих аккордов легко сложить суждение о «выпавших нам временах»115, о которых Бодлер знал лишь немногое, что проникало за прокопченные стены коллежа, но судил, следуя за Сент-Бёвом, как о «хаосе систем, желаний, неудержимых чувств, откровений и наготы любого рода»116. Так заканчивалось предупреждение к «Сладострастию», которое и послужило предпосылкой «Цветов зла».
Неудивительно поэтому, что свое дебютное сочинение Бодлер посвятил именно Сент-Бёву: абсолютно зрелое и, пожалуй, самое пронзительное из всего написанного им. Бодлер отправил его, не указав своего имени и сопроводив письмом, начинавшимся такими словами: «Милостивый государь, Стендаль где-то сказал нечто в этом роде: „Я пишу для дюжины душ, коих мне, быть может, не суждено увидеть, но я боготворю их, и не видя“»117. Этой фразой сказано почти все, включая неосмотрительное упоминание Стендаля в первой строчке письма Сент-Бёву, который, разумеется, Стендаля не боготворил и держался подальше от его сочинений, как впоследствии отнесется и к самому Бодлеру. В то время Бодлер жил в особняке Отель-де-Пимодан и пока ничего не опубликовал под своим именем. То, что он подписывал псевдонимами или оставлял анонимным, по содержанию и манере не позволяло распознать автора. Книжка «Галантные тайны парижских театров», в которой он участвовал опять-таки анонимно, была выпущена с целью завуалированного шантажа. Временами Бодлер читал свои стихи друзьям, но издать их пока не планировал. Однако рассыпанные по ним заглавные буквы – возбуждающие, непредсказуемые, зловещие – уже несут в себе неповторимый отпечаток автора. Вот слова, на которые он их усаживает: Solitudes, Enfant, Mélancolie, Doute, Démon[30]30
Разлука, Дитя, Меланхолия, Сомненье, Демон (франц.).
[Закрыть]. Почти что гороскоп. И голос уже звучит с необходимой отстраненностью. Как это ни парадоксально, он доносится тихим шелестом изнутри слушателя и вместе с тем прилетает издалека, как будто изнуренный долгим путешествием.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































