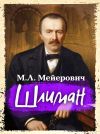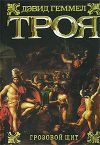Текст книги "Записки лжесвидетеля"

Автор книги: Ростислав Евдокимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Апология заключенного
Не судите, да не судимы будете.
Никто пока еще не смог дать приемлемого для всех определения того неуловимого феномена, который называют национальным характером. Однако он существует, и с этим вынужден считаться каждый, кто интересуется судьбами народов и человечества, разве что кроме вульгарных догматиков материализма. Национальный характер, душа народа оказывает мощное воздействие на поведение нации сегодня и на ее судьбу завтра. Но мы слукавим, если не захотим признать, что вполне земные, грубо материальные обстоятельства исторического бытия народа в переломные для него эпохи, в свою очередь, формируют или деформируют его душу. Будем, конечно, помнить, что у всякого народа, особенно у народа крупного, существует одновременно несколько типов, порой резко противоположных, хотя неожиданно способных обнаруживать свое происхождение от какого-то общего корня. Так, расхожий образ затянутого в форму пруссака-солдафона, казалось бы, трудно совместим с веселым студиозусом или буршем из баварского кабачка, но ведь Гитлеру это совмещение удалось: начавшись в мюнхенских пивных, его движение продолжилось отлаженной бюрократией и завершилось на полях сражений. И разве, в своем большинстве, не одни и те же люди пили пиво и маршировали под значками с орлами и свастикой? Поэтому тот тип развития национальных черт, о котором пойдет речь, не претендуя на всеобщность, допускает наличие в характере народа и прямо противоположных тенденций, обусловленных, тем не менее, теми же причинами, и после долгого периода борения способных слиться в некое духовное единство.
Важнейшей особенностью жизни народов нашей страны в XX веке является то, что весьма значительный процент населения прошел через тюрьмы, лагеря или ссылку. Не будет преувеличением сказать, что репрессированные найдутся в каждой семье, а во многих случаях судьба заключенного постигала целые области и народы практически сплошь. Но жизнь в условиях ограничения свободы слишком отлична от нормального человеческого бытия, и опыт, приобретенный миллионами наших соотечественников вовсе не только в политических, но и в обычных уголовных лагерях, не мог не сказаться на психологии нации в целом. Тем более что несвобода распространялась на всю страну вплоть до самих коммунистических главарей, и грань между теми, кого конвоировали открыто, и теми, кто по наивности считали себя свободными, но в действительности жили по законам тюрьмы, всегда была крайне зыбка.
Известно, что когда человек – как существо биологическое – сталкивается с опасностью, с агрессией, с оскорблением, у него в крови вырабатывается адреналин, побуждающий слабого бежать, а сильного – защищаться. Но специфика мест заключения, в частности, и в том, что постоянные и намеренные издевательства со стороны администрации, охраны, а зачастую и привилегированной части самих заключенных, не могут иметь естественного завершения, разрядки. Побег – это смерть, но и попытка защитить свою честь – тоже смерть; или, по меньшей мере, и то и другое кончается долгими дополнительными годами каторжной жизни. Существенно, что то же самое относилось и к оставшимся «на свободе»: попытка бегства из страны или оказание сопротивления терроризирующим население властям карались лишь немногим слабее, чем сходные действия, совершенные за колючей проволокой.
Таким образом, простецки животная реакция организма на давление извне вступала в неизбежное противоречие с изначально присущим всему живому инстинктом самосохранения. Жизнь в условиях такого противоречия невозможна. Человек должен или отказаться от своей природы, превратиться в робота, раба, стукача, homo sovieticus (на то и расчет!), или погибнуть. И то, и другое неприемлемо для нормальной человеческой личности. Поэтому человек в условиях большевистского тоталитарного режима ищет – и находит – способы психологически оправдать свое противоестественное поведение, спасти психику за счет отказа от некоторых иллюзий, избежать компромисса с совестью благодаря разработке, порой бессознательной, целых мировоззренческих построений. Апология заключенного – вот удел едва ли не большей части населения стран коммунистической и фашистской диктатур.
Но – поразительно! Ведь первая в мире апология заключенного была написана именно тем человеком, на чьем мощном философском фундаменте выросли все социалистические бараки последующих тысячелетий – вплоть до ленинского коммунизма и гитлеровского национал-социализма. Действительно, именно Платон создал несколько вариантов утопий, предусматривавших жесткую кастовую систему общества (разумеется, в целях борьбы за общее благо!), закрытые государственные границы, ксенофобию, тайную политическую полицию, чудовищные репрессивные законы. Разве класс правителей из «Государства» не заставляет вспомнить «внутреннюю партию» Дж. Оруэлла, а Ночное Собрание из «Законов» – мрачные заутренние бдения Сталина с приспешниками? Параллели неисчерпаемы. Недаром, по ценному наблюдению С.В. Белова («Платон и Достоевский»), в социалистической теории Шигалева, начинающего с «безграничной свободы» и кончающего «безграничным деспотизмом», Достоевский в «Бесах» прямо и сознательно пародирует платоновское «Государство». Не забудем, что та или иная мера национализации и обобществления собственности тоже предусмотрена Платоном – от мягкой, близкой к нацистским реалиям, в «Законах» до безгранично полной в «Государстве», что практически совпадает с марксистско-ленинскими теоретическими бреднями. Авторы «Коммунистического Манифеста» пошли даже несколько дальше Платона, например, в женском вопросе: как ни странно, древнегреческому философу не приходило в голову рассматривать женщину как разновидность собственности, вещи. У него если государство и регламентирует браки, то оба пола при этом вполне равноправны. А вот в основах марксистской теории лежит именно представление о мужской собственности на женщин как на эксплуатируемых рабынь или – во времена матриархата, неизвестно, существовавшего ли вообще в том виде, как они его себе представляли – наоборот, женской собственности на мужчин, очевидно, тоже эксплуатируемых. Не жизнь, а сплошная классовая борьба, даже между мужем и женой! Впрочем, дорвавшись до власти и попытавшись было реализовать некоторые свои экзотические рецепты (вроде движения «Долой стыд!» и промискуитетных причуд Коллонтай со товарки), большевики довольно быстро обнаружили, что на практике возникает не вожделенное разрушение семьи, а нежелательная атомизация всего общества, вполне противоположная принципам социалистического управления. Пришлось давать отбой, а теоретические «прозрения» гениальных придурков-основоположников впоследствии старательно замалчивались.
Настоящий же основоположник, Платон, в начале своего творческого пути пережил тяжелейшую духовную драму – полудобровольную смерть своего знаменитого учителя, описав свою трактовку этого события в «Апологии Сократа», а его философское осмысление – в «Тимее» и отчасти в некоторых других диалогах. Сократ – арестант, заключенный, смертник. Он может бежать, но не делает этого, ибо молчит божественный голос, и в результате добровольно принимает смерть. Но античное сознание, как и сознание любого природного человека, решительно восстает против такого надругательства над естественным ходом вещей, и Сократ конструирует философское и этическое обоснование своего бездействия. Два главных мотива звучат в его поведении: нельзя нарушать законы вне зависимости от того, хороши они или плохи, и – «не ведают, что творят». Нельзя нарушать законы, ибо дело не в Аните, Мелете или Ликоне – они лишь пешки! – попытка избегнуть приговора, даже неправого, есть надругательство над самой идеей справедливости, хотя бы и не во всем понятной человеку. Эта попытка вызовет цепную реакцию следствий, и нарушившего запрет ждет неминуемая расплата – если не самого его, то через кого-то, кто ему дорог. Ты убежишь, но тупая и злобная власть арестует твоих детей. Ты дашь взятку судье, но в стране, где судьи коррумпированы (или куплен Ареопаг), гражданский закон перестает действовать, его место заступают блатные «понятия» и жизнь «на воле» становится неотличима от жизни в неволе. Лучше стоически переносить невзгоды, чем противоборствовать безликой неодолимой силе, року, судьбе, неведомой сверхидее. И «не ведают, что творят», ибо, согласно основным сократовским представлениям, благо и разум – нечто единое, в конечном итоге они совпадают, и человек – как существо более или менее разумное по изначальной своей натуре – благ. Следовательно, если бы обвинители и судьи вполне понимали существо дела, они, конечно же, не вынесли бы обвинительного приговора. Так разве можно мстить им или даже ненавидеть их? С таким же успехом можно мстить детям, безумцам или силам природы.
Сократ в известном смысле становится античным предтечей Христа, а учение Платона, особенно в форме неоплатонизма, придаст впоследствии философскую завершенность христианской теологии. Но психологические мотивы, впервые прозвучавшие в камере смертника Сократа, через две с половиной тысячи лет сольются в миллионоголосую фугу узников тоталитаризма нашего времени.
Когда издевательски ухмыляющийся «гражданин начальник» лишает советского заключенного единственного за год свидания с родными под тем предлогом, что помимо положенных пяти книг в его тумбочке обнаружена еще пара журналов, или когда в помещении штрафного изолятора, ШИЗО, зэк идет зимой в еженедельную «баню» – камеру в четыре квадратных метра с дровяной колонкой для подогрева воды – и через 15 минут, пока он еще голый, мокрый и в мыле, распахивается дверь в холодный зимний коридор, где регочут, уставившись на него, прапорщики в овчинных полушубках и валенках, – звериная ярость подступает к сердцу, и первым движением души бывает броситься, забыв обо всем, и набить негодяю морду. Но попытка осуществления этого устремления приведет к 8–10 годам особого режима, а в некоторых случаях – и к расстрелу. Арестант останавливается, понимая, что эти годы обернутся несколькими тысячами дней особо изощренных издевательств над ним. Но внутренний голос (помните «гения» у Сократа?) продолжает возмущаться: «Что ж, тебе жизнь дороже чести? Значит, ты – трус?» Человек задумывается и, как ни тяжело нанесенное им самому себе оскорбление, пытается трезво его оценить. «Нет, я не трус, – наконец отвечает он, – ведь в каких-то других ситуациях я неоднократно рисковал и жизнью, и свободой. В конце концов, потому и попал сюда. И честь мне доводилось защищать даже не только свою, но и других людей, иногда совсем посторонних». – «Тогда объясни, почему такой позор, что ты сейчас терпишь, не вызывает в тебе отпора, который ты давал, по твоим словам, едва ли не в более опасных ситуациях?». И вот тогда не только философ, интеллигент или мало-мальски образованный человек, но даже самый неразвитый и забитый мелкий уголовник, «блатарь» или случайно попавший на зону «мужик» полуинстинктивно начинает искать оправдания и осмысления своих поступков. Чтобы окончательно не разрушить свое «я», он должен найти объяснение своему странному поведению. И тогда его озаряет: «Я могу ударить равного себе, могу – более сильного или более наглого, но ведь это – ʺментʺ! Он – вообще не человек. Это садист, зверь, робот, безликая темная сила. Не стану же я бить утюг за то, что он упал мне на ногу, или лед – за то, что поскользнулся на нем!». А кто-то еще добавит: «Положим даже, я его побью. Положим даже, мне удастся избежать немедленной расправы и уйти в побег. Ну, а что дальше? Я живу в такой стране, где законы никогда меня не защитят, хотя морально я и прав. Меня, как волка, будут травить всю жизнь, а если не смогут поймать, сорвут злость на моих родных и друзьях. Как бы ни были чудовищны законы моей страны, лучше им подчиняться, чтобы не восстанавливать против себя все силы миропорядка в этом государстве».
Чрезвычайно существенно, что подобное психологическое построение распространяется в тоталитарной стране не только на заключенных, но пронизывает все официальные отношения в обычной гражданской жизни – разве что не в столь острой форме. Уже об обычном негодяе, конфликт с которым ничем особенным не грозит, человек приучается думать: «Такой-то, конечно, поступил подло. Но ведь я не знаю, отчего он так сделал. Может быть, он не хотел подличать, а всего лишь немного струсил, или просто чего-то не понял. Ведь по сути своей он – человек неплохой. Мне известны даже два-три примера, когда он сделал что-то хорошее…». Нравственный релятивизм? – Конечно. Но что опасней: подать руку подлецу, поговорить с палачом как с обычным человеком, не надеясь на его «перевоспитание», но все же нейтрализуя наиболее звериные его инстинкты, или в кристальнейшей принципиальности, в «белых ризах» оттолкнуть колеблющегося, озлобить его, окончательно потерять? Ведь колеблющихся всегда в десятки раз больше, чем отпетых мерзавцев. Заняв куда как бескомпромиссную (и такую со стороны красивую, благородную!) позицию, наказывая порок в одном негодяе, мы частенько плодим толпы его преемников. Как тут быть? Не правильнее ли научиться строго различать для себя правила личных отношений (человека с человеком, персоны с персоной) и отношений социальных? Как та медсестра из фольклорного рассказа, что считала необходимым сперва врага вылечить, потому что таков был ее личный христианский долг, а потом, если удастся, повесить, ибо таков долг перед родными и друзьями, долг общественный?
На 36-й зоне был омерзительный персонаж, Иван Божко. Гнилозубый, с глазами цвета болотной жижи и темным, словно протухшее сало, лицом, был он, казалось, горбат, но в действительности просто очень сильно сутул. Работал он шнырем у ментов, был откровенным обер-стукачом и вызывал порой даже что-то, похожее на суеверный страх. Тому были причины. Время от времени, когда на зону приезжала машина с огромной вонючей цистерной и брезентовым рукавом с помпой, он выполнял функции золотаря, вычерпывая ковшом на длинном шесте зловонные остатки из выгребной ямы. Это само по себе не прибавляло ему популярности, но хотя бы случалось достаточно редко. В каждодневности же был он «ангелом смерти»: приходил в отряд и зачитывал список зэков, которым следовало незамедлительно отправиться в козлодерку к начальству. «За подарками», – как выражался с глумливой усмешкой Божко. «Подарки» выражались в лишениях ларька, свиданий, в посадках в ШИЗО и ПКТ («помещение камерного типа», внутрилагерная тюрьма). Если Божко кого-то куда-то звал – значит, следовало готовиться к самому худшему. Эта злобная тварь ненавидела всех вокруг: своих сверстников, партизан и полицаев, за то, что они видели, как он умудрился пасть ниже последнего стукача из их среды. «А ведь каждый из них – ничуть не лучше меня…» – был не без справедливости уверен Иван. Но ненавидел он и молодых – за то, что они были молоды, за то, что они смели гордиться своей честностью (не всегда бесспорной), за то, что не выпало им на долю и десятой части его испытаний (и, значит, они украли у него судьбу: ведь живи он в их годы, в их условиях – тоже не сломался бы и ходил с разогнутой спиной, – казалось Ивану). У него всегда было много сала и много чая – стукачество оплачивалось по зонным меркам щедро. Но даже из стариков редко и мало кто делил с ним крепчайший чай, конфетки и прочую снедь – от них пахло карцером, тюрьмой и смертью. Не говоря уже о такой мелочи, как нужник.
Но был один день в году, самый для Ивана страшный и самый прекрасный, – 9 Мая, День Победы. Уже накануне его начинало трясти и крутить, как наркомана в «ломку» или колдуна перед церковью. В день праздника он совсем был незаметен, будто куда-то исчезал. Но нет. Весь серый и в испарине, он проносил чифирбак (большую кружку для варки чифиря) куда-нибудь в угол и подзывал безотказного старика Романенку: «Пойдем…» Они долго о чем-то спорили, отхлебывая черную густую жидкость, и иногда ссорились. Потом в течение дня он неприкаянно бродил по зоне, одинокий и затравленный, никого не желая видеть, ни с кем разговаривать. Ближе к вечеру – так было из года в год – он подходил ко мне: «Славка, пойдем…» – «Куда, Иван?» – «Пойдем. Надо. Ты же знаешь. Ты единственный человек на этой проклятой зоне, с кем можно разговаривать». Я не был единственным, и его комплимент мне не льстил, да он и не собирался льстить. Мне было его жалко, а отчасти, каюсь, просто любопытно – уж очень изломанной, искореженной была его психика, и под осуждающие взгляды записных моралистов я уединялся с Божко в темном углу небольшого помещения, предназначенного для наших частных чаепитий.
Что только не доводилось выслушивать тогда! Как их отряд (еще советский) попал в окружение, как немцы загнали их в болото, как сидели они там почти сутки, временами с головой уходя под воду и дыша тогда через камышовые трубки. Когда сил сидеть дольше в болотной жиже не осталось, они вылезли, но от всего отряда в живых осталось уже лишь несколько человек, остальных засосала топь. Спасшиеся попали в руки все тем же немцам, которые отогрели их и высушили, а потом дали свою форму: хочешь – надевай, не хочешь – становись к стенке… Так он стал полицаем и служил при комендатуре в крупном селе. В подавляющем большинстве его сослуживцы оставались вполне советскими людьми и ненавидели гитлеровцев лютой ненавистью. В конце концов они улучили момент и – была не была! – бросились в отчаянный штурм. Подразделение полицаев забросало гранатами немецкую комендатуру, ворвалось в нее и уничтожило всех, кто там еще оставался. Но и самих взбунтовавшихся рабов-гладиаторов осталась жалкая горстка. Опять партизанщина, опять голод (не могли же партизаны-полицаи запросить помощь у сталинских политруков!), опять необходимость грабить и так голодающих крестьян. Наконец, удалось выйти к «своим» и сдаться. СМЕРШ, штрафные батальоны, последние штурмы бегом через минные поля и – ПОБЕДА!!!
Что здесь ложь? Что правда? Кто посмеет тыкать в него грязными справками из КГБ о его великих преступлениях или чистейшими поучениями резонеров-ригористов? Он не скрывал, что цель была одна – выжить. И в том был его несмываемый грех, ибо не было «приказано – выжить», приказано было – умереть. А вот он – и сотни, тысячи других таких же – посмели ослушаться этого не произнесенного вслух приказа и остались в живых. Зачем? Так ведь это же ясно: чтобы кто по пятнадцать, а кто и по двадцать пять лет гнуть потом спину по лагерям на «своих» – освободителей, победителей, торжествователей… Но разве выжить было единственной его целью? Отчего же тогда почти безоружные полицаи бросились штурмовать вооруженную до зубов комендатуру? Служили бы себе спокойно и постарались потом уйти на запад. Смотришь, и укрылись бы где-нибудь в европах-америках. Не всех же выдали! Кого он должен был после всего этого любить? кому верить? на что надеяться? Осталась только жизнь – презренное прозябание трижды сломленного, полностью нравственно изнасилованного и опустошенного стукача. Но ведь все-таки! Все-таки он еще человек!! Пусть немножко, пусть совсем чуть-чуть!!! И потому оставался для него один день в году, когда он, Иван Божко, чувствовал себя вновь не золотарем, а солдатом, борцом за свободу. Да-да! именно так: борцом за свою и за нашу свободу. На одну триста шестьдесят пятую долю своей сущности даже он еще им оставался. Как я мог его отринуть?
У Платона есть знаменитый образ. Люди сидят лицом к пещере, принимая игру теней на ее стене за реальность. Но истинная жизнь, жизнь вечных идей разворачивается в это время у них за спинами. А тень этой настоящей реальности, которую только и обречено видеть человечество, – всего лишь случайная и не всегда точная проекция мира идей. Для человека тоталитарного общества земная действительность настолько противоестественна и невероятна, что он, уподобясь Платону, перестает признавать за ней право на существование и постепенно приучается даже на эмоциональном уровне относиться к ней как к фикции.
Конечно, можно повернуть это сравнение в обратную сторону и сказать, что это Платон, трудясь всю жизнь над созданием социалистических утопий, так проникся тоталитарным мышлением, что умудрился даже философски разработать психологию советского зэка. Но интереснее другое. Давно известно, что христианство тоже несет в себе некоторую долю социалистических представлений. Принципиальная разница, однако, в том, что христианский социализм не предполагает построения идеального общественного строя силами самого человека, но лишь стремится по возможности приблизиться к нему. Вера в грядущее Божие вмешательство и просветление физического мира позволяет ему избежать абсолютизации Зла. Как следствие, признавая существование духовного мира, христианство не отрицает реальности мира материального. Поэтому и в тоталитарном государстве, и за колючей проволокой лагеря христианин, видя, что власть имущие действуют, безусловно, как исполнители воли Князя тьмы, все же не станет всерьез лишать их имени человека. Они для него не звери и не стихии, а личности, хотя и враждебные. Следовательно, к ним неизбежно и эмоциональное отношение. Иными словами, последовательный христианин лишен той спасительной увертки, что позволяет избавиться от лагерного бреда остальным арестантам. Единственное, что ему остается, это повторить следом за Христом: «Прости им, ибо не ведают, что творят», а для защиты своей чести вспомнить, что свобода бывает внешняя и внутренняя, и достоинство человеческое роняется не от внешней силы, а только тогда, когда человек сам его роняет. Садист-тюремщик во сто крат сильнее арестанта физически, но относиться к нему следует не как к сильному, которому положено дать сдачи, и не как к неодушевленному предмету, на который можно не обращать внимания, но именно – как к слабому и больному, ибо нравственно, духовно он слабее ребенка и заслуживает только снисхождения, а от тех, кто не рассчитывает стать святым, еще и презрения. Спокойно выраженное презрительное снисхождение бьет сильнее кулака и не хуже его защищает достоинство личности.
А что же Платон? Не забудем, что ему и самому довелось испытать судьбу арестанта и даже каторжника, раба. Быть может, поэтому угрюмый основоположник фашистско-коммунистических теорий оказался куда человечней будущих борцов за счастье всего человечества. Отнюдь не в молодости – в одном из самых зрелых своих диалогов, в «Пире», он развивает ту мысль, что Истина, Добро и Красота суть едины, а значит, шигалевщина и прочая бесовщина – всего лишь сектантское искажение его философии, доведение до абсурда некоторых действительно, впрочем, опасных, но не единственных, не исключительных ее черт.
Народы же нашей страны, пройдя через длительный период атеистического ожесточения, пропитавшись от мала до велика психологией тюрьмы и лагеря, когда выход виден только в бегстве, в восстании обреченных или в самообманном отрицании бытия, сейчас, в пору разительного подъема религиозного сознания, получают, хочется верить, шанс, проникшись высшим мужеством, спокойно и снисходительно «милость к падшим призывая», перебороть тоталитаризм нравственно и духовно. Не бунт отчаявшихся рабов, но только достойное волеизъявление внутренне свободных личностей приносит освобождение государствам.