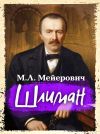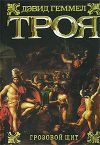Текст книги "Записки лжесвидетеля"

Автор книги: Ростислав Евдокимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Я добрался до последнего гребня, отделяющего меня от распадка с нашей палаткой. Мой путь шел не прямо вниз, а слегка наискосок – градусов на тридцать. И тут я увидел ее. Она была тоже дитя земли – огненная лиса, откормившаяся за лето, размером с небольшую овчарку не спеша трусила слева от меня почти в том же, что и я, направлении. Метров через десять наши пути перекрещивались под острым углом. Судя по скорости ее бега, она должна была обогнать меня в точке пересечения всего лишь на метр-полтора. Лиса даже не повернула в мою сторону головы. Она только на миг скосила глаза, увидела, что у меня нет ни ружья, ни палки, всё поняла, всё оценила и как ни в чем не бывало, ничуть не ускорив бег и не сменив направления, продолжила свое движение встречным со мной курсом. Кто знает, может, она даже почувствовала каким-то своим телепатическим чутьем, что никакой угрозы от меня в любом случае не исходит? Мы разминулись в двух-трех шагах, и я остановился на несколько минут, чтобы посмотреть ей вслед и навсегда запомнить эту полную достоинства стать, это мускулистое тело, явившееся сюда из сказок или с листов средневековых миниатюр. Лиса, казалось, плыла среди пожухлой травы и мелкого кустарничка, и долго еще можно было следить за ее мощным хвостом, пока она не скрылась за очередным взгорьем.
Но вот все подготовительные работы были закончены и даже выполнен первый взрыв. Можно было помаленьку налаживать быт: натаскать сена под днище палатки, удобно разложить продукты в одном из углов, сложить очаг из камней в нескольких метрах от нее. Не забыть о маленьких хитростях: густо смазать чайник и кастрюлю мылом, чтобы потом, когда будем на костре что-то готовить (ведь на одном примусе много не сваришь), копоть легла поверх мыла, которое легко будет смыть, и посуда останется почти чистой. В ручейке поблизости надо было прокопать ложе так, чтобы образовалась небольшая лужица, а над нею некое подобие водопада. В эту лужицу под струйку ледяной воды на день надо было ставить кастрюльки и банки с легко портящимися продуктами – маслом, мясом, сыром, овощами. Но на ночь не забывать обязательно забирать их с собой в палатку, чтобы их не стащили дикие звери – та же лиса, к примеру. Среди валунов, подальше от палатки и желательно со стороны, чаще всего оказывающейся подветренной, надо было присмотреть и отхожее место. Если это дело пустить на самотек, то через несколько дней жить станет не слишком приятно.
В конце концов мы улеглись спать. Какое-то время поговорили о делах насущных, но общих тем у нас не было – все трое мы были людьми слишком разными.
Ближе к полуночи я проснулся от чувства опасности. Что-то было не так. По палатке бегал луч карманного фонарика. Я приготовился к худшему, незаметным змеиным движением протянув руку к ножу, и только после этого повернулся, как бы во сне, чтобы лучше разглядеть источник света. Рахим светил на что-то у себя под одеялом и беззвучно шевелил губами. «Читает, – догадался я, – ну, что ж! в его возрасте это бывает. Не буду мешать. Пусть себе. В конце концов, это лучше, чем пить или курить анашу. Но интересно, что же именно может читать по ночам полуграмотный мальчишка из горного аула? Детективы? Какие-нибудь любовные истории? И вот еще: сегодня-то ладно – намаялись. Но надо будет проследить, чтобы по ночам он спал. Пусть читает вечером, после работы. Мне на пункте взрыва сонные дети не нужны. Здесь мы все-таки не шутки шутим».
Прошел еще один день. Работы хватало, и мне было не до разговоров. Да, честно говоря, я просто подзабыл о ночном эпизоде. Но ночью история повторилась, и это мне уже совсем не понравилось. Я не только ничего не имел против чтения, я был, конечно, всецело за. Но ночью надо спать. Потому что днем мы не песни поем и даже не картошку копаем, а делаем взрывы. Всякое может случиться, и здесь не время и не место рисковать. Не дай Бог что – отвечать придется мне, я уже об этом упоминал.
Но за вечерним чаем случился совсем другой разговор. Любивший покрасоваться рельефными мускулами двадцатилетний Али с мягкими усиками над простодушно порочной губой и оливковыми глазами сельского сердцееда решил поговорить со мной о политике. О моей неблагонадежности среди местных ходили глухие слухи, потому что все знали, что я никогда не называю Ленинград Ленинградом, а только Питером или Петербургом, что я слушаю западные «голоса», а некоторые еще слышали что-то о том, что мой отец сидит в тюрьме по политической статье.
По большому счету, всё это людей мало интересовало. Убежденных сторонников советской власти в тех краях не было практически ни одного – ни среди армян, ни среди азербайджанцев. И уж тем более – среди алмастов, убежденных одиночек и закоренелых анархистов, кем бы они не были в действительности. Если уж профессиональные партработники, не таясь, относились к своим должностям как к необходимому злу, неизбежному, чтобы прокормить семью, да и себе обеспечить умеренный комфорт… Коли первый секретарь райкома КПСС в своем кругу, к которому относился и Артюша со всеми своими сотрудниками рангом повыше простых рабочих, смело рассказывал те анекдоты, что считались махрово антисоветскими и в других местах (и при других слушателях) вполне могли привести незадачливого рассказчика аж на скамью подсудимых… Кого же тогда могла волновать мера ненависти к коммунизму приехавшего из далекой России шибко грамотного взрывника? Поэтому мои убеждения воспринимались как некая данность, может, слегка пикантная и даже эпатажная, потому что в тех краях я не считал нужным скрывать их при каких бы то ни было слушателях. «Ну, любит человек перчик поострее – его право», – думали при этом местные. Но не более того. Однако болтовня Али зашла все же слишком далеко.
Ни с того ни с сего он стал мне объяснять, что среди его соплеменников есть люди, которые знают горы так хорошо, что им ничего не стоит пройти в Иран или Турцию. Здесь ему всю жизнь придется работать в колхозе, в лучшем случае сумеет выучиться на шофера, буровика или взрывника. Но он такой сильный и ловкий, что уверен: немного потренировавшись, вполне сможет выступать силовым акробатом в цирке. А это гораздо интереснее и веселее, чем до старости торчать в опостылевшем Гехи, откуда поездка в Кафан уже кажется событием, а в Баку или Ереван – все равно, что для нас, столичных жителей, командировка в Париж.
– Как ты думаешь, Вартан, – если мы Артавазда переделывали в Артюшу, то мое имя Виктор здесь переиначивалось на армянский манер, – как ты думаешь, удалось бы мне в Турции устроиться в какой-нибудь цирк? Ты только посмотри, какие у меня мускулы! Давай вместе пойдем! У тебя же там есть, наверно, знакомые?
Сказать, что такой разговор по тем временам был провокационным, значит – ничего не сказать. Стоило только проявить заинтересованность в способах перехода границы или даже наоборот: засомневаться в такой возможности, но так, что эти сомнения можно было бы понять как сожаление, – и всё. При желании тебя вполне могли бы обвинить в разработке планов бегства из страны, что по замечательному советскому законодательству легко могло трактоваться как уже отчасти свершившееся бегство – «через попытку». Это Маркс говаривал, что «женщина не может быть немножко беременной». В СССР вполне можно было «немножко убежать», не убегая, и даже «немножко изменить Родине», не держа этого и в мыслях. Просто за такое, якобы предотвращенное доблестными чекистами намерение, тебе бы в суде дали «меньше меньшего»: например, вместо лагеря – ссылку. А в случае, если «через попытку» ты совершил такое чудовищное преступление как измена, вместо десяти лет зоны ты мог надеяться на «всего лишь» восемь. При этом еще говорили бы, что проявили невиданную гуманность. Ведь статья-то в принципе – до расстрела… Лет через десять мне довелось познакомиться с некоторыми такими «изменниками». Но это уже отдельный сказ.
Однако вполне мог быть разыгран и другой вариант, когда появился бы какой-то бывалый человек, обещающий «со стопроцентной надежностью» проводить нас с Али в Турцию, но настоятельно советующий, чтобы с гарантией пройти пограничные заграждения, прихватить с собой взрывмашинку и немного взрывчатки с детонаторами… Ах, как красиво можно было бы тогда взять меня со всем этим добром на подходе к какому-нибудь дурацкому столбу с ржавой колючей проволокой! При желании можно было бы даже просто пристрелить – всё по закону: диверсант (раз со взрывчаткой-то!) и перебежчик!
Но самая большая сложность моего положения была в другом. У меня ведь не было твердой уверенности, что Али и впрямь провокатор. А дать понять честному, хотя и глупому парню, что считаешь его стукачом… На Кавказе – да в общем-то и где угодно – это смертельная обида. За что же так оскорблять человека? С другой стороны, к тому времени у меня уже был опыт общения с бесспорным провокатором из местных на другом конце страны – на норвежской границе. Тот был саамом, а не азербайджанцем, но тоже предлагал вместе с ним сходить «за кордон», в Норвегию. А в доказательство проходимости границы даже показывал мне фотографии – как он сидит, прислонившись к пограничному столбу, и таскает лососей из горной речки. Забыл только объяснить, кто эти фотографии делал: медведь, что ли? Так что основания для опасений у меня очень даже были.
Пришлось стать дипломатом. Я отвечал в том духе, что свои житейские сложности найдутся везде, и почему это он решил, будто в чужой стране его сразу примут в цирковую труппу только за красивые глаза и рельефные бицепсы?
– И вообще, без семьи, без друзей, родных гор, привычного уклада будет слишком тяжело. Кто тебе станет помогать?
– Но ведь тебе обязательно помогли бы. У тебя же столько друзей среди этих, как его, дис-си-ден-тов, – попытался он вновь перевести разговор на меня, уже достаточно выдавая себя как настойчивостью попыток, так и нарочитыми запинками при выговоре якобы плохо ему знакомого западного словца для обозначения несогласных.
– И какое же отношение это имеет к цирку? – внутренне смеясь, я отправил ему реплику, словно теннисный мячик, обратно через сетку.
Али не был опытным провокатором. Я не знаю, кто и о чем его попросил, что ему могли пообещать. Но он был типичным сыном Кавказа: простодушно расчетливым, беспечно хитроумным честным каверзником. Все ухищрения, на которые он был способен, сразу же проступали у него на лице, как текст переснятой самиздатской рукописи на проявляемой фотопленке. Было видно, что вся эта затея ему не слишком нравится, а играть со мной в словесный теннис он и вовсе не умел и не хотел. Разговор заглох, а ненадолго отлучавшийся Рахим из тех его обрывков, что он застал, не понял, похоже, вообще почти ничего.
Пора было поговорить с ним. Я поручил Али нанести побольше лапника и травы под днище палатки и валежника для костра, а Рахиму сказал, чтобы он помыл посуду. Когда мы остались одни, я спросил его о ночном чтении и довольно жестко объяснил, что это совершенно недопустимо: если он так хочет читать, пусть делает это по вечерам или в достаточно частые перерывы в работе днем.
– Но я ничего не читаю, – довольно неожиданно для меня ответил мальчишка.
– Как не читаешь? Я же видел, как ты фонариком освещаешь что-то под одеялом и даже шевелишь губами. Зачем же ты врешь!?
– Я не вру… я… – он запнулся, явно не зная, что дальше сказать.
– Ну! Или может… Но ты же не станешь говорить, будто рассматривал картинки? Для этого не надо что-то про себя бормотать.
– Нет! Но я… Я стихи сочиняю! – с решимостью обреченного выпалил малец.
– Стихи!? О чем?
– Ну да! Стихи! Мугамы! О любви…
– Какие такие мугамы? Это у вас вроде газелей, кажется? И – о, Господи! – о какой ты можешь писать любви!? Ты вообще знаешь, что такое настоящая поэзия?
– Знаю. Да. Меня бабушка учила.
– Какая бабушка? Чему она тебя могла научить?
– Фирдоуси.
– Что-что!?
– Фирдоуси. Знаешь? Он стихи писал. Такой, очень большой, очень! У персов был. Давно жил. «Шах-намэ»…
– Да знаю я кто такой Фирдоуси. И «Шахнамэ» читал. По-русски. А на азербайджанский – что, тоже перевод есть?
– Зачем перевод? Моя бабушка родом с юга, из Ирана. Иран, знаешь? Там наших много-много живет. Так бабушка оттуда. Бежала, когда молодая была. Там, как у ваших, в России, революция была. Только кончилась по-другому. Вот бабушка и бежала. Ну, вообще-то это ее папа с мамой бежали. От персов. Но она тоже грамотная была. И «Шахнамэ» до сих пор наизусть знает. По-персидски, Как Фирдоуси написал. И меня научила.
– Как наизусть? Этого не может быть! Наверно, она какую-то часть знает. Например, о битве Рустама со своим сыном…
– За-ачэм тхакх г-гховориш? Она всио з-знаэтх. Д-дхва дня п-пходриадх читхатх б-бхудэтх, т-тхри дхниа… Скхол-л-кхо н-надхо, с-стхолкхо б-бхудэтх, – от волнения у Рахима вдруг прорезался чудовищный акцент, вообще ему не свойственный – обычно он говорил по-русски совершенно чисто, к тому же он опять начал заикаться, как когда-то в кабинете Артавазда. – И н-нэ «Руст-тхам» она гов-ворытх, а «Р-ростхем».
– Подожди, подожди… Не волнуйся так. Спокойно! Так ты, получается, тоже персидский язык знаешь? И Фирдоуси наизусть?
– Я – нет. – Рахим с видимым усилием действительно постарался взять себя в руки, он совладал с акцентом, но еще временами запинался. – Я язык п-пхлохо знаю и из «Шах-намэ» мало. Н-не так, как бабушка. Но она мне объясняла и показывала, как это д-делает устод.
Я знал, что устодами на Востоке называют больших мастеров. Великий Фирдоуси был, конечно, одним из них. Но чтобы этот тощий мальчишка… Худющий, весь в царапинах, истрепанный, как шелудивый пес… В жалкой сакле, в забытой Богом горской деревне… Не может такого быть! Или воистину Дух веет, где хощет. Неисповедимы дела Твои, Господи!
– Если правда, что ты хоть что-то знаешь, прочитай. Прочитай немного из того, что знаешь!
– Хорошо. Ты говорил о битве Ростема с Сохрабом. Этот дастан как раз я помню. Слушай!
Рахим встал в позу декламатора, воздел руки к вершинам скал, потом левую опустил, а правой показал на несчастное озерцо, после наших взрывов заметно увеличившееся в диаметре, задрал подбородок кверху и начал читать. Я не стану пересказывать его чтение. По-персидски я не понимаю. А по-русски каждый может при желании прочитать сам – всё равно это будет совсем не то, что нараспев скорее пел, чем декламировал мой юный помощник. Одно могу сказать наверняка: это были стихи, потому что обладали ритмом и рифмой, и стихи эти были не азербайджанскими, потому что хоть родного языка Рахима я и не знал, но каждый день слышал достаточно, чтобы его распознавать – хотя бы по характерному обилию придыхательных согласных. Да и по отдельным словам, въевшимся в сознание.
Мальчишка победил. Разумеется, я взял с него слово, что ночные бдения прекратятся. Но я признал, что он знает и любит поэзию, и, стало быть, если чувствует призвание, может и сам писать свои мугамы. Я спросил, показывал ли он кому-нибудь написанное, и если да, то что о нем говорят другие? Оказалось, мугамы, по крайней мере в представлении Рахима, предназначены не для чтения, а для слушания. Их поют, как менестрели пели когда-то свои баллады, и «кто слушал, нравится». Я попросил у него посмотреть записи, и он дал мне тонкую ученическую тетрадку, исписанную крупным школьным почерком по-азербайджански. Написанное делилось на длинные периоды примерно равной протяженности, порой не умещавшиеся в одну рукописную строку. Слова в конце периодов явно рифмовались. Из любопытства я подсчитал количество гласных. В смежных периодах оно совпадало. Очевидно, это были так называемые бейты – типичные длинные строки ближневосточной поэзии.
Потребовалось с полчаса сомнений и препирательств, чтобы уговорить мальца, переписав из тетрадки лучшее, отдать мне, дабы, вернувшись домой, я мог показать это специалистам из Института востоковедения, которые смогли бы дать авторитетное заключение и добрый совет молодому автору. Забегая вперед, скажу, что я выполнил свое обещание и получил отзыв, даже более благоприятный, чем ожидал. В стихах отмечались неподдельное чувство, природная образность и верность традиции. Но при этом, как и следовало ожидать, было достаточно много легкоустранимых ляпов, технических промашек, банальностей… Короче, автору рекомендовалось учиться, учиться и учиться. Предполагалось, что он еще достаточно молод и толк из этого учения вполне может статься.
Но всё это было уже потом. А сейчас мы перешли к самой ответственной вехе нашей работы на выезде. В общем-то, подошел я один. Предстояло делать те самые чудовищной мощности взрывы – по штуке в день. Взрывчатка была сложена неподалеку, палатка разбита, провода протянуты. В работе как таковой никто и ничем помочь мне больше не мог. Я переложил на помощничков все бытовые хлопоты – приготовление еды, мытье посуды, наведение порядка в палатке и окрестностях, – а сам полностью сосредоточился на подготовке зарядов, на равномерном распределении детонаторов среди шашек со взрывчаткой, на правильном их соединении. Каждую отдельную связку шашек следовало забросить как можно дальше в воду и поблизости от остальных, но притом осторожно: чтобы, не дай Бог! не повредить соединения проводов. Потом всё надо было проверить и перепроверить, потому что, в случае неудачного взрыва, переделывать двухтонный заряд можно до вечера, и твое счастье, если успеешь справиться с этим до конца рабочего дня. Но выговора все равно будет не избежать.
Когда-нибудь всему наступает конец. Мы закончили наши неблаговидные труды и ждали приезда Сулеймана, который на свою раздолбанную бортовую «шестьдесят первую» должен был забрать нас, остатки взрывчатки, палатку и снаряжение. Но Сулейману надо было сперва свернуть свой собственный лагерь, и до нас он добрался довольно поздно. Наступал вечер, и надо было спешить. Мы побросали вещи в кузов, Али с Рахимом забрались на борт. Туда же, недобро осклабясь, Сулейман пересадил своего собственного помощника, освободив место в кабине для меня. На самом деле я и сам не отказался бы проехаться вместе с рабочими наверху, в кузове, держась за крышу кабины, чувствуя, как ветер забрасывает назад иссушенные солнцем волосы, глядя на меняющиеся с каждым мгновением вечерние картины предгрозовых гор. Но это было бы нарушением субординации, и поэтому такой ложно понятый демократизм в условиях Кавказа воспринимался бы как покушение на статус Сулеймана, Фамиля, Тагира – всех взрывников, техников, инженеров, чье место было в кабине, если она не была уже занята кем-то другим из той же группы.
Впрочем, на сей раз мое стремление полюбоваться красотами довольно скоро всё равно пришло бы в столкновение с реальностью. Уже смеркалось, и начинался дождь, наши рабочие давно уже не стояли, а сидели на днище кузова, натянув на себя брезент, а мы только-только проехали мимо бывшего взрывпункта Сулеймана. Спускаясь по серпантину всё дальше вниз, ранними горными сумерками надо было добраться еще и до стоянки ненавидимого им Фамиля, чтобы забрать там его вещи. За Фамилем, как и за мной, не было закреплено собственного грузовика. Сам же он настолько не любил Сулеймана, что предпочел отправиться ночевать в близлежащую деревню, должно быть, к очередной любовнице, о чем и объявил без обиняков по рации. Когда мы нашли на обочине под выступом скалы его помощника с подготовленными к погрузке вещами, время близилось уже к десяти часам вечера, а мы еще не спустились в долину Вохчи. Только через час мы наконец проехали окраиной Кафана и добрались до шоссе, ведущего в Каджаран, но сперва проходящего мимо ущелья, где лежали Зейва геологов и Гехи азербайджанцев.
Устали все. Поэтому я не слишком удивился, когда, ни слова не говоря, Сулейман вдруг крутанул руль вправо и поставил свою бортовую на стоянку перед шоферским шалманом на обочине примерно в километре от последних домов Кафана. Продрогшие и голодные рабочие вывалились из кузова, Сулейман толкнул ногой дверь, и мы вошли внутрь. Несмотря на поздний час, в забегаловке было людно и шумно. Пожалуй, даже наоборот: непогода как раз и загнала сюда многих водил. Наверняка практически для всех работа уже закончилась, и люди ехали в Каджаран только для того, чтобы поставить машины в гараж рудника и разойтись по домам. Никакой дорожной инспекции на этом шоссе и днем-то не бывало, а сейчас каждый считал возможным выпить и пятьдесят, и сто граммов водки, а то и тутовой чачи под сочный шашлык, пряный кебаб, ароматную, щедро политую мацони долму. А уж пиво… Здесь не было шофера, который не был бы уверен, что знает дорогу так хорошо, что может вести машину с закрытыми глазами даже после двухчасового застолья.
Помощник Фамиля нашел каких-то своих знакомых и подсел к ним. К ним же присоседился и компанейский Али. За последним остававшимся свободным столиком в дальнем углу большой прокуренной дощатой комнаты, живо напоминавшей салун из американских вестернов, пристроились мы с Сулейманом и наши помощники – Рахим и вихрастый рыжеватый молчун лет двадцати, помогавший Сулейману, – имени его я не запомнил. К нам подошел буфетчик, и я уже собрался что-нибудь заказать, но тот, к моему удивлению, заговорил о чем-то по-азербайджански с Рахимом, а потом – с нашим шофером. Тот, ощеряясь в какой-то гиеньей усмешке, обратился ко мне:
– Вартан, – буфетчик, услышав армянское имя, слегка напрягся, или мне показалось? – Вартан, вот тут Ариф спрашивает, можно ли Рахим немного споет?
– А я здесь причем?
– Так он же – твой рабочий. Как ты скажешь, так и будет.
Феодальные отношения продолжали давать о себе знать. Это ничего, что работа уже закончилась, что с Рахимом я был знаком без году неделя, а Сулейман жил с ним в одном селе. Пока мы не вернемся по домам, пока мальчишка не перейдет под покровительство кого-то другого, он продолжал считаться именно моим вассалом и именно мои указания должен был выполнять. Но зато, и я вовремя об этом вспомнил, на мне как на сюзерене лежала встречная обязанность защищать интересы своего вассала перед посторонними. И всякий сущий здесь язык очень бы удивился, кабы об этой своей обязанности я вдруг забыл.
– Но он, наверно, устал.
– Он согласен.
– Ну, если согласен, пусть поет. Только надо его накормить и хоть чаю горячего дать. Он же совсем продрог!
– Об этом ты не беспокойся, – захихикал Сулейман, – и покушает, и попьет. И нас накормит.
Он даже потер свои маленькие ручки, и я понял, что не ослышался: Сулейман был известным скаредом и о своей выгоде никогда не забывал. Но ведь даже он не стал бы объедать и без того нищего пацана? Конечно, нет. Всё было тоньше. Я выступал в роли странствующего рыцаря, который сдает своего оруженосца во временную аренду соседнему барону. Тот юного пажа, разумеется, кормит, но и его хозяину, то есть мне, тоже причитается что-то за любезность. Ну а наш шофер и переводчик выступал в роли ростовщика-посредника, который урвет свой кусок у всех и при любых обстоятельствах.
– Так, значит, ты точно согласен? – решил он еще раз подстраховаться.
– Точно, Сулейман. Если хочет, пусть поет.
Нам и впрямь принесли по порции кебаба, лаваш, немудрящий салат. Всем четверым – по стакану чая, а нам с Сулейманом еще и по стопке водки. Бедняга Рахим успел только выпить чаю и съесть половину пряной колбаски из рубленого мяса. Его уже ждали. Он вышел к буфету, как на эстраду, поставил на стойку тарелку с недоеденной снедью и прижал руку к груди. Из залы понеслись одобрительные возгласы. Мальчишка явно был польщен. Судя по всему, многие из собравшихся были ему знакомы. Он смущенно улыбался, тянул в полупоклоне цыплячью шею и как бы мимолетом бросил на меня скрытно горделивый взгляд. И наконец запел.
Это явно была какая-то народная баллада на любовную тему. Рахим пел высоким фальцетом, из-за чего волей-неволей вспоминалась традиция певцов-кастратов. Причудливая мелодия вилась восточными ладами, и я вспомнил, как мой знакомый армянин-искусствовед из Еревана говорил, что в азербайджанской музыке помимо привычных нам полутонов, присутствуют четвертьтона, а может и еще более мелкие деления, которые «могут различать только рыбы и турки, но никак не нормальные люди». Шоферня откинулась на спинки стульев и довольно восклицала: Вах! Вах!
После первой баллады последовала вторая, а за ней и третья. Потом Рахим жестом показал, что должен передохнуть, и раздалось несколько хлопков в ладоши, которые нельзя было назвать аплодисментами хотя бы потому, что такой традиции в тех краях никогда не было. И действительно. Даже смысл этих одиночных хлопков, часто над головой, был, в общем-то, другим. Это была не только дань восхищению, но и знак буфетчику, чтобы тот налил артисту еще чаю и дал ему еще еды. Надо отдать должное Арифу: вместе со стаканом чая он поставил перед Рахимом и стопку водки. Тот метнул на нас с Сулейманом извиняющийся взгляд и слегка пригубил. Но Ариф понял этот взгляд по-своему и принес водки с закуской нам тоже. Нечего и говорить: он знал, что делает. Концерт с небольшими антрактами продолжался часа полтора. Публика выпила не один литр водки, декалитры пива и съела не менее центнера баранины. Всё, доставшееся как Рахиму, так и нам с Сулейманом, было, разумеется, оплачено горскими ковбоями за баранками самосвалов.
Мальчишку долго не хотели отпускать с импровизированной сцены. Но пора было ехать. Я попал в свой домик с окном, обращенным в сторону горной речки, и с веткой шиповника в стакане только около часа ночи. Моим спутникам предстояло еще с четверть часа добираться до своего Гехи.
Как выяснилось, почти все, что пел мой помощник, было как раз теми самыми мугамами, которые Рахим сочинял сам и записывал в школьную тетрадку. Я воочию убедился: его знали и любили. Он был популярен. Он был народным певцом, исполнителем и автором мугамов, мугамчи.
На самом деле, в его лице я застал живую традицию, шедшую по меньшей мере со средневековья и практически исчезнувшую в России и в Европе. Потому что народные песни у нас еще поют, но новых не сочиняют. Менестрели, скоморохи, ваганты, даже самые обычные странствующие певцы у европейцев давно перевелись. Их место заняли рокеры и джазисты, но это совсем не то. Оборвалась традиция, «распалась связь времен»… А вот в далеком, затерянном в горах Зангезуре эта связь сохранилась. И не только у азербайджанцев.
В армянской забегаловке близ рынка я наблюдал за стариком, за такие же добровольные подношения закуски и выпивки меланхолично игравшего что-то на четырехструнной кяманче. Он ничего ни у кого не просил и даже ни на кого не глядел. Он только знай себе играл что-то на своем красивом старинном инструменте и порой что-то негромко напевал. Кажется, из Саят-Новы.
А однажды на пыльном запущенном стадионе на выезде из Кафана вкопала два высоченных шеста с канатом между ними целая труппа бродячего театра. Маленький оркестрик из саза, кяманчи и зурны с литаврами расположился поодаль, а на канате, на трехметровой высоте переругивались друг с другом карикатурный джигит и армянский вариант Петрушки – с носом картошечкой и русыми патлами. Конечно, из-за армянской же Коломбины, скромно стоявшей здесь же у одного из шестов и отпускавшей с невинным видом, должно быть, самые едкие шутки, потому что от смеха покатывалось несколько сот человек, столпившихся вокруг, а Петрушка в конце концов спихнул джигита с каната, и тот, удачно приземлившись, в бессильной злобе продолжал грозить своему сопернику всеми казнями египетскими – к вящему удовольствию зрителей.
Оживший балаганчик… Комедия дель арте… О, они сейчас в моде, и по всей Европе кочуют фестивали и конкурсы подобного народного театра. Такими сценками любят побаловаться молодые дерзкие режиссеры, в них играют студенты театральных студий. Только вот по-настоящему народного в них остается все меньше и меньше…
Наверно, где-нибудь в Индии, Иране или Китае такие труппы, певцы, танцоры и факиры редкости не представляют. Но для нас эта безыскусная традиция, жившая ведь не так уж давно и в нашей стране, выглядит экзотикой – пуще некуда. И не только для нас. И ереванские армяне, и бакинские азербайджанцы давно отвыкли от таких сцен.
Они привыкли совсем к другому.
К резне. К войне. К разорению.
В Зангезуре азербайджанцев больше нет, как и армян – в Баку. Даже умница Фамиль, ругая на чем свет стоит собственных соплеменников, вынужден был уехать «на родину предков». Спустя пару лет он сбежал и оттуда. Презрительно усмехаясь по адресу большинства беженцев с их патриотическим угаром, он перебрался к очередной своей приятельнице, на сей раз лезгинке, из разоренного армянским погромом Сумгаита в Дагестан и даже сумел получить российское гражданство. Может быть, где-то ближе к пенсии он получит наконец диплом о высшем образовании. Для этого ему надо всего ничего: суметь раздобыть свои документы студента-заочника в Ереване и уговорить принять их в любом институте Краснодара, Ставрополя или хотя бы Махачкалы. Будут ли такие усилия стоить результата?
Али не поехал ни в Иран, ни в Турцию. Он завербовался в армию и стал образцовым сержантом. Ему этого пока хватает. Но если захочет, если будет чуть серьезней и возьмется за ум, вполне сможет стать офицером.
Сулейман… А что, собственно, может случиться со сквалыгой и трусом? Мне никто о нем ничего не говорил – кому он интересен? Но, скорее всего, он должен спокойно где-нибудь шоферить. Вполне возможно, водит маршрутное такси в Москве или Питере. Ведь это куда как прибыльнее, чем крутить баранку в переполненном беженцами Азербайджане. Да и безопаснее.
Рахиму надо было помогать своим младшим. Они уже выросли, но оставшись без кола без двора, впали совсем в нищету. Рахим тоже завербовался на войну. Он мог стать, возможно, неплохим поэтом – кто знает? Но как солдат он никуда не годился. Его убили в первой же стычке, в которую он попал в Карабахе.
Об остальных я ничего не слышал.
Витя закончил свой рассказ, и мы помолчали. Где-то доводилось читать, будто по последним исследованиям ученых библейский Эдем располагался совсем недалеко от тех мест – к востоку и северо-востоку от озера Урмия, в районе современного Тебриза в Иране. Причем северная граница райского сада окажется тогда всего лишь километрах в восьмидесяти от Кафана. Бог изгнал Адама из рая. А мы изгоняем друг друга из его преддверий. Они ведь не только в Зангезуре. Преддверьем рая должен быть весь Божий свет.
Камера снова начинает отъезжать.
Озерцо за Шикагохом. По альпийскому склону бежит лиса.
В придорожном шалмане поет дискантом паренек-мугамчи.
Семидесятые. Зангезур.