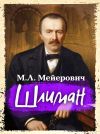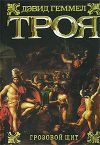Текст книги "Записки лжесвидетеля"

Автор книги: Ростислав Евдокимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Через пару недель ему удалось подкараулить партизан, когда они уходили в лес. Метров двести еще удалось пройти за ними незамеченным, но партизаны оказались куда как чутче солдат. Внезапно один из них, каким-то звериным движением развернувшись в Витину сторону и вскинув трофейный «шмайссер», упал в кусты, двое других метнулись к деревьям. Прошло несколько чудовищно долгих мгновений, пока Витя сообразил, что никаких приключений больше не будет, что следующая секунда – последняя в его жизни. «Дяденьки, не стреляйте!» – захлебываясь любимыми звуками любимой речи, успел он крикнуть первое, что пришло в голову. И еще он успел почувствовать биение жилок в висках, приток крови в голову и отток обратно – должно быть, в пятки – прежде, чем услышал облегченный вздох в кустах и чье-то злобное шипенье из-за дерева: «Молчи, щенок…» Потом были уговоры, объяснения, «честное пионерское», горячее вполголоса совещание троицы и суровое: «Иди впереди. Если пикнешь, пристрелим». В глухой чащобе ему приказали сесть под разлапистой елью, и один партизан остался с ним, а двое ушли, как догадался Витя, – в отряд, к командиру. Часа через два они вернулись.
– Вот что, малец. Завтра с утра возьмешь у Петра подводу, погрузишь оружие и повезешь по дороге на хутор. Сверху сеном закидаешь, чтоб, если что, маскировка была. Где нужно, тебя встретят. Понял?
– Да. Только…
– Что – «только»?
– Я же не справлюсь… И дядя заругает… Ну, за подводу… Я думал, вы сами… я покажу!
– Ах ты, падла! Думаешь, мы не знаем, как… Мы из-за тебя жизнью рискуем, а ты еще кобенишься!
– Но это же вам оружие нужно!
– Ах, вот ты как заговорил? Нам нужно!? А ты, значит, приведешь немцев и будешь смотреть, как нас стреляют? Не-ет, браток. Сам погрузишь и сам привезешь. Если не соврал, тебя прикроют. А соврал – так не обессудь…
Что будет, если соврал, говорить было не нужно. Достаточно было покачать вороненым стволом. Это Витя уже понимал.
На следующий день спасло мальчишку то, что силенок у него и впрямь было маловато. Еще в сумерках уведя дядину подводу, он часа три потратил на то, чтобы кружным путем добраться до места, накосить сена, а когда дошло дело до главного, то оказалось, что времени в обрез и удается откопать только несколько винтовок. Но ведь на первый раз это тоже неплохо! Счастливый, но в холодном поту от страха, ехал он знакомой дорогой. И тут показались мотоциклисты. Он не знал, бежать, остановиться или ехать дальше, как ни в чем не бывало, но все решили за него. Прозвучала команда, к подводе подошли двое, несколько непонятных вопросов и его испуганных ответов невпопад, и вот уже солдаты подняли штыки, чтобы протыкать ими копну. Потом Виктор вспоминал, что тогда первый раз в жизни осмысленно взмолился Богу: «Господи, помоги!» И Господь помог. Три-четыре раза ткнув сено штыками, немцы ни разу не задели за металл! Безразлично кивнули – езжай, мол – и уехали дальше. Если бы оружия он успел накопать больше, сейчас, быть может, стоял в его селе гипсовый бюстик, а об его подвиге рассказывали бы школьникам перед 9 Мая…
Но все случилось по-другому. Минут через десять его действительно встретили уже знакомые дядьки из отряда. Теперь его отвели в расположение партизан. Пока он в землянке докладывал командиру и объяснял, что всего оружия привезти бы не смог, как ни старайся, кто-то сгрузил сено, распряг и увел лошадку. Только отчаянная решимость Вити позволила ему отстоять животину, но подвода осталась в лесу. А дома ждала жестокая дядина взбучка: «Ишь ты, пионер недоношенный… Партизаны ему понадобились, так твою так… Ленинградец чертов…» Но все это было нестрашно. Витя добился своего, стал связным с собственным дядей и еще с двумя мужиками в деревне, рассказывая партизанам все новости и предупреждая о появлении немецких отрядов. У него все еще оставался шанс стать героем, уйдя, повзрослев, в отряд или мученически погибнув на немецкой виселице.
«Но судьба распорядилась иначе», – принято говорить в таких случаях. Мой солагерник Леха с видом гроссмейстера, дающего «детский» мат новичку, победительно повторяет прописную истину, будто «история не имеет сослагательного наклонения, сослагательное наклонение есть только в жизни», ибо в истории, по его мнению, все предопределено: некий набор социально-экономических, культурных и прочих условий с неизбежностью приводит к однозначным последствиям. А вот отдельно взятый человек, обладая свободой выбора, способен сам создавать свою судьбу. Какая несусветная чушь! Кто мог это придумать – лукавые царедворцы? ленивые педанты? ученые бездари? Кому нужна история, не отвечающая на вопрос: «что было бы, если бы…»? У простого изложения исторических событий есть другое название: фактография. Историю создали народы, поставившие перед собой по-детски наивную и великую цель: научиться на чужих ошибках. Этого, конечно, никогда не бывает. Это ребячьи фантазии взрослых дядей. А народы раз за разом разыгрывают древние трагедии, и, увы, совсем не в виде фарса. Но век за веком сидят над рукописями наивные мудрецы и пытаются предупредить потомков: «Послушайте! подумайте, что могло бы быть, если бы мы не сделали такой поразительной дурости, как…» Иногда все-таки какие-то глупости действительно выходят из моды. И за это спасибо истории. Тогда люди находят новые обольщения, а потом возвращаются к прежним – это когда историю забывают. А вот в обычной человеческой жизни – как раз наоборот. Что случилось, то случилось. И ничего нельзя уже переделать. Потому что история – это что-то вроде сопромата: наука о сопротивлении человеческого материала. Можно выяснить результаты сотни поставленных народами опытов, чтобы узнать наиболее вероятное поведение материала в сто первый раз, в сто второй и в сто третий. Но если историк честен, он знает, что его наука – не геометрия, в ней всегда присутствует непредсказуемый разброс величин, принцип неопределенности, как в квантовой механике. Вот почему мы можем и должны учиться у прошлого, но одним из этих уроков как раз и будет уважение к сослагательному наклонению, в котором История проговаривает самые важные свои фразы.
– Вот именно, что просто фразы. Ты повторяешь зады давно обсосанной дискуссии о роли случая в истории. Как легко у тебя получается! Появился какой-то Ульянов с деньгами от германского Генерального штаба и устроил революцию. А не было бы золотых марок – не было бы революции? И мы ни в чем не виноваты – бедненькие жертвы? Нет, милый мой, не так. Расея такая страна, – Леха изображает мудрый прищур, – что сам народ, эти вот наши русачки, их надо знать! «народ-богоносец надул», – Савинкова читать надо! И мы все: и ты, и я – все несем вину за все, что случилось. И нечего прятаться за случайностями: мы-де не виноваты, непредвиденные обстоятельства, ничего не поделаешь!..
– Так ведь как раз наоборот. Если историю всегда делает весь народ – десятки миллионов человек, экая махина! – если, как у Толстого в «Войне и мире», Наполеону только кажется, будто историю делает он, а Кутузов тем и хорош, что сам ни на что не претендует, а лишь угадывает безликое движение масс, то чем же может повлиять на судьбу мира один отдельно взятый человечек – Безухов, Ростов, Болконский? Только и остается: лежать под дубом, философствовать и помирать. Нет, это как раз я хочу доказать, что действовать должен каждый так, словно от него зависит всё. Ведь достаточно трехсот спартанцев или безумной атаки польских гусар на султанский шатер под Веной, достаточно бури у берегов Англии или у берегов Японии, достаточно Магомету вовремя сбежать в Медину, а Ленину в Цюрих – и судьбы целого мира становятся совсем иными. Нам говорят, будто, ежели какое-то историческое событие созрело, словно плод на дереве, то всегда найдется прохожий, который сорвет такое красно яблочко, и коли этого не удастся совершить тому, к кому мы привыкли в реальной истории, то его место с угрюмой неизбежностью займет кто-то другой (чаще всего почему-то обреченно добавляют, что этот другой будет еще хуже). Но ведь это просто-напросто вранье, сознательный или – тем противней! – бессознательный обман доверчивых и малограмотных интеллектуалов нашего времени. Будь мекканские корейшиты чуток порасторопней, побей они вовремя камнями своего подверженного припадкам падучей соплеменника, зарежь или всего лишь посади его на цепь в надежном погребе – и ни один фанатик не осмелится утверждать, будто кто-то из будущих «четырех праведных халифов», даже сам Али мог бы самолично составить Коран и основать ислам. Пусть у арабов «назрела» необходимость в единой развитой монотеистической религии – что с того? Их наиболее культурные северные и западные племена к тому времени давно создали вассальные Византии христианские княжества, часть йеменитов приняла иудаизм. Эти религии и поделили бы между собой оставшиеся языческими племена. Вместо Крестовых походов могли бы быть войны между западным и восточным христианством, но это уже совсем не то. Не было бы мусульманской культуры и «исламского мира». Не было бы сегодняшнего арабо-израильского конфликта или он принял бы совсем иные формы…
– Какая разница, что за формы он принял, если бы все равно был? Почему оттого, что арабы оказались бы православными, стало кому-то лучше? Откуда ты это знаешь? И если бы монголы высадились на Японских островах, через три-четыре века это была бы та же самая Япония, только с монгольской примесью. А вот человек действительно может переменить всю свою жизнь.
– Конечно, может. Только сделанного уже не вернешь. И потом. Я ведь не говорю: хуже или лучше. Я говорю: по-другому. И не спорю, что есть закономерности. Просто они не всегда срабатывают. И не всегда все зависит от случая. Но иногда. Появится нужный человек в нужное время в нужном месте – и очень даже может изменить историю целой страны. А в своей личной судьбе повредит в детстве ногу – и на всю жизнь останется хромцом. Тамерланом или Байроном – неважно. Важно, что мир перевернуть может, а себя – нет. Ты и твои кумиры перепутали музу истории Клио с теми историями, что могут приключиться с Иваном Ивановичем, Петром Петровичем или Витей Лешкуном. Ведь человеческая судьба – мост. Всякий раз – один-единственный. Мост из времени – в Вечность, от животного – к Богу. Строитель-неумеха и рад бы поставить его нерушимо, но у него при всей свободе воли нет опыта, он живет в первый раз (и в последний), ошибки не всегда даже зависят от него и куда как часто вовсе неисправимы. Что с того, что, солгав, украв или совершив подвиг, человек самовластен? Это народы и цивилизации, проиграв одну битву, могут выиграть другую. Но как женщина, став матерью, никогда не вернется к смутным девичьим мечтаниям, так и мужчина, совершив первое убийство (даже по самым благородным основаниям), никогда уже не станет прежним. Судьба человека – в наклонении изъявительном…
В конце концов, немцы снова нагрянули на хутор с собаками. Найти им ничего не удалось, но Петра забрали в комендатуру и только после двухчасового допроса – злого, голодного, слегка, надо понимать, побитого – отпустили домой. Это ведь легенда, будто каждый, кого хватали, обратно уже не возвращался. Все зависело от того, какие части стояли в местечке. Если эсэсовцы, то, спору нет, оставаться в живых было занятием неблагодарным. Но солдаты и офицеры обычного вермахта, да еще в лесной глуши, даже растеряв благодушие первого года войны, сохраняли удивительный с точки зрения подсоветского народа предрассудок – правовое подсознание (говорить о сознании, наверно, все-таки было бы преувеличением). Чего уж там, если сам Гитлер после неудачного процесса о поджоге рейхстага отпустил свои жертвы на все четыре стороны – заниматься антифашистской агитацией и пропагандой! Это все равно как у собаки, сказав «фу!», вынуть кусок свежего мяса из пасти. Адольф Алоизиевич был, сдается, бешеной, но изначально выдрессированной немецкой овчаркой. Законы, по которым он жил и заставлял жить свой народ, могли быть вполне людоедскими (как у натренированного на убийство человека охранного пса), но, чтобы нарушить эти, пусть самые чудовищные законы, потребовалось бы сломать вековые инстинкты. Фюрер, похоже, как раз об этом и мечтал, но мечтают-то именно о том, чем не обладают… Так или иначе, но при отсутствии вразумительных улик обычный немец, не прошедший в должном объеме школу воспитания нового человека, был неспособен действовать чекистско-гестаповскими методами. Петр вернулся на хутор, но по множеству деталей, по обрывкам слов, выражению глаз, по тугому, словно накрахмаленное полотно, воздуху в деревне он по-звериному учуял, что шутки теперь плохи, немцы сели на хвост и первый же прокол племяша или свой собственный станет последним. Петр Лешкун был из тех умниц-нелюдимов, что со стойким презрением относятся к любой власти – к панской, «большевицкой» или фашистской, какая разница… Но внутреннее чувство долга и ответственности перед своими (между прочим, отнюдь не в расширительном, а в самом прямом смысле – перед своими родичами, друзьями и соседскими мужиками), чувство спокойной уверенности в своей правоте убедило его пуще всякой логики, что жить осталось недолго и что отвечать за себя надо самому и одному, чтобы не мучиться в последнюю минуту от мысли, что не смог уберечь братнего сына. Особой любви к партизанам он не испытывал, но выхода другого не было. Пожилой лесник был краток.
– Беги в лес. Все расскажешь. Обратно тебе пути нет. Уцелеешь – отцу скажешь, что… Да что говорить! Как есть, так и скажешь. Ну, с Богом!
В лесу мальчишку встретили хмуро.
– А ты сможешь с автоматом и вещмешком за плечами полдня по буеракам прошагать, да чтобы по-быстрому? Нет, не сможешь. И не уверяй. Мал еще. А у нас здесь нянек нет с тобой возиться.
– Но как же мне быть? Ведь схватят же немцы! Ну можно, я помогать чем-нибудь буду?
– Чем ты нам поможешь? Разведка? Так это понятно. А в остальное время? Это в обычной армии пацаны, вроде тебя, воевать могут. Там тыл есть и ездят по каким-никаким, а по дорогам. А у нас – жилья толком нет, еды нет, все время из облав вырываться, марш-броски верст на тридцать, а то и на пятьдесят, да по болотам, да чуть не бегом. Тут не всякий мужик выдержит. Нет. И не уговаривай.
– Но что же мне делать? Да вам же самим пагана будзе, якщо мане замардуюць. – От волнения у Вити прорывались местные словечки.
– Что-о!? Ты на что намекаешь, падла? Да может тебя сразу кончить, чтоб не мучился? Сам со своим дядькой-кулаком проваливаешься, а нам расхлебывай? Да может, ты уже на нас карателей вывел? Нет? Ну, это мы все равно узнаем. Если что… Из-под земли достану! – Командир зло сплюнул. – Ладно, – и, немного помолчав: – ты, вот что… – и уже спокойнее: – тут немцы в районе разведшколу открывают, добровольцев ищут. Поди-ка ты туда. Там они таких умников, может, искать и не догадаются.
– Да как же я добровольцем-то – в полицаи!?. Да ведь мне потом… Это ведь в предатели самому идти…
– Молчи, дурак. Я же сказал: не в полицаи, а в разведшколу. А нам там свои люди тоже нужны. Так что можешь считать, это тебе задание. А не хочешь – так и впрямь лучше здесь тебя пристрелить, чем немцам отдать. Все, хватит. Нет у меня больше на тебя времени. Ступай, и чтоб без дураков. Будет нужно – тебя найдут. Все понял? Ну, давай, давай, сваливай.
Так случилось Вите надеть немецкую форму. Как узналось потом, была его школа дальним отростком славной системы «Цеппелин». А может, привирал он это для красного словца, чтобы набить себе цену. Впрочем – навряд. Зэков всякими там «цеппелинами» не удивишь, а чекисты злее будут. Хотя, с другой стороны, следователи-то и без него знали, что к чему (или думали, что знали), а похвастаться могло быть и безопасно, если они все равно ничему про него не верили. В общем, неважно. Какая разница, как эта контора называлась? Главное, что способный парень делал успехи и начальство стало его привечать, вовсе не требуя каких-то особых услуг взамен. А война, между тем, шла.
Война шла, и набирал силу 43-й мясорубный год. Медленно-медленно клубился сладковатый дым от человечины, прожаренной в солярке под Прохоровкой. Такие же сладковатые котлетки продавали суетливые бабки в блокадном Ленинграде. Чекисты жрали икру. Фронтовые офицеры глушили спирт. Маршал Жуков зажевывал дивизию за дивизией. А в далеком Занеманье к концу года вышел приказ партизанскому отряду рвануть километров на четыреста к югу, чтобы выжечь дотла крамолу хохляцких самостийников, посмевших подняться против фюрера и генсека. Этих подробностей знать Витя не мог. Никому даже в голову не пришло что-то ему объяснять. Впрочем, это было и невозможно. Просто в какой-то момент наступила прозрачнейшая пустота, и мальчишка понял, что окончательно брошен. Он уже достаточно знал партизанские нравы, чтобы не питать иллюзий.
Связь с партизанами оказалась бесповоротно потеряна, и это означало, что в разведшколу он пришел добровольно и столь же добровольно стал самым настоящим «пособником гитлеровских оккупантов» – еще и покруче, чем обычным полицаем. Витя о многом стал догадываться еще тогда, но спустя годы узнал точно: даже разыщи он потом командира отряда или кого-то из его руководства, никто не подтвердил бы его уверений, что гитлеровскую форму он надел по их же приказу. Действительно, и на лесном-то хуторе ни ему, ни его дяде полного доверия от партизан не было, а в фашистской разведшколе, да при потерянной связи… Откуда, в конце концов, им знать, чем он там занимался? А признаешься невпопад, что они же его туда направили – и готово: самого к стенке поставят, и вся недолга. Вскоре стало еще безвыходней. В 44-м школу стали перебрасывать на запад, а Витю за бравый вид, сообразительность и успехи в стрельбе, а главное – за легко ему дававшийся немецкий язык, перевели на вторую ступень, по окончании которой у него появлялся шанс попасть не на фронт, а остаться при школе инструктором-переводчиком для новых пополнений. Мало того, ближе к концу года, когда исход войны, в общем-то, стал ясен каждому и взбесившаяся власть одной рукой стреляла и вешала, а другой подписывала документы о невиданных послаблениях, позволявших создать Русскую Освободительную Армию, Витя, как и почти все его однокашники, подал рапорт о переводе в формируемые части генерала Власова. Трудно сказать, какие шестеренки провернулись не в ту сторону в начинавшем давать сбои механизме, но первоначально предложенная самими немцами идея была отвергнута, где-то решили (пожалуй, небезосновательно), что передавать русским образцово подготовленные разведкадры опасно, и, отправив в РОА десятка два откровенных бездарей, остальным для предотвращения подобных поползновений в будущем придали статус вспомогательных войск SS и надели эсэсовскую форму.
Конечно, Леха уже ворчит, что трудно себе представить добровольца-эсэсовца, который за полтора года так ни разу и не участвовал бы ни в одной акции, а только учился, учился, учился на немецкие деньги – почти как дедушка Ленин. Его правда, верится с трудом. Признаться честно, меня хоть и огорчило бы нарушение чистоты сюжета, но не удивило, если бы вдруг оказалось, что не все так просто. Каждый советский человек понимает: таки должна же быть в этой истории какая-то подлянка и червоточинка. Она, конечно, и будет, но еще очень нескоро и совсем иная. А пока только два соображения, косвенно обеляющих Витю. Как ни странно, такое неучастие в боевых действиях людей в форме не было слишком большой редкостью у немцев. Насквозь заидеологизированная власть силою вещей принуждена была прибегать к содействию ненавистных славян, а порой и семитов, но доверять им оружие было для истинных нацистов настолько противно, что даже перед угрозой неминуемой гибели Третьего рейха сформированные и обученные полторы власовские дивизии участвовали всего лишь в нескольких периферийных стычках, пока не выбили самих же гитлеровцев из столицы мгновенно предавших своих освободителей чехов. Полицейская мелкота по деревням – дело другое, как и вконец олютовавшие зондеркоманды из некоторых нацформирований с отмороженными глазами. Кстати, при всей тупоголовости гитлеровской национальной политики не следует, наверно, преувеличивать степень ее безумия. Ну в самом деле, попробуйте себе представить не то что армию, а советскую роту, сформированную из поволжских немцев, или американский морской экипаж, набранный из этнических японцев! Вторая странная защита, защита от противного – это молчаливое согласие с его рассказом других наших лагерных стариков, «стариков-за-войну», как мы их называли. Все они знали друг друга как облупленных за долгие годы войны, партизанщины, службы в полицаях, сталинских и брежневских лагерей. Кто бы какую повесть ни рассказывал молодым политзэкам, всегда находился кто-то другой, кто, сторожко озираясь, подходил потом к тебе и объяснял, что Ивану (Петру, Ваське) верить нельзя, что на самом-то деле они такое вытворяли – «уж мы-то знаем»… И если таких опровержений не было слышно, это можно было считать очень серьезным подтверждением слов рассказчика, потому что старики знали друг о друге больше, чем мог узнать любой следователь.
Так или иначе, но весной 45-го вагоны с русскими, украинскими, белорусскими мальчишками отправились в Восточную Пруссию. Часа в четыре ночи их высадили километрах в пятнадцати от Кенигсберга. «Дальше ехать нельзя: эшелон разбомбят, – объяснили им. – До города придется сделать марш-бросок». Понурые, вышли они к соседнему шоссе. О том, что их ждет, не хотелось и думать. Прошли метров пятьсот. Офицер-немец критически оглядел колонну и махнул рукой:
– Запевай!
– Deutschen soldaten und der ofizieren… – понеслись по полю мальчишечьи голоса. Звучали они несмело и пели сбивчиво, но порядку, вроде, прибавилось, шаг стал четче, отряд подтянулся.
– Запевай! – повторил немец, когда песенка кончилась.
– Deutschland, Deutschland über alles… – уже веселее откликнулся отряд (пели, конечно, «убирались» – и втайне страшно этим гордились).
– Запевай! – вновь скомандовал офицер, когда подошло время.
– Deutschen soldaten… – зазвучало снова и как-то грустнее. Командир был сообразителен (или из остзейцев?) и понял, что других немецких песен они просто не знают, а повторять одно и то же – к добру не приведет. Война все равно шла к концу.
– А! – махнул он рукой, – давайте что-нибудь свое…
Через полчаса какой-нибудь свихнувшийся ангел мог наблюдать замечательную картину. Позади и чуть справа от колонны из-за сосняка вставало солнце. Золотом и пурпуром играло оно на стеклах и черепицах красавца-города, словно из особо изощренного дендизма надевшего траур. На рассвете рекламно-курортного апрельского денечка в Кенигсберг вступала колонна эсэсовцев. Доблестные защитники чеканили шаг под звуки бодрого марша:
Утро красит нежны-им цве-етом
Стены древнего Кре-емля,
Просыпается с рассветом – ать-два! –
Вся советская земля-а…
Со стороны солнца приближались силуэты советских бомбардировщиков…
Смешно? – Конечно, смешно. Только очень скоро мальчишек этих рассортировали на две неравные части. Совершеннолетних расстреляли на месте. Тем, кому удалось убедить СМЕРШ в том, что настоящими солдатами они стать еще не могли, дали «на всю катушку» и отправили в лагеря. Такой вот юмор… Виктор Лешкун, кажется, действительно имел право попасть в счастливую категорию «недорослей», но вот как ему удалось это доказать? – похоже, здесь и начинается червоточинка. Но это уже другие времена и другие рассказы.
* * *
– Но при чем здесь ты? Зачем так долго рассказывать эту забавную и назидательную, но ведь вполне чуждую тебе историю? Неужели лишь для иллюстрации того банального факта, что советский суд, как, впрочем, и любой человеческий, бывал несправедлив, а доказать истину было невозможно? Согласись, судебные ошибки случались всегда, но это еще не причина переворачивать с ног на голову все человеческие представления о нормах поведения и о порядочности.
– Знаешь, я мог бы ответить многими вполне пошлыми ответами. Сказать, что лагерь – это тоже что-то вроде войны. Сказать, что даже у самых честных и смелых авторов мне как-то не приходилось читать о таких вот растоптанных и безвестных витях, отнюдь не ставших в наших лагерях образцами героической стойкости в сознании своей моральной высоты. «Я – голос их…» – не помню, у какого поэта есть такие слова. Может, у Ахматовой? Но кто дал мне право быть их голосом? Или – что? Совесть? Жалость? Просто желание рассказать занятную байку? Я могу даже впрямую тебе возразить и напомнить, что судебные ошибки существовали всегда, но никогда не становились правилом, никогда не были сознательно насаждаемы как норма бытия. В любом законе есть хотя бы рудименты логики, пусть изуверской и больной. На худой конец, Законом может стать голый произвол, когда взбесившаяся тварь капризно топает ножкой и говорит: «Я так хочу, потому что я так хочу, и, следовательно, так будет!» Но если в ранг Закона возводится постоянно действующая ошибка, меняются до неузнаваемости, собственно, не нравственные нормы, но те явления, к которым их предполагается применять.