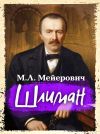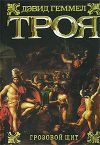Текст книги "Записки лжесвидетеля"

Автор книги: Ростислав Евдокимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Чушь! Чушь! Нашел время рассуждать! Ноги были сочные и теплые – так бывает, когда долго распариваешь их перед сном в ванне с кипятком, но это не прибавляло им энергии, а сделало бесчувственными и невесомыми: пенопластовыми. И вот этот неприятный факт Витя ощущал очень хорошо, а разбираться, чтό и куда его толкало, было явно не ко времени. Если бы действительно он приближался к сидящим на взрывчатке девицам, следовало бы хоть детство вспомнить, но вспомнить он ничего не мог, кроме скучного подтверждения, что вот, мол, жил, верно, и жил скверно, потому что всегда хотелось ему сделать что-то серьезное и важное, нечто такое, что существовало бы отдельно от него, но в то же время несло в себе неповторимые черты его души, как бы овеществило (хотя б в виде формулы или листа бумаги) самое хрупкое и неуловимое в нем самом. А исчезнуть без остатка – это слишком бессмысленно, чтобы быть правдой. Будь так, разве могла бы вообще существовать в мире жизнь? Пенопластовые ноги продолжали тупо и мерно передвигаться по поверхности земли, кажется, в сторону тридцатиметровой отметки на проводе, и Витя постарался вызвать пару тусклых и недостоверных видений из прошлого, полагая, что раз так положено и со всеми бывает, то, значит, надо. Но видения оказались какими-то неуверенными, и он плюнул, а на самом деле сглотнул иссохшим горлом слюну.
– Н-ну. В-виктор А-лек-сандрович! – раздался зато голос самого Артавазда Тиграновича, начальника партии, – ви па-че-му не сказали, что ад-наму там работать нельзя?! – («Будто бы сам не знает, что нельзя, шакал орденоносный…») – Н-ну. Я па-ни-маю: Сулейман мал-чит, дурр-рак патаму что. Но вви!? – Артавазд был как всегда на взводе и выговаривал слова по слогам, чтобы было страшнее, с интонациями то ли Сталина, то ли Чингис-хана – резко и выразительно поднимая и опуская голос, как опытная истеричка из коммунальной квартиры. Узкие губы сжались в кривую и холодную полосу турецкого ятагана и металлический блеск струился из спокойно-бешеных глаз. Бр-р! – видение было слишком чудовищно, и на мгновение Витя даже забыл, куда и зачем он бежит.
Но страха уже не было. Не страшен был даже Артавазд, а уж смерть – тем более. Не то чтобы был он фаталистом, словно какой-нибудь Хасан (тем более что о собственных-то своих судьбах хасаны ничего и не хотят знать). Нет. Прожить можно и калекой, даже не хуже, чем то, что сейчас – солнышку радоваться, следить за травой… И никто ничего не станет больше от тебя требовать. Спокойствие… Отдых… Вечное блаженство… А нет – так и ладно. Если и сдохнет, хуже не будет. Раствориться молекулами воды и углерода – пылью в воздухе, перегноем в земле. («И как раз здесь перегноя ой как не хватает!» – успел еще усмехнуться Витя). А если там, за землей и воздухом, есть что-то иное, то ведь и этого иного нет у него каких-то особых причин бояться – не расстреливал, не растлевал, а и грешен в чем… Если жив Ты, Господи, – поймешь меня, а поймешь – не осудишь.
Потом все мысли, воспоминания, образы куда-то ушли, исчезли, и осталось одно только чувство движения, словно бег на месте, когда не видно ни камней, мелькающих мимо, ни кустов, ни неба, а только смутное недовольство от запутавшихся в носках колючек и раздражения – какого черта столько их здесь понавырастало! и что теперь полчаса придется их выковыривать. И тут перед глазами возник провод и, не видя и не считая, сколько метров до него осталось, Витя бросился на эту черную змейку, именно кожей – на ощупь – ощущая, как пульсирует она уже побежавшим по ее медным и стальным жилам электрическим разрядом. Он знал, что перекусит ее зубами, потому что в последний раз всплыли в мозгу рассказы о героях-связистах, мертвыми челюстями сжимавших оголенные концы проводов.
Через несколько катастрофических мгновений, еще ожидая электрической волны во рту, он понял, что провод перекусил, слава Богу, кусачками, и лежал перед ним с разбитыми коленями и подбородком, с протянутой вперед рукой, окруженный дрожащими, посеревшими школьницами. Тогда он поднялся, стыдливо отряхиваясь, и разразился долгой захлебывающейся руганью – как оратор на трибуне, – кажется, он даже махал правой рукой, а потрясенные слушательницы молча ему внимали.
Потом он сидел у ручья, и ел сыр, лаваш, помидоры, и поглядывал на ложбинку между двух холмов у одной из армянок – она смущалась и чем-то напоминала ему Иру… Потом появилась неказистая лошадка, на которой он скакал к Сулейману, объяснял случившееся. Потом соединял провод, забирался снова на свой наблюдательный пункт и пил принесенное ему в дань теплое домашнее вино. А когда, наконец, раздался взрыв, рассмеялся.
В самом деле, если правду говорят, что отрубленные головы, словно у курицы, умирают не сразу, то интересно: увидела ли бы что-нибудь, кроме неба, его оторванная от тела голова, и что именно, взлети она метров на 20–30 над этими холмами? И главное: что бы она при этом думала?
1980
II
Мемуары
На ветке голый
Ворон сидит в одиночке.
Осенний лагерь…
Записки лжесвидетеля
Лжесвидетель – это я, и нисколько в том не раскаиваюсь. Записки эти в основном повествуют о других лжесвидетелях, тоже, как правило, весьма далеких от раскаяния. Впрочем, я знал одного, куда как взволнованно и проникновенно, я бы сказал – гневно осуждавшего нашу нераскаянность. Именно – нашу, и прежде всего – мою. Но не свою собственную. О себе он был уверен, что его устами глаголет сама Истина. Или академик Сахаров. Бог ему судья. Если мне когда-нибудь захочется вспомнить, как диктор с левитановской убежденностью уверяет, будто «говорят все радиостанции Советского Союза», я позвоню Лехе Смирнову-Костерину и скажу, что так и пребываю в сознании своей правоты. Пусть он меня поубеждает, поосуждает, попригвождает к позорному столбу и поугрожает исключением из партии, то бишь из сплоченных рядов истинных демократов. Когда мне станет скучно, я повешу трубку. Но, правду сказать, никогда и не позвоню, потому что скучно уже сейчас, заранее.
О чем же и о ком я хочу лжесвидетельствовать? Вообще-то сознательным лжецом, клятвенно заверяющим свою и чужую ложь, то есть лжесвидетелем, на мой взгляд, должен быть всякий честный и психически здоровый человек. Я не спорю, кому-то могло не повезти в жизни, и соврать по принципиальному поводу так и не довелось. Ну что ж, бывает… Как говорится, это не вина человека, а его беда. Я ведь таких и не осуждаю. Но вот Леха утверждает, будто врать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах, ибо на лжи ничего не построишь, у нее короткие ноги, и потому у нас все и разваливается, что – врем, врем, врем, вконец заврались, а для исправления дел собираемся врать еще и дальше. «А если ты – советский офицер, и попал в плен к гитлеровцам?» – «Молчи», – советует Леха. «А если ты – мирный советский гражданин, и тебя арестовал КГБ?» – «Молчи, молчи, это всегда лучше, чем врать!» – «Так-таки – всегда?» – «Всегда». Ах, как красиво он говорит! Несколько секунд мне даже нравится его слушать, но потом вспоминаю, что еще в детстве читал что-то похожее в букваре строителя коммунизма или в моральном кодексе диссидента-антикоммуниста для среднего школьного возраста. Скучно, господа!.. Подходит следователь, спрашивает: «Ты насиловал несовершеннолетних?» – «Никак нет», – отвечаешь ты оторопело, аж моргая от усердия. – «А старушку-процентщицу по голове – бил?» – «Нет, конечно», – ты сама честность. – «А братьев наших меньших?» – «Тоже нет», – слегка даже гордясь перед следователем своей недостижимой для него нравственной высотой («А ты-то, падла, небось голубям головы сворачивал», – юркает в какую-то щель сознания смелая догадка). – «А давал Ване Иванову "Архипелаг ГУЛАГ" читать?» – «Э-э-э… ы-ы-ы… м-м-м…» – «Так, ясно. А гражданин Иванов сам попросил у вас "Архипелаг" или это вы ему предложили?» – «М-м-м… э-э-э… ы-ы-ы…» После этого у Вани Иванова, чье имя было названо наудачу, как одного из нескольких десятков возможных читателей бывшей у тебя антисоветчины, устраивают обыск – и почти наверняка находят искомое, а заодно еще с полмешка компромата. Если он молчит, как и ты, Ваня получает срок, а своим мужественным молчанием фактически подводит под монастырь Петю, Мишу и Диму, у которых тоже устраивают обыски, и история повторяется – в идеале до исчерпания всего социалистического лагеря. А если бедный Ваня раскалывается, то становится моральным инвалидом, которому и деваться-то больше некуда, кроме как стать стукачом. В обоих случаях, между прочим, это – последствия твоего высокоморального героического молчания. Самое подлое, кстати, то, что именно это молчание зачтется тебе потом знаменитыми старушками и юными девами как знак особой святости, и ты это прекрасно знаешь. Но разве Леха способен когда-нибудь такое понять? Я его и не осуждаю. Его тоже…
Что есть истина? Говорят, в день смерти Сталина погода была отвратительная. А мне вот, красивому, двух-с-двумя-десятыми-летнему, запомнились весеннее солнышко и праздничный гомон птиц. Но разве, скажут мне, может быть хоть какое-то доверие твоему едва народившемуся сознанию, когда миллионы взрослых серьезных дядей точно помнят, что шел дождь со снегом? – Но я ведь тоже помню этих серых и растерянных: они сворачивали в сырой переулок и там на них действительно падала всякая гадость с крыш – им, наверно, так хотелось. И потом, подумайте только, ведь если им верить, то дождь со снегом шел одновременно по всей стране: от Мурманска до Ташкента и от Владивостока до Бреста! – Ну, это, конечно, преувеличение, но по крайней мере для Москвы и Ленинграда существуют же официальные метеорологические сводки. – Но ведь эти сводки составляли обычные советские граждане, а Вы уверены, что их не расстреляли бы, посмей они записать в сводку – в такой день! – солнце и голубое небо? Знаете, несколько по другому (но похожему) поводу еще почти мальчишкой я написал стишок, где были такие строчки:
Лязгнули империализма клешни,
По сталинской щеке слеза стекла:
Скончался товарищ Брежнев,
Генеральный секретарь ЦК.
Дождик брызжет, плачется небо,
Даже ревизионисты каются.
Я стою, жуя корочку хлеба,
Эпитафии строки рождаются…
Так вот. Стишок был типичным образчиком симпатической магии: описываемое в нем событие случилось, увы, лишь через тринадцать лет. Но очень хотелось, чтобы Брежнев издох побыстрее… – «Ах, как ты грубо выражаешься: и разве можно ставить себя на одну доску с ними?» – кажется, это опять вмешался Леха. – «Но ведь это не я: они сами вычеркнули себя из человеческого общения. Они же – вечно живые и новая историческая общность, они же – отрицание отрицания и что-то там еще… Они же даже трупы свои хоронить по-человечески не собираются!» – «Правильно. Ленина надо, конечно, по-русски, по-христиански вместе с родителями положить. С этим я согласен». – «Да при чем здесь Ленин!? Там еще сотни две выродков в кремлевскую стену, как дерьма по подворотням, понатыкано. А ваш Вовка-морковка, он же антихрист, как его можно в освященную землю класть?» – «Ну, знаешь, ты опять свою поповщину размазывать начинаешь!» – «Да при чем здесь поповщина!!? Ваши красные попы сами первые любого черта отпоют и свечку поставят!!» – «Почему это – мои красные попы? это твои красные попы!» – «Слушай, Леха, не беси меня! Мы еще успеем доспорить, помолчи немного…» – И вот, так как мечталось, чтобы Леонид Ильич поскорее сыграл в ящик, откинул коньки, дал дубаря, в стишке об этом писалось, как о свершившемся (кстати, кто знает, а вдруг хоть на полчаса, но приблизил-таки мой стишок это чудное мгновение?). Но по закону обратной связи, когда очередной вурдалак отдает черту душу, его адепты обязательно воспринимают это как космическую катастрофу, для приближения которой и приписывают погоде всяческую слезливость и промозглость. – Но ведь существуют же, в конце концов, западные метеосводки, раз уж Вы не доверяете отечественным. – Простите, во-первых, ничего отечественного в большевистской мерзости быть не может, во-вторых, ни я, ни Вы, думаю, не имели возможности сверять здешние метеосводки с тамошними, а если бы и сверили – и обнаружили, что в Англии, Франции и США разглядели в тот день тучи и молнии над Ленинградом, то – что с того? В Ленинграде я мог только физически существовать, ленинградской могла быть лишь блокада, но люди жили, живут и будут жить в Санкт-Петербурге – и только в Питере может быть весна или осень, ясно или ветрено. Значит, уже врут буржуи о «погоде в Ленинграде». А главное, как можно верить трусам и коллаборационистам, согласившимся признать «дядюшку Джо» одним из главных героев-победителей фашизма, выдавшим ему на кровавую расправу миллионы наших соотечественников (куда как более последовательных и убежденных борцов с тоталитаризмом, чем все рузвельты и трумены) и отрезавшим от живого тела Европы добрую половину на съедение людоеду с красной звездой во лбу? – Ну, знаете, – возмущается мой оппонент, – у Вас получается, что весь мир не прав, а Вы один – правы. – Не совсем так, любезнейший, не совсем так. Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ, что тот мартовский день 1953 года был праздником для моей матери. И для всех наших родственников. И для всех наших друзей. И для друзей наших друзей. И для случайных встречных на улице, которым достаточно было заглянуть в глаза, чтобы убедиться в том. Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ, что для всех нас это был прекрасный денечек, и знать мы не знали и знать не хотим ни о каких туманах и тучах. Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ, что если есть солнце в мире, в тот день оно светило для нас. Но если Вам дороже наукообразные отчеты, газетные заметки и «тьмы низких истин» (истин ли?), – что ж! Можете тогда считать меня ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕМ, а все, что прочтете дальше, – ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОМ.
Но прежде подумайте еще раз и попробуйте понять: я совсем не одинок, и вовсе не весь мир видит факты иначе, нежели я. Наверно, полнота истины недоступна никому, кроме Бога. Но в данных нам пределах можно все же сказать, что наименее вероятно быть ей в очевидности. Тем более коли протоколистами очевидности выступают те, чье собственное бытие довольно-таки призрачно. К сожалению, надо, видимо, пожить при социализме, чтобы наконец понять: ежели генсек КПСС, президент России и полковник КГБ обещают или подтверждают что-то, а ребенок, работяга у пивного ларька или заключенный это опровергают, то бессмысленно даже на секунду допустить, будто можно поверить первым. Особенно если они ссылаются на официальные документы и на свое честное слово. Ребенок и алкоголик могут ошибиться, а могут сказать правду, но офицер КГБ или бывший секретарь обкома КПСС соврут наверняка. Так лучше я поверю зэку, рассказывающему свою судьбу, чем официальному документу из архивов ЧК-НКВД-КГБ, этот рассказ опровергающему. Мне даже читать этот документ неинтересно: все равно он лжет, даже если случайно совпадает с правдой. Социализм – едва ли не величайшая иллюзия в истории человечества. Это колдовской цветок папоротника в ночь на Ивана Купала. Отведав его, человек удивительно легко может научиться распознавать язык змей, президентов и любые иные миражи. Одни из самых опасных среди них – миражи очевидности. Мне кажется, многие мои друзья и солагерники неплохо приноровились называть их по имени. Это очень горький опыт, хотя и совершенно необходимый. Мало кому повезло заслужить его собственной кровью. Ведь кровью подписываются контракты с Мефистофелем. Вот почему многие лагерники так молодо выглядят: в них, как и в некоторых прошедших войну солдатах, есть что-то фаустовское. Но вовсе не всякий зэк или вояка способен стать доктором тайных наук – большинство остается вечными студиозусами: они стареют, как и все добропорядочные налогоплательщики, ибо таким же добропорядочным сохраняют свое сознание. Но каждый раз, когда этому последнему удается сбросить стыдливые покровы очевидности, начинается его буйный роман с неожиданным миром противозаконной и антидокументальной реальности. Может быть, некоторые смешные, безумные, невероятные истории, которые я помню, следует считать плодами их связи.
Патриот
Патриотизм есть последнее прибежище негодяев.
Какой-то негодяй
Вите было лет тринадцать-четырнадцать. Он почти ничем не отличался от остальных ленинградских мальчишек: так же гонял мяч во дворе, драл глотку на трибунах стадиона во время футбольных матчей и орал советские песенки. Орать, пожалуй, приходилось громче многих – не то чтобы ему так советовали дома, но Витя сам каким-то инстинктом чувствовал нужду напустить на себя образцово-показательный видок, когда в очередной раз ловил чей-нибудь удивленный взгляд из-за своего странного говора. Приезжих в городе было много – даже больше, чем навсегда с ним расставшихся, но говорили они на «о», как северяне, на «а» по-рязански, на хохляцкий манер или на татарский – и это никого не смущало. А вот его проклятое твердое «р» там, где положено, оказывается, произносить его мягко, «оу» вместо «ов» и польские ударения сразу привлекали особое внимание. Хорошо, если удавалось отделаться, буркнув: «из Беларуси я». «А, бульбаш», – покровительственно хмыкали те, что попроще, и через минуту забывали, о чем и спрашивали. Но учителя в школе прекрасно знали, что он не просто белорус, а с самого что ни на есть запада, с «воссоединенных территорий», а от кого-то из них, видимо, узнали родители одноклассников и сами одноклассники, а может, это он им проговорился, когда только приехал и ничего не понимал. И теперь нет-нет, а послышится шепот за спиной, а то просто во взглядах читается: «браток-то, мол, ты браток освобожденный, а сколько среди таких братков, как ты, бело-панских польских шпиков, а?». Это было тем более обидно, что поляков Витя Лешкун ненавидел всей душой. На его родине почти всюду православная молодежь из нескольких соседних деревень – от совсем еще детей и до почти уже взрослых – объединялась в специальные отряды для защиты от панов. Он сам командовал одним таким отрядом из самых маленьких и страшно гордился тем, что его хлопчики под красным флагом великой России три месяца круглосуточно дежурили и отстояли-таки от этих подлых полячишек и их холуев-униатов родную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которую те хотели переделать в костел, а нет – так просто спалить. А здесь над ним смеялись и совершенно не понимали, как это с русским флагом можно спасать церкви… «А под каким же еще, – хотелось кричать Вите, – под польским, может быть, или под литовским прикажете?» Его родители плакали от счастья, когда узнали, что их обоих сразу приняли в Ленинградский педагогический институт, и через несколько лет они вернутся домой – учить родных русских детей на русском языке русскому языку. Конечно, в здешней жизни было очень много странного. Достаточно сказать, что и он, и его родители только здесь с большим удивлением узнали, что сами они будто бы и не русские, а какие-то «белорусы» – раньше они такого слова вообще не слышали, даже от поляков. Но, может быть, это и верно: они так долго были отделены от родины, их так долго истязали ксендзы, паны и любые встречные, что даже говорить, оказывается, правильно разучились. Что ж, надо заставить себя разговаривать как все, несколько лет придется побыть каким-то полурусом-белорусом, а когда батя с матерью сами станут других настоящему русскому языку учить, кто посмеет не признать его русским?
Не без сомнений, но Витю приняли в пионеры, и все шло к тому, чтобы лет через пять стать ему комсомольцем, позабыть, как «Отче наш» читается, и с родителями-учителями начать делать карьеру в районе, а там, глядишь, способный парень и на областной бы уровень поднялся. На летние каникулы родители отослали его из Ленинграда к дяде-леснику (от этого занятия, должно быть, и фамилия пошла – Лешкун). Витя долго ехал на поезде, потом добирался на попутных машинах, главным образом военных, а последние километров двадцать прошел пешком – в его глушь ехать никому было не надо. Несколько дней его зазывали едва ли не в каждую хату и, почти как взрослого, расспрашивали о Ленинграде, о Москве (даром, что он в ней никогда не бывал), об его родителях и о Сталине. А еще через неделю началась война.
Мы несчастные люди. Нам столько рассказывали правд о войне, что поверить теперь мы можем только вымыслу, и это правильно, потому что любая сказка правдивее документальной лжи. Мы со школьных лет помним о героической обороне Брестской крепости и о столь же героическом отступлении советских войск перед вероломным врагом. Можно сколько угодно иронизировать над множеством несуразностей, но это было правдой. Потом нам сказали, что о нападении страна была предупреждена, а наша армия панически бежала. И это тоже оказалось правдой. Когда все стали смелыми, шепотом стали передавать рассказы о деревнях, встречавших немцев хлебом-солью, и о сотнях тысяч солдат и офицеров, добровольно и с радостью перешедших на сторону врага. Как ни странно, была и такая правда. Была правда Катыни – и правда Хатыни, правда евреев, встречавших немцев фаршированной рыбой в первую оккупацию Керчи, и правда подготовки Сталиным нападения на Германию. У Вити Лешкуна была своя правда войны, и я не вижу, почему бы ей надо верить меньше, чем профессиональным палачам, эту правду судившим.
Радио на лесном хуторе не было, и когда на восток полетели первые самолеты с черными крестами на фюзеляжах, дядя только раздумчиво проводил их взглядом: мало ли какие дела у союзников, быть может, совместные учения? Самолеты летели низко и лениво, изредка помахивая крыльями, словно осенние гуси, разжиревшие после урожайного лета. Вечером зашли мужики из села, рассказали о войне, о хлопцах, засобиравшихся в военкомат, – кто-то уже ушел в райцентр, кто-то собирался уйти завтра поутру, – о том, что мобилизация всеобщая и, пожалуй, на днях им тоже придется туда сходить. У Вити часто забилось сердце и пронеслась дикая мысль: вот оно! он уйдет добровольцем на фронт и всем-всем докажет, что они, тутэйшие, ничуть не хуже русские этих заносчивых ленинградцев! Правда, ему еще нет четырнадцати, но он сможет сторожить лошадей, а если ему все же дадут оружие… А вдруг война продлится года два? – Тогда он скажет, что ему уже восемнадцать и пора в армию!
Наутро он встал очень рано и по лесным тропинкам побежал в район. Но добежать не пришлось. Неожиданно он выскочил на солдат, они его схватили и сказали, что дальше идти нельзя, что там военная тайна и чтобы он немедленно возвращался откуда пришел, потому что они отступают, но это уже поздно, так как немцы их обогнали по большим дорогам, а эти леса просто обошли пока стороной за ненадобностью. То есть говорили, конечно, не так, но это было то, что Витя запомнил, пока отбивался и просил пустить к командиру. Слова «военная тайна» заговорщически прохрипел молодой шутливый солдатик. Витя с опозданием вздрогнул, понял, что все равно ничего не добьется, и сперва медленно, а потом все быстрее пошел домой. Но, отойдя шагов на триста, юркнул в овражек и осторожно, как учили в отрядах самообороны, стал стороной пробираться обратно. На сей раз ему удалось миновать не очень внимательное заграждение, и он увидел то, что от него скрывали. Неподалеку от одной из самых глухих лесных дорог в кустах, в овражках, среди бурелома десятки солдат спешно рыли ямы, складывали в них что-то железное, засыпали, заваливали дерном и забрасывали валежником. Витя вжался в землю и пролежал так часа два. Потом раздалась команда, и отряд налегке ушел. Витя вылез из укрытия и подошел проверить свою догадку. В ямах – поспешно и не очень чтобы надежно – было спрятано оружие.
Он вернулся туда на следующий день с лопатой, хлебом, луком и огурцами в узелке. Нашел железяку, торчавшую из явно рукотворного бугра, – раскопать его ему показалось легче, чем рыть ямы. Вскоре он понял, что ошибся: железяка оказалась изрядной штуковиной и уходила достаточно глубоко в землю. Но отступать было поздно, да, кроме того, разобрало любопытство: что-то это, чай, поинтересней обычной винтовки! Прошло несколько часов прежде, чем штуковину удалось вытащить и установить так, как, видимо, ей положено было стоять. Ничего подобного раньше он не видел, но догадаться, для чего она служит, в общем-то, было нетрудно: Витя откопал зенитный пулемет. Неизвестно, слышал ли кто-нибудь выстрелы в лесу, пока он дергал за рычажки и нажимал гашетку, но если и слышал, не придал им значения: война есть война, на ней стреляют, а держаться лучше подальше. Но ближе к вечеру Витя уже худо-бедно приноровился обращаться со своим сокровищем. И тут появились гуси. Наглые, жирные, железные, они летели не спеша, уверенные, что никто их не тронет, что из этой глухомани бежали последние солдаты, последние защитники этой жалкой, бедной земли. И тогда Витя Лешкун дал им бой.
Говорят, что дуракам всегда везет. Может быть, и так. Но еще везет героям. Иначе никто не узнал бы, кто они такие. Плохо только, что трудно отличать дураков от героев. Не знаю, с первой очереди, со второй или третьей, но мальчишка в самолет попал. Тот, недоуменно и обиженно урча, пошел как-то юзом, задымился и рухнул километрах в трех за рекой. Двое других настороженно замерли в воздухе (так показалось Вите), развернулись и пошли на него. За рекой раздался взрыв, но видеть Витя его уже не мог: лес вокруг разрезали пулеметные очереди. Но ничего разглядеть в непролазной пуще летчикам не удалось, и, немного покружившись, они ушли на восток. Витя забросал лапником пулемет, тщательно умылся в ручье и вернулся к дяде. На следующий день в село пришли немецкие автоматчики с собаками, а трое заявились на хутор лесника. По всей их повадке чувствовалось: меньше всего они были озабочены сельчанами, даже взрослыми, а искали следов пребывания обычного армейского отряда, вроде того, что оставил оружие. Но тот отряд обошел их село стороной, оставшись незамеченным для мужиков, а следы уже стерлись. Немного покрутившись и ничего не обнаружив, они ушли, оставив в селе старосту с приказом набрать себе помощников и ловить подозрительных.
Нет смысла подробно описывать первый военный год. В приграничной белорусской глуши было проще и спокойнее, чем дальше к востоку. Парни и мужики, кто успел, ушли на фронт, но многие остались, и вовсе не оттого, что хотели пересидеть войну, – это придумали уже потом чекисты и завистники, а в те первые дни разве думал кто-нибудь, чем она обернется, чтобы от нее прятаться? Нет, это война прошла мимо них по разбитым лесным дорогам быстрее, чем они успели собрать свои нехитрые котомки. Колхоз даже не распался – о нем просто забыли, как лет за двести до того забывали о барских причудах, едва только бричка с барином скрывалась за горизонтом. Помещика могли любить, ненавидеть, бояться или уважать за что угодно, но только не за то, что он засадил свою усадьбу диковинными овощами и поставил нового управляющего: на то он и барин, чтобы чудить. Конечно, рабочих рук стало не хватать, и урожай должен был оказаться меньше обычного, но, с другой стороны, и ртов ведь поубавилось. Так что, худо-бедно, а голод не предвиделся. Немцев было мало – все больше крепкие, дельные мужики вроде самих «тутэйших». На постое они в охотку ели сало и пили самогонку, но держались строго: немец, известное дело, порядок любит. Пару раз через переводчика кто-то из них даже советы по хозяйству давал: как, к примеру, яички в известковой воде свежими сохранять. Бабы недоверчиво ахали, мужички наматывали на ус, но вида не подавали: еще чего! со своим уставом, да в чужой монастырь… В лесу было тихо, хотя поговаривали, что где-то далеко за Неманом, должно быть, не ближе, чем у Лиды, солдаты, не успевшие пробиться к своим, сбиваются в партизанские отряды. Мужики относились к этому с сомнением: один сказ, конечно, солдатикам деваться некуда, и вообще – это их земля и они в своем праве, но ведь надо кормиться чем-то, а как будешь в лесу жить? Шишку грызть? Или по деревням озоровать? А вот это уже не дело: у нас и так год небогатый будет. Пусть правительство о них заботится: на то оно и власть, чтобы думать. Опять же, немцы. Верно, они – враги и захватчики, но пока здесь никого не трогают, зачем же их дразнить понапрасну? Вон, говорят, где-то у Барановичей жидовскую деревню сожгли – так, видно, те с такими вот партизанами связались, немцы их и порешили. Иначе чего бы им их трогать? Жиды ведь, пожалуй, даже похожи кое-чем на немчуру: башковитые и работники неплохие. Язык, бают, и вовсе – почитай что один. А помнишь, Фимка-кузнец в районе был – таких здоровенных еще поискать. Где-то он теперь? Должно быть, с нашими ушел…
Вите такие разговоры не нравились. Он успел уже пообвыкнуть в другой жизни, и хоть Ленинград еще не признал его вполне своим, но удручающая несознательность (так он думал) односельчан начала его раздражать и заставила смотреть на них чуть остраненно и даже слегка свысока. Как могли они не понимать, что говорить «жид» неприлично? А немцам надо вредить всеми способами, хуже, чем полякам, чтобы земля горела под ногами захватчиков! И как это стыдно, что у них до сих пор нет партизан… Но один в поле не воин, и единственное, что он мог сделать, это пробираться порой в потаенное место и все тщательнее маскировать неловкие рытвины и холмики, чтобы когда-нибудь привести сюда наконец красного командира и сказать ему: «Вот, смотрите, это я, Виктор Лешкун, сберег целый арсенал для родной страны и сдаю его Вам теперь в образцовом порядке…» А вокруг будут стоять бойцы и восхищенно смотреть на Витю, как на равного. Так прошла осень, зима и весна, а на исходе следующего лета партизаны в их краях так-таки объявились.
Кем они были и когда пришли, понять было трудно. Просто как-то постепенно Витя стал замечать, что какая-то скрытая озабоченность мелькает порой на лицах односельчан. Строже стали и немцы. Они уже не похохатывали беззаботно и не устраивали солдатских пирушек на завалинке. По ночам дежурили патрули, а по лесным дорогам стали ездить отряды хмурых мотоциклистов. Витя ночевал на сеновале, когда однажды проснулся от куриного переполоха. Еще во сне он слышал, как взбрехнула собака и цыкнул на нее дядя, да мало ли что могло привидеться ночью шавке – это не причина открывать глаза. Но птичий гомон – явный знак рассвета, и Витя проснулся. Было еще совсем темно, и он подумал, что в курятник забралась лисица или хорек, но не успел вскочить, как замер, увидев три мужские фигуры и дядю, с приглушенным шепотом передававшего им какой-то объемистый сверток. Когда рассвело по-настоящему, дядя оказался еще молчаливей обычного и не дал племяннику привычного утреннего яйца всмятку. Несколько позже Витя заметил, что не хватает двух кур. Он ни о чем не стал спрашивать, обо всем догадавшись. Только сердце с холодной и как бы остраненной гордостью за дядю стучало: «Ну, вот, началось, ну, вот, началось, ну, вот, ну, вот, ну, вот…»