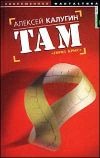Текст книги "Город Последний"

Автор книги: Савелий Лукошкин
Жанр: Контркультура, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 3
Библиотека находится в самом центре старого города. Это большой и несуразный дом, построенный из потемневшего от времени дерева. Окна большие, в человеческий рост, а дверь маленькая и узкая, прячущаяся под навесом. При взгляде на этот дом сразу кажется, что внутри горят свечи.
Я поднимаюсь на крыльцо, где лежат на своем привычном месте веник и железный совок. Стучусь на всякий случай и захожу. Дом оказывается коробкой. Никаких этажей внутри нет – только лабиринты из узких металлических галерей и коридоров, зажатые между стеллажами с книгами, журналами, папками, газетами. Галереи уходят наверх, огибая лампы с плафонами в виде металлических тарелок, и теряются в полумраке. Точно так же, петляя и пересекаясь, теряются коридоры.
А у самой двери стоит конторка, освещённая настольной лампой. За конторкой – пожилая женщина с мягким добрым лицом и в пуховом платке.
– Ого, – говорю я. – Внушительно!
Она кивает, улыбнувшись одними губами.
– Вы первый раз? Приезжий?
– Да. Я хотел бы побольше узнать о Городе, раз уж оказался здесь, – я старательно демонстрирую беспечную улыбку человека, жизнерадостно принимающего любой поворот судьбы.
– Что-нибудь по истории?
– Гм… По истории тоже хорошо, но сначала я хотел бы узнать про эти пятилетние циклы. Должно же было проводиться какое-то исследование…
Она понимающе улыбается.
– Это вы найдёте в любом учебнике географии. Сейчас принесу.
– И ещё кое-что, – останавливаю я её и вдруг начинаю подозрительно мямлить. – Мне бы что-нибудь по культуре Города… Понимаете, не совсем этнография, так, местные традиции, особенности…
Она недоумевающе смотрит на меня.
– Мы молодой Город, какая уж тут своя культура. Театра-то до сих пор нет!
– Я не совсем это имею в виду, – тут на меня снисходит вдохновение. – Понимаете, я был учителем, другой работы не знаю и здесь тоже хочу учить. Но в Городе, как я понимаю, своя, особенная культура детства, культура воспитания. Мне она нравится, мне это интересно, хочется разобраться.
Несколько мгновений она смотрит мне прямо в глаза, потом говорит:
– Боюсь, таких материалов у нас просто нет. Подождите немного, обживитесь и вы сами во всём разберётесь. Сейчас принесу учебник.
Она уходит. Я тихонько вздыхаю, успокаиваясь после вдохновенного вранья. И вдруг спиной чувствую взгляд.
В проходе за моей спиной стоит невысокий коренастый мужчина с седыми висками и в пальто из грубой шерсти.
Он невозмутимо кивает мне, подходит к конторке – во всех его движениях чувствуется угрюмая, подавленная сила, – оставляет жёлтую папку и уходит. Я успеваю заметить глубокие морщины и выдающиеся скулы; глаза он прячет.
Осторожно заглядываю в папку. Внутри пожелтевшие, очень старые газетные страницы, на половину титульного листа – готические буквы непривычного, коричневатого оттенка чёрного. Шрифт сложный, с завитушками и украшениями, но я успеваю сложить слово – «Герольд». Сейчас такой газеты в Городе нет.
Вскоре возвращается библиотекарша с книгой в руках. На обложке учебника синее море, одинокий белый треугольник парусника и серый ледник на горизонте.
– Спасибо, – говорю.
– Пожалуйста. Как вас зовут?
– Артём Луниш, я живу…
– Это не нужно, просто имя.
Пожимаю плечами. Впрочем, да. Город маленький, уезжать отсюда некуда.
– Когда я должен её вернуть?
Она весело улыбается, впервые показав зубы – крупные, белые, очень молодые.
– Максимальный срок возврата – пять лет.
Я браво улыбаюсь в ответ.
* * *
Домой я успеваю вернуться к восьми часам утра. Ставлю мясо запекаться, прибираюсь на скорую руку и возвращаюсь к газетам. За окном уже темно, в чёрном стекле отражаются яркие пятна света от кухонной лампы; снова шуршит-гудит соседское радио. «Как-то там Мик?» – мелькает мысль, но я прогоняю её и принимаюсь за работу.
До прихода Клааса я успеваю бегло прочесть истории ещё двадцати пропавших детей и внести данные в блокнот и карту. Ни на одной из них я подробно не останавливался – сейчас было важно получить общую картину. Но общего немного: всё это дети от семи до тринадцати лет, из бедных рабочих окраин Города. Кое-где наблюдались те же странные детали, что и в истории Новик, но о них рассказывалось так скупо и туманно, что ничего, кроме смутного ощущения сродства этих деталей, не оставалось.
В одиннадцать пришёл Клаас. В дружелюбной тишине, почти не разговаривая, мы поужинали. Затем я открыл две бутылки мартовского, скрутил себе папиросу и протянул Клаасу результаты своих трудов.
Он пролистал блокнот, хмыкнул на строчке «Предположительно хорошие отношения с отцом». Затем взялся за карту.
– Ха! – Клаас протянул карту мне. – Смотри, ни одного исчезновения в Заречье.
И правда: канал рассекает Город на две половины – густо усеянную точками и чистую. Но тут же я нахожу второе чистое пятно.
– В Заречье и тут, в центре.
Клаас расчесал пятернёй бороду.
– Это старый Город. Там детей в принципе нет, одни конторы и склады.
– Понятно. И вот ещё что: Раабе очень сильно выделяется из остальных историй.
– Тим Раабе? У которого родителей убили?
– Да. Почему ты включил его в общий список?
Клаас замялся, снова почесал бороду.
– Видишь ли… Во-первых, я подумал – это такая семья… Они могли сами отдать ребёнка похитителю. Продать, например. А он их потом убил.
Это неожиданная мысль. Несколько секунд я обдумываю её, потом медленно говорю:
– Не очень вяжется. Зачем тогда убийца ещё неделю прятался в доме?
Клаас пожимает плечами.
– Бог его знает. Но во всём остальном Раабе подходит. Тоже бедная окраина, те же последние три года.
– Ну хорошо, – соглашаюсь я. – В любом случае, интересно выяснить, с каким вопросом к ним тогда пошёл следователь. Среди ночи, в метель.
– Ага, – Клаас кивает с облегчением. – И надо поговорить с редактором этой «Искры», который расспрашивал Бланку Ивински. И с самой Бланкой.
– С редактором я поговорю. Это теперь мой работодатель, приятный парень.
– Хорошо, – степенно кивает Клаас. – А я поговорю с Бланкой.
– А ты сможешь? – с сомнением говорю я, глядя на его дикую бороду и огромные руки.
– Попробую, – басит Клаас, – Всё равно больше некому. Ты даже не поймешь, о чём спрашивать. А мы с ней провели детство в Городе.
– Вот кстати. Чем детство в Городе отличается от любого другого?
Клаас сердобольно вздыхает.
– Да в общем-то ничем. Просто у детей больше свободы, так ещё с колонистов повелось. И эта свобода… Ну, заполняется разным. Сказками, суевериями, играми. Не знаю, как объяснить. Просто это совсем другое время, и даже Город другой, пока ты ребёнок. Меня не остановить, я решительно пробираюсь к твёрдой почве фактов.
– А вот с этим кругом и Эженкой Новик? Её правда оттуда нельзя было вытащить?
– Но ведь вытащили же, – говорит Клаас, и я чувствую себя дураком.
– Хотя я помню, – он молчит, на губах складывается мягкая улыбка, – когда мы были маленькими, то верили, что если сложить круг определённым образом, то становишься невидимым. Пока ты в нём.
– И как, становились? – спрашиваю.
Клаас неуверенно смеётся.
– Может, нам родители подыгрывали. А может, и нет.
Я шумно вздыхаю.
– Ладно, – говорю. – Точного ответа от тебя не добьёшься.
– Точного ответа и нет, – мягко отвечает Клаас. – Я же взрослый. Попробуй повспоминать своё детство – удивишься, как мало на самом деле помнишь. Хотя действительно, попробуй повспоминать. Вдруг…
– Ну, может быть, – с сомнением говорю я. Хотя уверен, что никаких заколдованных кругов в моём детстве не было.
Клаас лихо допивает кружку и опасно откидывается на табурете.
– Как ты вообще?
– Неплохо, – машинально говорю я, потом соображаю. – Мне нравится Город, на самом деле. И материал интересный будет, если возьмут.
– Есть по кому скучать?
– У меня остались сестра, кошка, хорошая подруга. Но они все молодые, через пять лет я увижу их.
– Хорошо, – кивает Клаас, – Если всё же прижмёт – заходи. В ресторан или ко мне.
– Хорошо. Спасибо.
– Да не за что, – беспечно взмахивает рукой Клаас, но я чувствую, что он всё же немного беспокоится обо мне.
В дверях я пожимаю его большую белую руку. Клаас неуклюже топчется, как большой медведь, потом ещё раз кивает и уходит. Я стою, распахнув косой прямоугольник жёлтого света в тёмный подъезд, пока Клаас не спустится и не выйдет. По-моему, что-то Клаас хотел мне сказать, да то ли не получилось, то ли передумал. Я сгружаю посуду в раковину, вытряхиваю пепельницу и выношу бутылки. Теперь как будто и не было нашего ужина.
Сажусь за карту и придвигаю к себе стопку газет – до завтра надо эту работу закончить, чтобы в «Еженедельный журнал» я мог принести что-нибудь кроме вопросов.
* * *
В шесть утра, в совершенной ещё темени, звонит будильник. Я кое-как выкарабкиваюсь из сна, завернувшись в одеяло, иду в ванную. Умываюсь и смотрю в зеркало. Хорош! Ну, неплох. Усталое приятное лицо интеллектуального труженика, беспечные мальчишеские скулы.
Ставлю на огонь кофе, переодеваюсь из одеяла в пальто и заворачиваюсь в шарф. С кружкой в одной руке и папиросой в другой выбегаю из дома. Тут же холодный ветер по ушам напоминает, что я забыл шляпу. Шляпа мне идёт, но толком расстроиться не успеваю – свернув за угол, вижу стремительно удаляющуюся по бульвару девушку с собакой.
– Эгей! – громко кричу я в предрассветной темноте и тишине.
Девушка оборачивается; в ту же секунду собака срывается с места и косматым метеором несётся на меня. За считанные мгновения я успеваю приготовиться: ставлю кружку на мостовую, чуть отступив, приседаю и встаю в подобие боксёрской стойки. Налетевшую собаку я подхватываю на руки, тихо охая от веса и пружиня ногами, тёплый язык вылизывает лицо, а весь мир заслоняет радостная морда и весёлые умные глаза.
Когда пёс наконец успокаивается, девушка уже стоит рядом.
– Привет, – говорю.
– Привет, – она смотрит на меня весело и оценивающе, из-под шарфа в чёрно-красную клетку всё так же выглядывает небрежный локон. – Ты здесь завтракаешь, что ли? – она кивает на кружку.
– С недавних пор, – солидно говорю я и пытаюсь незаметно стереть собачью слюну с лица. – Хочешь кофе?
Она как-то очень ловко, одним движением, подхватывает кружку с мостовой и выпрямляется. Делает глоток и протягивает её мне.
Пёс снова начинает скакать, пытаясь выхватить кружку у меня из рук.
– Нора, спокойно, спокойно – не слишком настойчиво увещевает девушка. Я кое-как делаю глоток, при этом облив рукава, и церемонно предлагаю присесть.
Девушка беззвучно смеётся. Мы сидим на скамейке, под косматыми каштанами, попеременно вспыхивает то её сигарета, то моя папироса. Жёлтый свет фонарей во влажном воздухе особенно ярок, и я, косясь глазом, замечаю серебряную сеточку крошечных капель у неё на щеке.
– Как тебя зовут?
Она смешно морщится.
– Тани. Хотя вообще Тацио. А тебя?
– Меня зовут Артём.
– Первый раз слышу такое имя. Откуда ты?
– Из России.
– Сбежал после революции, да? – она косится на меня одновременно подозрительно и заинтересованно.
– Не совсем. Я сбежал из России ещё до революции, а после неё как раз вернулся. А потом снова сбежал.
– А, термидор, – понимающе кивает она.
Ну надо же!
– А ты из Италии?
– Я родилась в Городе. Но ещё я итальянка и набожная католичка, – она улыбается тёмными, озорно блестящими глазами.
– Давай сходим куда-нибудь, – говорю.
– Давай, – просто соглашается она. – В пятницу у меня выходной.
– Встретимся здесь же, часов в двенадцать, кьярида миа? – пытаюсь блеснуть я.
Она хохочет.
– Хорошо!.. Только Христа ради, прошу, больше не говори так… Ох, ну надо же!
Наконец она успокаивается; я немного смущён, но вообще мне весело.
– Одна эта фразочка тут же переодевает тебя в полосатый костюм и добавляет зализанные усишки. А ни усишки, ни полосатый костюм тебе не идут.
Я великодушно пожимаю плечами и поднимаюсь.
– Тогда до встречи, krasavitsa.
– Вот так-то лучше, – серьёзно отвечает Тани.
Поднимаю ладонь к воображаемой шляпе, улыбаюсь Норе и ухожу. В животе у меня прыгает и носится какой-то малолетний ребёнок, а запах каштанов особенно свеж, даже дыхание перехватывает. В пятницу! В двенадцать часов! Ура!
Всё же мне хватает выдержки не оборачиваться. Ну уж нет, с этими итальянками нужно держать ухо востро.
* * *
Дома я ставлю кофе на огонь и тщательно чищу пальто. Сегодня мне предстоят несколько серьёзных разговоров, нужно выглядеть попредставительнее. Берусь за ботинки, начищаю их до неприличного блеска и даже проглаживаю шляпу утюгом. Гляжусь в зеркало. Выгляжу я как хлыщ и мелкий мошенник. Одна надежда, что всё это великолепие успеет немного потускнеть до встречи с Отто.
На кухне меня встречает распахнутое окно, несколько свежих капель под ним и записка, написанная на почтовой открытке с голубоватым рассветом и угольно-чёрными крышами Города.
«Привет! Сегодня я узнал одну загадку и не смог разгадать. Сможешь?
Собирает Иуда
На золотое блюдо
Ягоду:
Когда зрелую возьмёт, когда незрелую сорвёт.
И то блюдо не просто,
Всё то блюдо расписно —
Будто град не на воде лежит, не на земле стоит,
А во граде том воевода спит».
Почерк знакомый, из турки аккуратно отлита ровно половина. Значит, Мик.
Интересно. И почему-то славянщина.
Перечитал стихи. Казалось, что ответ я смутно, приблизительно знаю или чувствую, хотя на ум ничего не приходило – странное ощущение. Имел ли Мик в виду что-то, помимо собственно загадки, не намёк ли это? Вроде бы да, но я не понял.
Я допиваю кофе, скручиваю папиросу и аккуратно укладываю в сумку блокнот, карту и открытку с запиской. Вперёд!
На остановке я встречаю невысокую крепкую бабушку с болонкой – у них почти одинаковые белые шелковистые кудри, и тёмные глаза блестят похоже. Болонка в смешной самодельной попоне, а бабушка в берете и тёмно-зелёном пледе поверх пальто. Я улыбаюсь и вежливо киваю ей, она с интересом смотрит на меня и кивает в ответ. Машу рукой в большое прозрачное стекло почты. До чего же здорово чувствовать себя уверенным старожилом! Я – не настоящий старожил, но люблю притворяться.
В трамвае я пытаюсь сосредоточиться на предстоящей беседе, хотя бы составить план и сформулировать вопросы. Но загадка отвлекает. Несколько раз я достаю из сумки открытку и внимательно рассматриваю её. Тёмные острые крыши с башнями, голубовато-серый ранний рассвет. В нижней части горят жёлтым светом два одиноких окна. На обратной стороне – карандашная записка. Широкий и немного неуклюжий почерк, строчки неудержимо загибаются вверх. Это – признак хорошего настроения. Может быть, загадка – это действительно просто загадка? Пять мальчиков, пять тёмных чуланчиков… В голову приходит только образ спящих в выстланной травами норе сусликов. В тёплой норе, над которой носятся невидимые беззвучные метели и ходят по льду огромные снежные медведи. Нет, это явно не то.
Наконец мы прибываем к Ивовой набережной. В тёмной воде канала весело играют светлые струи, ярко-голубое небо расчерчено косыми штрихами чёрных ветвей, а медные шары на перилах моста как будто мягко светятся. Из-за деревьев в небо поднимается дымок.
Я и мой единственный попутчик – коренастый мужчина в тёмной одежде – переходим мост, по старой брусчатке проходим ивовые заросли и оказываемся в Заречье. Здесь, как и в прошлый раз, тихо и пустынно. Только флюгера в форме петушков поскрипывают на крышах, да поднимается дымок из труб.
Мой попутчик отстаёт, а я быстро иду вперёд, провожаемый притворно-равнодушными взглядами рассевшихся по деревьям ворон. «Куда девались дети?» – думаю я. Потом вспоминаю устроенную мне в прошлый раз встречу и догадываюсь, что сейчас точно так же с крыш, из дворов и переулков, всякого рода неприметных местечек они следят за человеком впереди. Незаметно оглядываюсь в поисках наблюдателей, но никого не обнаруживаю. Только подозрительно дрожащая тишина свидетельствует о том, что мы здесь не одни.
Больница угрюма, ветхие листочки торчат за табличкой на двери. Прохожу в палисадник, по примороженной, хрусткой листве обхожу дом.
Отто, кажется, не очень удивлён. Он радушно говорит: «Привет» и, не спрашивая, пропускает меня внутрь. Мы усаживаемся за стол; Отто небрежным жестом сдвигает ворох исписанных от руки листков.
– Как дела? – по-светски осведомляюсь я.
– Хорошо, – добродушно отвечает Отто. – Красота такая на улице.
Я вспоминаю, что дверь его подвала выходит в сухие мёртвые заросли, за которыми – тёмный обрыв к каналу.
– Да, – говорю. – Красиво. Слушай, мне нужно задать тебе пару вопросов. Как коллеге.
Отто опять не удивился, только кивнул.
– Ты говорил, что «Искра» не занимается уголовной хроникой. Но в октябре вы выпустили большое интервью с Бланкой Ивински, подругой Эженки Новик.
Отто вздыхает.
– Мы и не занимаемся. Как раз с октября.
– Статья не понравилась полицмейстеру?
– Сам же знаешь, – с одобрением говорит Отто.
– Он намекнул, чтобы вы прекратили это дело?
– Да, пожалуй, – Отто делает паузу. – Пожалуй, можно сказать, что намекнул. Очень прямо.
– Знаешь, что именно ему не понравилось в статье?
Отто задумывается.
– Я думаю, ему всё не понравилось. Всё интервью и сама идея его взять. А вот почему – сложно сказать.
– А предположения есть?
Отто пожимает плечами
– «Искра» могла давно его раздражать, мы же, прости господи, революционное издание. А тут как раз подходящий повод ткнуть нас носом в землю. Тем более, что Город действительно очень печётся о своих традициях.
– А что ты сам думаешь об этих традициях, о детстве в Городе?
– Я думаю, что это очень сложный вопрос, – серьёзно говорит Отто. – Я не знаю, короче говоря.
– Но всё же, ты, как марксист…
Отто снова вздыхает, затем взъерошивает и разглаживает свои великолепные бакенбарды.
– Здесь, в Заречье я видел несколько необычных вещей и ситуаций. Связанных с местными детьми. Если вдуматься, они могут иметь привычное нам объяснение. Но могут и не иметь.
Я чувствую, что дальше спрашивать на эту тему бессмысленно, поэтому говорю: «Спасибо» и делаю несколько пометок в блокноте.
– Кофе? – предлагает Отто, и мы делаем перерыв. Глядим на огонь в буржуйке, курим и пьём крепкий и сладкий кофе.
– Спасибо, – повторяю я и швыряю огонёк окурка в пламя. – Ещё пару вопросов?
– Пожалуйста, – просто отвечает Отто разом и на благодарность, и на вопрос.
– Ты спрашивал в интервью про то, можно ли было вытащить Эженку из круга. Что ты имел в виду?
– Именно это и имел. И потом, обрати внимание: я спрашивал, что думает об этом сама Бланка, а не о том, действительно ли девочку нельзя было оттуда забрать.
– Ага, – киваю я. – Это понятно. Но потом ты спросил, действует ли это правило на чужаков. Кстати, кто такие чужаки?
– Те, кто приехал в Город уже взрослыми, сформировавшимися, – уверенно отвечает Отто.
– Но почему на них эти вещи могли не действовать?
– Потому что бытие, как писал великий Маркс, определяет сознание. И их сознание определено не Городом.
Я внимательно смотрю на Отто, он отвечает спокойным, уверенным взглядом. Не смеётся.
– Это, – говорю, – очень интересная трактовка марксизма. Я обязательно подумаю над ней.
Отто морщится.
– Никакая это не трактовка, а именно то, что и хотел сказать Маркс. Когда я приехал в Город, я иногда видел вещи, которые не видели другие. Или не видел вещи, которые видели остальные. Во всяком случае, мне так казалось. Это приводило к забавным ситуациям, я был молодой, горячий, – он улыбается незнакомо, хищно. – Потом один полицейский объяснил мне это. Не так ёмко, как у Маркса, но смысл тот же.
– Интересно, – говорю, – но не очень понятно. Ладно, последний вопрос, – я достаю из сумки открытку и протягиваю Отто. – Что ты можешь об этом сказать?
Отто несколько секунд рассматривает открытку, потом переворачивает, читает. Я жду, откинувшись на спинку стула.
– Обычная почтовая открытка распространённой серии, я точно такую видел уже. Почерк незнакомый, не очень умелый, но, по-моему, не детский. Просто человек, который редко пишет. Ответа на загадку я не знаю. Откуда это?
– Прислал один знакомый.
– Именно знакомый? Или аноним?
– Скорее знакомый, – говорю я.
– Интересно, – в свою очередь говорит Отто, – но не очень понятно. Ты, кстати, для кого-то занимаешься исчезновениями или для себя?
– Для «Еженедельного журнала», – гордо отвечаю я.
– Ну надо же, – Отто впервые за всю нашу беседу удивляется. – Вот уж не знал, что Луни интересуется уголовщиной.
– А ты его знаешь?
– Отдалённо, – туманно отвечает Отто. – Он… интересный человек.
Я вспоминаю грузную фигуру в темноте и вялое рукопожатие. С трудом подавляю нервное хихиканье.
– Какой-то ты сегодня странный, – с интересом замечает Отто.
– Это, – говорю, – потому что у меня скоро свидание, и я взволнован.
– Ого, – говорит Отто, и я угадываю лёгкий намек на грусть и зависть в его голосе. – Быстро ты приспосабливаешься.
Я пожимаю плечами и скручиваю ещё две папиросы.
– Выйдем на улицу?
Мы стоим у дверей заброшенной больницы, опёршись на стену, и жмуримся, глядя на весеннее солнце.
– Как там номер? – после паузы спрашивает Отто.
– Всё написал, рекламодатели не приходили. Только я тексты сейчас забыл взять.
– Ничего, – говорит Отто.
Ещё несколько мгновений мы курим на солнышке, а потом пожимаем руки, и он уходит в свой подвал, а я в одиночестве прохожу по Фельдшерской и Красной улицам, сворачиваю на Безымянную и, пройдя по мосту, покидаю Заречье. Того тёмного невысокого мужчины, что был со мной на пути сюда, я среди редких прохожих не вижу.
В трамвае мне приходит в голову мысль обследовать пустырь. Может быть, все эти сказки и суеверия, которые заполняют детство, проведённое в Городе, оставляют материальные следы. Тот же круг… Мне вдруг ужасно захотелось увидеть круг, который здесь складывают для невидимости.
Так что, выйдя на остановке, я беспечным шагом шпиона прохожу мимо своей двери и огибаю дом.
Никого. Над буро-жёлтой сухой травой – дикое небо и вольные, ещё не запертые в загон крыш, облака. По кирпичной изнанке дома ползут граффити – вроде бы те же. Только надпись «Они живут, пока ты спишь» выглядит подозрительно свежей. Как будто её регулярно обновляют.
Я делаю шаг вперёд – и оказываюсь в другом мире. Здесь нужно ходить, раздвигая высокую сухую траву. Стебли двигаются с мелодичным перестуком, и я замечаю, что они покрыты мелкими чёрными ракушками, бьющимися друг о друга. Шум улицы уходит на второй план, голоса и гудки машин еле слышны за размеренным плеском далёких волн и негромким гудением ветра. Я иду вперёд, надеясь наткнуться на тропинку – должна же быть хоть одна. Впереди темнеют кусты – кажется, именно там стояли кругом дети тогда, в мой первый визит. Я пробираюсь к этим кустам, и с каждым шагом чувствую себя всё неуютнее. Я здесь чужой, и пустырь откровенно даёт об этом знать. Как будто кто-то смотрит с недружелюбным удивлением, может, даже приподняв бровь.
Перед кустами площадка утоптанной земли с мелкой зелёной травкой, у корней лежит серый округлый камень – обкатанный, как гигантская галька. Я с облегчением выхожу из высоких полевых трав (только тут замечаю, что брюки по колено мокрые) и осматриваюсь. Ничего, только здесь совсем уже тихо. Не поверить, что за кирпичной стеной в сотне метров – живой большой Город с освещёнными витринами, прохожими, автомобилями на улицах.
Я жду, слушаю, как ветер перестукивает ракушками в траве. Даю месту привыкнуть к себе и себе привыкнуть к месту. Затем осматриваюсь ещё раз – ничего. Медленно обхожу кусты по кругу, натыкаюсь на несколько ярких конфетных обёрток, мокнущих на земле, и возвращаюсь на площадку.
Смотрю – и наконец что-то вижу. В мокрой траве тускло отблёскивает фигурка из зелёной резины. Я осторожно поднимаю её. Это игрушка, динозавр – только он, очевидно, мёртв, и перед смертью ему пришлось тяжко. Одна нога почти сожжена, расплавилась в уродливые чёрные наросты. По груди идут десятки мелких и глубоких порезов, через которые видно белёсую резиновую плоть. Ещё один глубокий разрез идёт по чешуйчатой шее – там, где у динозавра предполагается горло.
Сначала мне хочется забрать его – в качестве улики и жутковатого сувенира. Но, подумав, я аккуратно кладу игрушку на землю и даже стараюсь положить именно в то место, откуда взял. Зачем мне чужой труп?
Вытираю руки о мокрую траву и ухожу.
Уже у дома мне приходит в голову ещё одна мысль. Я вприпрыжку поднимаюсь по лестнице, не снимая ботинок, врываюсь в комнату и, перерыв ящики стола, хватаю флакончик канцелярской замазки. Спускаюсь вниз и, обогнув дом, возвращаюсь к его изнанке.
«Они живут, пока ты спишь». Что написать в ответ? «За что казнён ящер?», «Кто такой Мик?», «Как сложить круг?» Вопросов у меня много. Но я качаю головой и, улыбаясь, аккуратно вывожу простые слова:
«Всем привет! Я ищу друзей здесь».
И подписываю – «Новичок».
Критически оглядываю надпись. По-моему, я себя выдал. Разве ребёнок так напишет? С другой стороны, а как напишет ребёнок?
* * *
Кухня встречает меня порывом упругого морского ветра и огромной лужей на полу. По луже бежит рябь и прыгают солнечные блики, в северном углу курсирует коричневый сморщенный листок. Оказывается, я забыл закрыть окно.
Стаскиваю свои вычищенные брюки и пальто и, чертыхаясь («Время, я теряю время!»), берусь за уборку. Под конец её кухня становится намного чище. А я перестаю чувствовать себя лощёным хлыщом, что тоже хорошо.
Ставлю на огонь кофе и начинаю подбирать слова для предстоящего разговора. Мне нужно узнать имя следователя, приходившего к Раабе. Учитывая, что я нанялся, обещая эксклюзивный материал, теперь просить информацию как-то неловко. И было ещё что-то… Я листаю блокнот, потом номера «Еженедельного материала», и наконец взгляд цепляется за искомое.
«Когда полицейский спросил, почему Ева не беспокоится о пропаже сына, она впервые за весь допрос улыбнулась. “Я не могу объяснить, это очень сложно. Очень, очень сложно”, – несколько раз повторила Ева, кивая и улыбаясь».
Вот оно, номер за 20 января. Сверяюсь с блокнотом – всё правильно. Тела Евы и Золя были найдены 3 февраля. Врач заключил, что Раабе были мертвы по меньшей мере неделю. Значит, их убили почти сразу после допроса.
В конце номера я нахожу адрес и телефон редакции. Выхожу в прихожую, где блестит медным диском мой роскошный телефон. Собираюсь с духом – почему-то я побаиваюсь ту девушку, с её гладкими тёмными волосами и мальчишескими скулами – и набираю номер. Никакой надежды, что трубку возьмёт Томас Луни, у меня нет.
– Добрый день, – отвечает она после первого гудка.
– Добрый день, – лихорадочно пытаясь добавить в голос обходительного баритона и неимоверным усилием воли раздвигая губы в улыбке (улыбку всегда слышно), говорю я. – Это Артём Луниш, мы с вами договаривались…
– Да, я помню, Артём. Вы уже готовы?
Мне кажется, или она тоже теперь улыбнулась?
– Нет, – говорю, – не вполне. Мне нужно у вас уточнить кое-что.
В трубке раздается непонятный шорох и шелест, следует пауза.
– Да-да, я вас слушаю.
Я вздыхаю – разговор как-то не клеится, – но беру себя в руки.
– Во-первых, в номере от 5 февраля вы сообщаете об обстоятельствах обнаружения тел Раабе. Там упоминается следователь, который к ним заходил. Мне очень нужно его имя или хотя бы имя журналиста, который писал материал.
– А во-вторых? – спрашивает девушка. Да, она мастер. Настоящий мастер переговоров. Томас Луни может быть спокоен под сенью её тёмных шелковистых крыл.
– А во-вторых, в номере от 20 января описывается допрос Евы Раабе. Мне важно знать, присутствовал ли журналист при допросе? Или он всё записал с чужих слов?
– Подождите немного, – всё так же бесстрастно отвечает девушка и исчезает в тишине.
Я жду. Неужели? Неужели всё-таки?
В трубке шуршит и трескает, девушка говорит:
– Следователя зовут Рудольф Бауэр. Адреса и телефона у меня нет.
– Имени более чем достаточно, спасибо вам огромное!
Она пропускает мои благодарности мимо ушей.
– На второй вопрос я не могу вам ответить.
– Даже имя журналиста не можете сказать? – я растерян.
– Даже имя журналиста. Могу сказать, что информация о допросе – из непроверенного источника. Непроверенного, но обычно точного.
– Хорошо, – говорю. – Ещё раз спасибо.
– Пожалуйста. А как там ваш анонимный источник? И первый материал?
– Всё хорошо, – с полной уверенностью в собственных словах говорю я. – Материал будет готов завтра-послезавтра, и после него вы прогремите на весь Город, ручаюсь.
– Прогремим? – протягивает девушка (теперь она точно улыбается).
– В хорошем смысле слова, – улыбаюсь я. – Будьте уверены.
– Очень рада. Мне пора работать, Артём.
– Мне тоже, – я вздыхаю. – А как вас зовут?
– Ольга.
– Очень рад был с тобой поболтать, – ободрённый отсутствием фамилии, лихо перехожу на «Ты». – И ещё раз спасибо. И до свиданья.
– Пожалуйста. До свиданья.
* * *
Отыскав на карте главное полицейское управление, я сворачиваю папиросу, повязываю галстук и отправляюсь в путь. День потихоньку переходит в вечер, и трамвай везёт меня сквозь розовые отблески неба и удлинившиеся тени. Мы едем, и улицы постепенно становятся шире и безлюднее. Все они застроены какими-то мрачными зданиями, странным образом сочетающими архитектуру палаццо и торгового склада. Последнюю остановку я проезжаю совсем один, по пустому широкому проспекту, закованному в гранит стен.
* * *
Выхожу, поневоле ёжась от обстановки, закуриваю. Передо мной главное полицейское управление – скучное здание из серого камня с узкими прямоугольными окнами. Перед домом небольшой палисадник в красном солнечном свете, и длинные тени деревьев растягиваются по стене.
Над дверью пламенеет в вечернем солнце бронзовая вывеска. Уже берусь за ручку, как дверь распахивается, чуть не сбив меня с ног, и из неё выходит самый страшный человек, которого я когда-либо видел. У него круглое жёлтое лицо – по-настоящему круглое, как луна. Широкая улыбка собирает складки на круглых щеках, неровные зубы влажно поблёскивают, а маленькие глазки в первый миг кажутся мне просто ещё двумя складками кожи. Я узнаю его сразу – это главный полицмейстер. Но боже мой, кто же знал, что фото в газете было настолько точным!
Несколько мгновений он стоит, повернувшись ко мне жутким лицом, и смотрит. Я замечаю остальное: закатную тень, перечёркивающую жёлтое восковое лицо. Жёсткий ёжик коротких чёрных волос на макушке – отвратительных, как издевательство над трупом. Очень дорогой костюм, из воротника рубашки которого нелепо торчит эта идеально круглая голова. Руки в перчатках.
Наконец он разворачивается и стремительно уходит. Голова плывёт в тени домов и деревьев, как воздушный шар, и даже словно бы светится.
* * *
Так. Мне надо передохнуть. Сажусь на ограду палисадника, стаскиваю шляпу с бледного и мокрого лба. Папироса куда-то пропала из моих пальцев, и я сворачиваю новую.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?