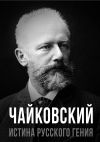Текст книги "Неизвестный Чайковский. Последние годы"

Автор книги: Сборник
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Известие, что государь удостоил спросить обо мне[68]68
Его императорское высочество писал так: «Государь спрашивал меня сегодня, не играю ли я чего-нибудь нового из ваших сочинений, и не написали ли вы за последнее время мелких фп. вещей».
[Закрыть], глубоко радует меня. Как понять вопрос государя о мелких пьесах? Если это косвенное поощрение меня к сочинению подобных вещей, то при первой возможности я займусь ими. Мне ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную симфонию, которая была бы как бы завершением всей моей сочинительской карьеры, – и посвятить ее государю. Неопределенный план такой симфонии давно носится у меня в голове, но нужно стечение многих благоприятных обстоятельств для того, чтобы замысел мой мог быть приведен в исполнение. Надеюсь не умереть, не исполнивши этого намерения. В настоящее время я совершенно поглощен здешними концертами и приготовлением к рубинштейновскому юбилею. Вчера успешно дирижировал 2-м концертом музыкального общества.
Так как это было в первый раз, что Петр Ильич дирижировал чужими произведениями, то привожу всю программу концерта 28 октября: 1) Симфония D-дур, № 38, Моцарта. 2) Скрипичный концерт П. Чайковского, в исполнении А. Бродского. 3) Два танца из оперы «Идоменей» Моцарта. 4) Увертюра к трилогии Эсхила «Орестея» (в 1-й раз) С. Танеева и 5) «Арагонская хота» М. И. Глинки.
XV
Может быть, за год, а может быть, и в самый год поступления Петра Ильича на курсы Зарембы, т. е. в 1860 или 1861 году, не помню, в доме князя Белосельского был благотворительный спектакль любителей. Петр Ильич и мы, двое близнецов, были в числе зрителей. Между последними был также Антон Григорьевич Рубинштейн во цвете своей своеобразной, если так можно выразиться, чудовищной красоты гениального человека, и тогда уже – на вершине артистической славы. Петр Ильич показал мне его в первый раз, и вот сорок лет спустя у меня живо в памяти то волнение, тот восторг, то благоговение, с которыми будущий ученик взирал на своего будущего учителя. На сцену он уже не смотрел, а как влюбленный юноша трепетно следит издали за недоступной ему красавицей, – не отрывал глаз от своего «божества», в антрактах незаметно ходил за ним, старался расслышать его голос и завидовал счастливцам, которые могли пожать ему руку.
В сущности, это чувство (я бы сказал «влюбленности», если бы оно не было основано на вполне сознательном отношении к артистическим и человеческим достоинствам Антона Рубинштейна) не покинуло Петра Ильича до гробовой доски. По внешности он был именно «влюблен» и, как это свойственно влюбленности, с периодами охлаждения, ревности, озлобления, сменявшихся наплывами все того же чувства, которое поразило мое детское воображение в зале князя Белосельского. Так, в присутствии Антона Григорьевича он всегда робел, терялся, как подобает обожателю, смотрел на него, как на существо настолько вышестоящее, что в своих сношениях исключал всякую возможность равенства. – Когда во время юбилейных торжеств А. Г. Рубинштейна, как-то за ужином, кто-то в тосте неделикатно и неуместно выразил желание, чтобы Антон Григорьевич выпил брудершафт с Петром Ильичом, последний не только смутился, но вознегодовал на это и в ответной речи искренно и горячо протестовал, говоря, что у него «язык не повернется обратиться на «ты» к Антону Григорьевичу», что «это идет вразрез с сущностью их отношений, что он был бы счастлив, если бы Антон Григорьевич говорил ему «ты», навсегда отказываясь переменить свое «вы», выражавшее то чувство благоговения, которое он к нему питает, то расстояние, которое отделяет ученика от учителя, человека от воплощения его идеала». Это была не фраза. Действительно, Антон Григорьевич был первый, который дал начинающему композитору образец артиста, бескорыстно, беспредельно преданного интересам своего искусства и честного до мелочей в стремлениях и в средствах достижения намеченной цели. И в этом смысле, несравненно более, чем вследствие уроков композиции и инструментовки, Петр Ильич был учеником его. При врожденном таланте, при жажде учиться, которая его охватила, всякий другой профессор дал бы ему то, что дал Антон Григорьевич, в сущности, не запечатлевший ничем своего влияния на сочинениях Петра Ильича. Как энергический, безупречно чистый деятель, как гениальный артист, как человек, не способный ни на какие сделки с совестью, неутомимый враг шарлатанства, величаво презирающий торжествующую пошлость, не допускающий никаких уступок ей, наконец, как неустанный труженик – он, несомненно, был учителем, оставившим глубокий след на артистической деятельности Петра Ильича, и в этом смысле, как последний выражается в письме к известному немецкому критику и журналисту Евгению Цабелю, личность А. Рубинштейна «горела на небе яркой путеводной звездой» перед ним.
Но небу свойственно заволакиваться облаками и тучами, и истина требует упомянуть о том, что в жизни Петра Ильича были периоды, и даже очень продолжительные, когда «путеводная звезда» исчезала с горизонта. Так, признавая гениальный композиторский талант Антона Григорьевича, очень высоко ставя некоторые его сочинения, как «Океан», «Вавилонское столпотворение», фп. концерты, «Иоанн Грозный», «Дон-Кихот», многие номера «Демона», «Фераморс», массу фп. вещей, виолончельную сонату и др., Петр Ильич негодовал и возмущался бессодержательностью несравненно большего числа других его произведений. Часто и как человек Антон Григорьевич в отдельных поступках вызывал тем более порицаний и недовольства Петра Ильича, чем большего он ждал от него. Резко и так резко, что, зная несоответствие сути отношений к Антону Григорьевичу и не желая дать читателю ложного понятие о них, я должен был в письмах выпускать его отзывы, – говорил он о своей «звезде», с тем чтобы очень скоро после этого забыть, простить ей ее затмение и относиться к ней с прежним благоговением. – Но глубже, продолжительнее, больнее всего, потому что тут играло роль артистическое самолюбие, – отзывалось в Петре Ильиче проявление антипатии к нему как композитору, которой Антон Григорьевич не изменил до смерти.
Он не любил композитора Чайковского. Многие близкие к Антону Григорьевичу лица, с супругой его Верой Александровной во главе, утверждают противное. Но тогда это была любовь Вотана к Вельзунгам. Радуясь успехам Зигмунда-Чайковского, сочувствуя в глубине души Зигфриду-Чайковскому, Вотан-Рубинштейн никогда ничем не помог, ничего не сделал для поощрения его композиторства, и если подобно царю валгаллских божеств не наслал на него Гундинга, не старался никогда, как Единоокий Странник, в единоборстве пронзить его копьем, то много раз язвил его презрительным молчанием и неодобрительным взглядом. – С первой консерваторской задачи до Патетической симфонии включительно ни одно произведение никогда им не было одобрено и, правда, только редко вызывая порицание, все без исключения молчаливо презирались, как нечто не стоящее внимания заодно со всей послешумановской музыкой. – «В моей молодости, – говорит Петр Ильич в помянутом выше письме Евгению Цабелю, – я горел желанием выдвинуться, завоевать себе имя, стать в ряду композиторов по призванию, и я надеялся, что А. Рубинштейн, тогда уже занимавший значительное положение в музыкальном мире, меня поддержит на трудном пути к славе. Но я с грустью должен сказать, что этого никогда не было. Само собой разумеется, он никогда мне не вредил – он слишком благороден и великодушен для того, чтобы подбрасывать камни под ноги товарища; но никогда не выходил по отношению к моим произведением из холодной сдержанности и полнейшего равнодушия. Меня это всегда мучило. Вероятнейшая причина такого отношения был простой факт нелюбви к моей музыке и безотчетная антипатия к моей индивидуальности».
Так оно, несомненно, и было. Легенда о зависти Антона Григорьевича, не подтверждаемая ни одним фактом, возмущала и сердила Петра Ильича. Допустимая до некоторой степени к Петру Ильичу восьмидесятых годов, когда он стал известен и уважаем, она ничего не объясняет в отношениях к ученику Петербургской консерватории, с данными, но с очень проблематической будущностью, задачи и первые опыты которого были встречаемы творцом «Океана» с такой же презрительной холодностью, как «Евгений Онегин» и пятая симфония. Можно допустить зависть равного к равному, но не колосса, каким Антон Григорьевич уже был в шестидесятых годах, к ничтожеству, каким был тогда Петр Ильич.
Это просто было чувство, знакомое и последнему к творениям Шопена и Брамса, безотчетной и непобедимой антипатии. А. Рубинштейн же его испытывал не только к Чайковскому, но, как уже сказано, ко всей музыке после Шопена и Шумана.
Как бы то ни было, но, обижая до глубины души, подчас раздражая и часто озлобливая, это отношение к нему никогда не колебало в Петре Ильиче основу все того же восторженного поклонения А. Рубинштейну. Подувшись, посердившись, он всегда возвращался к прежнему чувству, и когда весной 1888 года председатель комиссии по устройству юбилейных торжеств в честь А. Г. Рубинштейна, герцог Георгий Мекленбург-Стрелицкий, обратился к Петру Ильичу с просьбой принять участие в них, последний с искренней радостью и готовностью отдал себя в распоряжение комиссии. Решено было поручить ему дирижирование юбилейными концертами и сочинение хора a capella, на слова Полонского, для исполнения на торжественном юбилейном акте в Дворянском собрании 18 ноября 1889 года. Кроме того, Петр Ильич должен был сочинить что-нибудь для альбома бывших учеников СПб. консерватории, поднесенного в тот же день юбиляру.
Справиться со второй частью задачи, т. е. с композицией, Петру Ильичу было нетрудно: в несколько дней он написал оба сочинения: хор «Привет тебе» и «Impromptu» для фп., – но не то было с дирижированием юбилейными концертами. Работа, которую пришлось при этом предпринять, трудности, которые надо было преодолеть, были достойными выразителями той бесконечной преданности, уважения и любви, которые он питал к «учителю».
Юбилейных концертов было два: в первом, 19 ноября, программа состояла исключительно из симфонических вещей: 1) симфония № 5 (ор. 107), 2) Konzert-stuck (op. 113) в исполнении самого юбиляра и музыкальные картины «Россия». Второй концерт состоял из: 1) увертюры «Дмитрий Донской»; 2) песни «Русалка», для контральто с женским хором и сопровождением оркестра на слова Лермонтова, в исполнении г-жи Лавровской; 3) танцев из «Фераморса» и 4) духовной оперы «Вавилонское столпотворение» с участием солистов гг. Михайлова, Нолле, Фрея, оркестра и хора в 700 человек.
Для опытнейшего дирижера изучить и подготовить такую программу было бы уже очень трудно. Для дирижера же, только за месяц до этого впервые исполнявшего чужие произведения, она уже становится несравненно труднейшей. А если вспомнить, что дирижер этот, нервный, раздражительный, вследствие врожденной деликатности не обладающий способностью импонировать массе, должен был стоять во главе 800 человек, требовать от них беспрекословного повиновения малейшему его знаку, – если знать, как мы знаем, что удивительно добросовестный и аккуратный в предпринимаемых трудах этот человек, победив свою природную мягкость, уступчивость, и на этот раз не изменил себе и, добившись господства над этой массой людей, исполнил задачу безукоризненно, – то становится понятным, что он должен был поплатиться утомлением и расстройством, которое подчас казалось ему смертельным. После репетиций, в особенности второго, вокального, концерта, он возвращался домой совершенно больной и мог прийти в себя, только пролежав несколько часов в полной тьме и тишине без сна. – «Были минуты, – пишет он Н. Ф. фон Мекк, – когда у меня появлялся такой упадок сил, что я боялся за жизнь свою. Особенно трудно было разучить «Вавилонское столпотворение» с хором в 700 человек. На концерте 20 ноября, после первой части концерта, перед тем, как надобно начинать эту ораторию, у меня сделался сильный нервный припадок, и несколько минут опасались, что я не в состоянии буду выйти на эстраду, но, может быть, благодаря именно этому кризису я мог сделать над собой усилие, и все кончилось вполне благополучно. Не буду вам описывать подробности празднеств, ибо вы, вероятно, уже знаете их из газет. Скажу только, что с 1 ноября по 19-е я был настоящим мучеником и теперь удивляюсь, что мог все это перенести».
XVI
За время с 29 октября 1889 года по 14 января 1890 г. в Клину хранятся копии только 12 писем, из коих только два представляют биографический интерес (от 22 ноября и 17 декабря, № 2587 и 2589), все остальные не более как записочки будничного, проходящего интереса и значения. Такое уменьшение корреспонденции есть показатель состояния нервного расстройства и какой-то растерянности, в которых находился Петр Ильич в это время. Писать письма давно уже не было приятным долгом, как в конце семидесятых годов; но все же «долгом», а небрежно относиться к нему он мог только при исключительных обстоятельствах, какими так богато было начало этого сезона. Он вышел из колеи и напрягал все усилия только к одному – добросовестно исполнять обязанности главного участника в торжествах А. Рубинштейна и главного распорядителя и дирижера концертов Рус муз. общества в Москве, все остальное, начиная, конечно, с творчества, которое более чем что-либо требовало спокойного состояния духа, было им запущено, и самоупреки в безделье добавляли еще лишнее мучение и предлог для нервного расстройства.
Едва справившись с юбилейными концертами в Петербурге, 22 ноября он уже был в Москве, где через три дня ему предстояло выступить дирижером 9-ой симфонии Бетховена в экстренном собрании Рус. муз. общ. в пользу фонда для вспомоществования вдовам и сиротам музыкальных артистов. По объему и количеству исполнителей, во главе которых приходилось стоять Петру Ильичу, «Вавилонское столпотворение», конечно, больше 9-й симфонии, но по ответственности за оттенки, по сложности партитуры, по значению каждого такта и, наконец, по трудности соперничества с такими опытными и даровитыми исполнителями этой вещи, как Н. Г. Рубинштейн и М. Эрдмансдерфер, которыми так довольна была Москва, конечно, колоссальнейшее во всех отношениях произведение Бетховена превосходило ораторию А. Рубинштейна. Между тем для разучивания ее предвиделось значительно меньшее количество репетиций, т. е. обычные, традиционные три. Но когда вследствие разных недоразумений оказалось, что и стольких не насчитается, а будет всего две – тревога и волнение Петра Ильича страшно усилились.
В Клину есть только два печатных сведения об этом концерте, но оба – отзывы людей, беззаветно преданных Петру Ильичу: Н. Д. Кашкина в «Русских ведомостях» и Г. Конюса в «Московских», которые поэтому, при всей правдивости, все же, вероятно, невольно пристрастны в своих похвалах.
Кроме этого, в том же симфоническом собрании было исполнено в первый раз Pezzo Capriccioso для виолончели, с аккомпанементом оркестра, А. Брандуковым, по словам тех же рецензентов, – «с блестящим успехом».
Худо было то, что после всех этих тревог, волнений и утомления у Петра Ильича не было прежнего деревенского уголка, где в тиши и одиночестве он скоро находил восстановление сил. Московская квартира, несмотря на все меры, которые он принимал, не была ограждена от непрерывных посещений; к тому же, очень маленькая, заставляла хозяина постоянно вздыхать по простору фроловской обстановки. В довершение же всего, в ней умирала от злейшей чахотки жена Алексея Сафронова. Мы знаем отношения Петра Ильича к прислуге – для него это были не пешки, исполняющие приказание, а друзья, счастью и горю которых он сочувствовал всем сердцем, поэтому болезнь бедной молодой женщины его расстраивала, огорчала ужасно и тем более, что он не видел средств к ее спасению. Сознавая бесполезность своего присутствия, видя, напротив, в нем помеху покою и уходу за больной, так как муж был ее единственной сиделкой, Петр Ильич старался избавить его от лишнего дела и пользоваться как можно меньше его услугами.
Поэтому пребывание свое в Москве он уменьшил до минимума и в конце ноября опять был уже в Петербурге, где происходили деятельные репетиции «Спящей красавицы».
К Н. Ф. фон Мекк
Петербург. 17 декабря 1889 года.
Милый, дорогой, бесценный друг мой, где вы теперь? Не знаю; а между тем ощущаю такую непреодолимую потребность хоть немножко побеседовать с вами, что начинаю писать, имея в виду отослать письмо, когда в Москве узнаю ваш адрес. Вот уже почти три недели, что я бездельничаю в Петербурге. Говорю «бездельничаю», ибо своим настоящим делом я считаю сочинение; а все мои труды по части дирижирования в концертах, присутствования на репетициях балета и т. п. чем-то случайным, бесцельным и только сокращающим мой век, ибо нужно страшное усилие воли, чтобы переносить тот образ жизни, который я должен вести в Петербурге. Самое ужасное то, что я никогда не бываю один и вечно нахожусь в каком-то ненормально возбужденном состоянии. Это, несомненно, должно отозваться рано или поздно на моем здоровье. В эти три недели я постоянно должен был посещать репетиции моего балета, да кроме того пришлось дирижировать на Русском симфоническом концерте[69]69
10 декабря Петр Ильич дирижировал увертюрой-фантазией «Гамлет» и фантазией для фп. с оркестром в исполнении г-жи Бертенсон-Воронец.
[Закрыть]. Балет, ради которого я так долго оставался здесь, со дня на день откладывается вследствие не готовых декораций, и теперь он назначен на 3 января. Между тем у меня в Москве много всякого дела, и я решился завтра, 18, туда ехать; к первому же представлению балета снова вернусь сюда. 6 января я должен опять быть в Москве, чтобы дирижировать в концерте муз. общ., где А. Г. Рубинштейн будет играть свое новое сочинение, а 14 снова в Петербурге дирижирую в общедоступном концерте. Но затем – больше сил нет; я решил отказаться от всех заграничных и здешних приглашений и уехать месяца на 4 куда-нибудь в Италию отдыхать и работать над будущей моей оперой. Я выбрал сюжетом для этой оперы «Пиковую даму» Пушкина. Случилось это таким образом: брат мой, Модест, 3 года тому назад приступил к сочинению либретто на сюжет «Пиковой дамы» по просьбе некоего Кленовского и в течение этих трех лет сделал понемногу очень удачное либретто.
Москва. 26 декабря 1889 года.
Продолжаю писать уже более чем через неделю, в Москве. Итак, либретто для «Пиковой дамы» сделано братом, Модестом, для г. Кленовского, но сей последний от сочинения музыки, в конце концов, отказался, почему-то не сладив со своей задачей. Между тем директор театров, Всеволожский, увлекся мыслью, чтобы я написал на этот самый сюжет оперу, и притом непременно к будущему сезону. Он высказал мне это желание, и так как это совпало с моим решением бежать из России в январе и заняться сочинением, то я согласился. Было назначено заседание целой импровизированной комиссии, на которой брат мой прочел свое либретто, причем были обстоятельно обсуждены сценические достоинства и недостатки его произведения, проектированы декорации, даже распределены роли и т. д. Таким образом, уже теперь в дирекции театров идут толки о постановке оперы, ни одной ноты из которой еще не написано. Мне очень хочется работать, и если удастся хорошо устроиться где-нибудь в уютном уголке за границей, – мне кажется, что я свою задачу осилю и к маю представлю в дирекцию клавираусцуг, а летом буду инструментовать его.
<…> Был я на днях в концерте Генриха Пахульского. Он играл очень мило, музыкально и безупречно в техническом отношении, но ему недостает силы и огня.
К 1 января Петр Ильич снова был в Петербурге, а 2-го состоялась торжественная репетиция «Спящей красавицы» в присутствии высочайшего двора.
В сущности, это было первое представление, потому что, кроме партера, предоставленного исключительно высочайшим особам и свите, все ложи первых ярусов были переполнены лицами высшей аристократии. Главная разница заключалась только в том, что в антрактах не было вызовов, но зато нечто важнейшее для всех трех авторов, т. е. для И. А. Всеволожского, М. Петипа и П. Чайковского – приговор государя. Приговор был милостивый: их величества часто аплодировали, в антрактах ласково беседовали с авторами, но особенного восторга не обнаружили и не сразу полюбили музыку этого балета так, как любили ее потом. «Очень мило» – вот все, что отмечает Петр Ильич из слов государя, обращенных к нему, и судя по тону дневника, а также по мрачному настроению, в котором провел вечер этого дня (репетиция происходила днем), он был очень огорчен краткостью и сдержанностью такой похвалы.
Интересно, что на другой день, 3 января, на первом представлении, приговор публики совершенно сходился с приговором государя и вызовами, рукоплесканиями без всякой восторженности говорил то же: «Очень мило» – не более. И так же, как накануне, Петр Ильич чувствовал себя очень огорченным.
Огорченным, потому что, знакомясь на репетициях с чудесами изящества, роскоши, оригинальности костюмов и декораций, с неистощимой фацией и разнообразием фантазии М. Петипа, Петр Ильич имел возможность постепенно, картина за картиной оценить свежесть замысла, массу таланта и утонченнейшего вкуса, вложенного в мельчайшие подробности этого балета, и ожидал, что в сочетании с его музыкой, которую любил больше всего, после «Евгения Онегина», все вместе вызовет бурю восторгов.
Этого не случилось, потому что сразу ошеломленная и новизной программы, и обилием ослепительных подробностей публика не могла оценить балет так, как оценила его потом, как ценили его те, кто следил шаг за шагом за его постановкой. Красоты подробностей промелькнули быстро сменяющейся чередой незамеченными, и сдержанное «очень мило» было все, что она могла сказать в первый раз, вызывая шумно, но без настоящего увлечения и композитора, и капельмейстера г. Дриго, прекрасно справившегося со своей задачей. И тем не менее успех был колоссальный, но выказавшийся, так же, как и успех «Евгения Онегина», не в бурных проявлениях восторга во время представлений, а в бесконечном ряде полных сборов.
Эта внешняя холодность приема публикой дала повод газетам, в особенности так называемой «мелкой прессе», возвести ее в «фиаско», радоваться неуспеху «Спящей красавицы» и на все лады порицать, глумиться и над программой, и над постановкой, и над музыкой. Сюжет оказался «мало поэтичным, банальным, недостойным» балетной сцены Петербурга, постановка – «музеем бутафорских вещей», «бесцельным бросанием денег», музыка – «скучной», «не то симфония, не то меланхолия», «массивной», «непонятной» – один рецензент сравнил ее с музыкой «Нибелунгов» и говорил, что в музыке М. М. Иванова к «Весталке» такая музыка оправдывается драматичностью содержания, а в «Спящей красавице» неуместна.
Очень восторженный и с верным пророчеством успеха балета был только отзыв автора помянутой «Весталки» в фельетоне «Нового времени».
4 января Петр Ильич уехал в Москву. 6-го участвовал в симфоническом собрании Рус. муз. общества и, окончательно убедившись в невозможности жить покойно в Москве, решил ехать за границу, чтобы там в одиночестве предаться всецело сочинению «Пиковой дамы». 11 января он вернулся в Петербург и 14-го в сопровождении моего слуги, Назара Литрова, так как Алексей Сафронов не мог отойти от постели умирающей жены, уехал за границу, не решив твердо, где именно поселится.
XVII
К М. Чайковскому
Берлин. 16/28 января 1890 г.
Милый Модя, я всю дорогу не мог решить, куда ехать, ибо, по правде, мне никуда не хочется. Но, наконец, сегодня все-таки остановился на Флоренции, даже взял билеты, чтобы больше не тянуть бесконечной нерешительности. Всю дорогу я или неистово скучал (лучше сказать – тосковал), или спал. От границы мы ехали отлично, в спальном вагоне. Ах, как мне скучно, как я не в духе, – и даже не понимаю отчего! Вероятно, работа спасет меня от этого несносного состояния. Остановились в hotel de Rome и сегодня же вечером едем во Флоренцию. Пожалуйста, проси всех мне писать.
К М. Чайковскому
Флоренция. 18/30 января 1890 года.
Модя, сегодня утром приехали. Дорога была очень удобна, все время одни, но я продолжал невыносимо скучать. Италия, Флоренция, все это пока не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Кроме желания удрать, ничего не испытываю. Я устроился здесь в гостинице весьма удобно. У меня совершенно отдельная квартира. Буду есть за особым столом, у Назара порядочная комната, и за все это 26 с половиной фр. в день (с лампой). Кажется, недорого. Квартира моя состоит из гостиной, очень банально и безвкусно меблированной, и спальни, а также темной комнатки для склада вещей. Окна выходят на Лунгарно. В хорошую погоду будет весело смотреть на едущих в Cascine; но когда станет теплее, то жара будет, вероятно, ужасная. Мы сегодня с Назаром походили по городу, взбирались к S.Miniato, завтракали у Gilli e Letta, причем макароны были превосходны; потом устраивались в своем помещении, потом были в ваннах. Теперь, перед обедом, пишу письма. Назар для меня и большое утешение, и вместе с тем источник страдания, ибо он уже теперь геройски скрывает тоску, а что же будет дальше? Посмотрю, что выйдет, когда завтра примусь за работу. Если и работа не пойдет – то вернусь в Россию. Не могу жить вне России.
Дневник
19 января 1890 г.
<…> Начал оперу и недурно (начало украдено у Направника)[70]70
Э. Ф. Направник решительно не может припомнить, из какого его сочинения.
[Закрыть].
К П. И. Юргенсону
Флоренция. 22 января 1890 г.
<…> Я вышел из периода мерлихлюндии благодаря работе, которая, слава Богу, идет хорошо, но нельзя сказать, чтобы чувствовал себя счастливым. Хорошо то, что здесь мне очень удобно писать без помехи, – а ведь я хочу сделать невероятный фокус: написать оперу к будущему сезону! Таково желание весьма благоволящей ко мне дирекции, а я не имею причин не стараться пользоваться этим благоволением. К тому же я, признаться, люблю работать к спеху, люблю, когда меня ждут, торопят. И это нисколько не отзывается на качестве моих произведений: «Спящая красавица» едва ли не лучшее из всех моих сочинении, – а ведь я написал ее невероятно скоро. Жив ли Фитценгаген? Совестно говорить о замещении его, пока он жив. Но если место его очистится, по-моему, кроме Брандукова, никого нельзя пригласить, а если Сафонов с этим не согласен, то… я останусь при своем мнении. Ради бога, не оставляй меня письмами, я страшно нуждаюсь в них.
К М. Чайковскому
Флоренция. 23 января 1890 г.
Модя, вот уже 6 дней, что я здесь; порядок жизни установился; я вошел в норму и могу писать без жалобы на тоску. Я устроился очень хорошо. Квартира моя, несмотря на поразительно банальную обстановку (точно где-нибудь в русской провинции), очень удобна и симпатична, а главное покойна и безусловно ограждена от проникновения каких бы то ни было звуков, кроме уличных. По вечерам «банальность» менее чувствительна благодаря ламповому освещению. Встаю около восьми. Подается бульотка, и я пью чай и читаю газеты «Nazione» и «Figaro». Потом работаю до 12 с половиной часов. Завтракаю, гуляю. Возвращаюсь в 3 часа и пью чай. До 4 часов смотрю с Назаром на процессию экипажей, едущих в Кашине. От 4 до 7 работаю. В 7 часов иду обедать. Обедаю и завтракаю за отдельным столиком. Кормят очень хорошо. После обеда гуляю или иду в театр. Был два раза в цирке и раз в Pagliano. Давали «Аиду». Постановка мизерная, хоры отвратительные, оркестр валяет кто во что горазд, но певицы, особенно Амнерис (толстая Зингер, помнишь, наша соседка в hotel Costanzi?), очень хороши. В общем, чисто провинциальная опера, несмотря на колоссальные размеры театра. И такой порядок каждый день. Если не иду в театр, то пишу письма и читаю.
Назар или в самом деле очень доволен, или притворяется довольным, но, по-видимому, сияет. Комната его превосходна; он имеет по вечерам лампу и вообще с материальной стороны обставлен отлично. Я весьма доволен Назаром и очень радуюсь, что он со мной, ибо не будь его, гнездящееся во мне чувство печали грызло бы меня бесконечно больше.
Теперь скажу тебе насчет работы. Я принялся сразу очень усердно и уже сравнительно много сделал. Если так все дальше пойдет, то скоро придется просить тебя посылать дальнейшие действия[71]71
У Петра Ильича было с собой только первое.
[Закрыть]. Либретто ты сделал очень хорошо, но есть недостаток: многословие. Пожалуйста, будь как можно короче и лаконичнее. Кое-что пропускаю. Стих иногда совсем хорош, иногда жестковат, иногда даже очень: например, «целый б день гулять». Частица «бы» не может находиться после «и» с краткой. Почему? объяснить не могу. Но в общем, скажу, положа руку на сердце, что либретто превосходно, и видно, что ты знаешь музыку и музыкальные требования, а это для либреттиста весьма важно.
К М. Чайковскому
Флоренция. 25 января 1890 года.
Милый Модя, спешу тебе написать по поводу твоего предложения сюда приехать. Спасибо, что ты так близко к сердцу принял мою жалобу на тоску, которая в первое время изводила меня. Теперь стало совершенно иначе, и хотя никакого блаженства от пребывания во Флоренции я не испытываю, – но прежняя болезненная тоска совершенно прошла. Работа моя пошла, и пошла хорошо. Это совершенно изменило мое нравственное состояние. Нужно во что бы то ни стало написать к весне оперу. Спрашивается, отвечает ли окружающая меня обстановка и мой образ жизни требованиям успешной работы? Отвечаю: вполне. Ничто и никто мне не мешает, по вечерам имею возможность себя рассеивать, гулянье очень удобное, – словом, все, что нужно, дабы без ущерба для здоровья напрягать свои силы. Мне совершенно все равно, где находиться, лишь бы работать хорошо. В России теперь у меня нет подходящего места, да если бы и было Фроловское, все-таки я бы был слишком близко к Москве и к Петербургу. Хорошо то, что отдаленность уменьшает мой интерес к московским музыкальным делам, которые я принимаю слишком близко к сердцу. Ну, словом, я не блаженствую во Флоренции, но нашел в ней все, что требовалось для удачной работы. Разумеется, я был бы очень рад, если бы еще ко всему этому прибавить общество близкого человека – но оно в настоящее время мне не необходимо. Будь у меня теперь много лишних денег, я бы просто придрался к своему одиночеству, чтобы дать тебе случай побывать в Италии. Но в денежном отношении покамест очень плохо. Я написал Герке, чтобы выхлопотал мне субсидию из кассы музыкальных художников, разумеется, заимообразно.
В работе я дошел теперь до баллады. Для 7 дней работы это порядочно. Кажется, недурно выходит. Смотри, Модя, не запоздай дальнейшей присылкой. Думаю, что к половине февраля я все 1-е действие кончу, т. е. обе картины. Меня очень беспокоит и угнетает отсутствие известий от Алеши. Верно, Феклуша умерла.
К А. К. Глазунову
30 января 1890 г.
Дорогой, милый, хороший Александр Константинович, ужасно был я тронут милым, столь сердечным письмом. Я очень нуждаюсь теперь в дружеском сочувствии и в постоянном общении с близкими сердцу людьми. Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное, и даже, как это свойственно финалам, банальное. А вместе с этим охота писать страшная. Черт знает что такое! С одной стороны, чувствую, что как будто моя песенка уже спета, а с другой – непреодолимое желание затянуть или все ту же жизнь, или, еще лучше, новую песенку… Впрочем, повторяю, я сам не знаю, что со мной происходит. Например, я прежде до безумия любил Италию, и Флоренцию между прочим. Теперь я должен сделать страшное усилие, чтобы вылезти из моей конуры, и когда вылезаю, то не ощущаю никакого удовольствия ни от синего итальянского неба, ни от лучезарного на этом небе солнца, ни от беспрестанно попадающихся прелестей архитектуры, ни от кипучей уличной жизни. Все это прежде так радовало меня, так питало мое воображение! Не в том ли болезнь, что мне через два месяца стукнет 50 лет и что воображение человека, столько пожившего, отказывается окрашивать окружающие предметы?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?