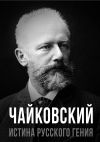Текст книги "Неизвестный Чайковский. Последние годы"

Автор книги: Сборник
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
К М. Чайковскому
Берлин. 5 февраля 1889 года.
Голубчик Модя, вчера состоялся берлинский концерт. Я играл только две вещи: струнную серенаду и «Франческу». Зал был переполнен, успех был большой, хотя собственно «Франческа» не произвела такого эффекта, как я ожидал, ибо оркестр играл до того чудно, что мне казалось, публика от одного исполнения должна была в восторг прийти. Очень явственно я слышал два или три свистка. Особенно понравился вальс серенады. Кажется, со времен Ахена я еще не проводил таких томительных, скучных дней, как теперь. Я глубоко несчастлив и, признаюсь, мысленно часто ругаю Васю, из-за которого должен еще долго томиться. Не будь лондонского концерта с Васей, я бы, конечно, сейчас уехал. Даже я было решил, несмотря ни на что, прямо из Берлина ехать на Кавказ, но вчера пришло письмо от Васи, в коем он так безумно радуется своей поездке, что нет сил разочаровывать его. В Берлине я веду жизнь, совершенно как в Петербурге, т. е. целый день в гостях, и это самое страшное для меня. Единственное утешение – Арто, которую всюду со мной приглашают и которую я ужасно люблю. Сейчас иду завтракать к послу. Вечером буду у Клиндворта, он дает музыкальный вечер в мою честь из одних моих сочинений. Завтра поеду в Лейпциг для свидания с Бродскими. Оттуда прямо в Женеву. После женевского концерта хочу пожить в Vevey недели две в одиночестве и буду сочинять 4-е действие балета.
Берлинская печать отнеслась на этот раз к Петру Ильичу строже, чем в других германских городах. Как в 1878 году, «Франческа» большинством рецензентов была признана «длинной-длинной», «мучительной, наравне с адскими мучениями Паоло и Франчески», «переходящей границы удобовоспринимаемости» и проч. Серенада встретила лучший прием, хотя одобрительные отзывы о ней имеют оттенок пренебрежения к ничтожности ее содержания. – Один критик нашел в ней знакомые «Operetten Geschichten, но в прелестном туалете, в котором приятно с ними встретиться».
Только один рецензент «Fremdenblatt» нашел во «Франческе» «величие дикции, мощь и великолепие красок, делающие эту вещь одним из интереснейших созданий новейшего времени».
К А. К. Глазунову
Берлин. 15 февраля 1889 года.
<…> Если бы все мое путешествие состояло только из репетиций и концертов, то оно было бы даже приятно. Но, к сожалению, меня одолевают приглашениями на завтраки, обеды и ужины. Я никогда не бываю один и вследствие того чувствую такую усталость, такую тоску, что нередко, попавши домой, плачу, как маленький ребенок. В тоске, которая гнетет меня, есть что-то болезненное, жгучее и в высшей степени неприятное. Говорю вам совершенно искренно, что я не выдержал и удрал бы домой, если бы не мысль, что в лице моем чествуется русская музыка вообще и что я должен являться туда, где мной интересуются. Весьма сожалею, что в русских газетах про одержанные мною победы ничего не пишут. Но что тут делать? У меня нет друзей в русской прессе, да если бы и были, как-то совестно посылать о себе известия. Газетные статьи про меня очень курьезны: некоторые – сильно ругательные, другие – лестные, но и те, и другие свидетельствуют об очень малом знакомстве немцев с русской музыкой. Впрочем, есть и исключения. И в Кёльне, и в других городах я встречал людей, серьезно заинтересованных и хорошо знающих русскую музыку. Чаще всего похваливают симфонию Es-дур Бородина. Вообще Бородин особенно пришелся по вкусу немцам (хотя, собственно, только эту симфонию они и любят). Очень значительное число людей спрашивало меня про вас. Знают, что вы очень юны, и удивляются, когда я рассказываю, что вам было 15 лет, когда вы написали Es-дурную симфонию, известную им по исполнению на фестивале. Клиндворт в одном из предстоящих концертов, коими он дирижирует в Берлине, собирается сыграть что-нибудь русское. Я рекомендую ему «Испанское каприччио» Р.-Корсакова и «Стеньку Разина». Он сказал, что выпишет и одну из этих вещей сыграет. Слышал я очень мало, ибо все вечера заняты приглашениями. Был на симфоническом концерте здешнего оперного театра. Обстановка была блестящая, но исполнение очень посредственное. Играли 9-ю симфонию и очень неважно.
Отсюда я поеду в Лейпциг для свидания с тамошними приятелями, потом в Женеву, потом в Лондон и потом домой. Вторую половину марта хочу провести где-нибудь в Швейцарии и сочинять последнее действие балета.
Боже мой, как мне мучительно грустно, когда я подумаю, что мне еще полтора месяца осталось до выезда в Россию! Очень может статься, что не выдержу и уеду раньше.
К П. И. Юргенсону
Лейпциг. 17 февраля 1889 года.
<…> В Берлине я играл в филармоническом концерте струнную серенаду и «Франческу». Успех был большой, хотя я явственно слышал несколько энергических свистков после «Франчески». Клиндворт говорит, что я «ausgezeichneter Dirigent». Каково?
Клиндворт готов явиться в Москву в будущем сезоне в один из концертов по нашему выбору.
Он очень радуется этому приглашению. Программа будет вагнеровская. От Дворжака получил опять подтверждение, что он согласен приехать и дирижировать целым концертом; один он ехать не может и берет с собой жену, поэтому гонорар ему придется увеличить. Но это, по-моему, ничего. Хорошо то, что мы даже весной можем выпустить программу с такими именами, как Массне, Дворжак и даже Клиндворт. Я попытаюсь теперь пригласить Брамса. Вот хорошо бы было!!
В Лейпциге я для свидания с Бродскими и для написания писем. Послезавтра еду в Женеву. Расположение духа самое отвратительное и тоска непомерная. В Берлине меня утешали Арто и милейший Гуго Бок. Какой он славный, милый малый! Сегодня я совершенно сражен известием о смерти К. Ю. Давыдова.
Оказывается, что моя 4-я симфония произвела в Дрездене сенсацию[54]54
П. И. пишет это по прочтении восторженных статей Людвига Гартмана об этом произведении; к сожалению, все мои старания достать эти статьи пока не привели ни к каким результатам. Сам Людвиг Гартман в письменном ответе по поводу моей просьбы, называя себя одним «из первых поклонников Петра Ильича» говорит, что писал о 4-й симфонии в «Dresdner Zeitung», а редакция этой газеты сообщает, что Л. Гартман был ее сотрудником только с 1890 г.
[Закрыть].
К Н. Ф. фон Мекк
Женева. 21 февраля 1889 года.
<…> Из Берлина я проехал прямо сюда. Я приглашен дирижировать в здешнем великолепном новом театре целым концертом из моих сочинений. Он состоится в субботу 9 марта/25 февраля. Вчера состоялась уже первая репетиция. Оказалось, что оркестр в Женеве ничтожный по составу и состоящий из третьестепенных оркестровых музыкантов. Если бы я знал это, то ни за что бы не поехал, но директор театра, сделавший мне приглашение (вовсе не музыкант), вероятно, думал, что качество оркестра и количество музыкантов, его составляющих, не имеют никакого значения для приезжего композитора-дирижера. Как я справлюсь с этим провинциальным оркестром, решительно не знаю. Впрочем, нужно сказать, что они проявили удивительную старательность и усердие на вчерашней репетиции.
Продолжаю неописанно скучать, тосковать и с болезненным нетерпением ожидать конца моих странствований.
25 февраля состоялся женевский концерт в Новом театре. По словам Петра Ильича, он прошел с огромным успехом; зал был переполнен, и от русской колонии автору-дирижеру был поднесен золоченый лавровый венок. Три номера были повторены: вальс из смычковой серенады, marche-miniature из сюиты № 1 и серенада Дон-Жуана, спетая г. Дофином.
27 февраля, вечером, Петр Ильич приехал в Гамбург. В гостинице, где он остановился, рядом с его комнатой жил Брамс. Петр Ильич очень был польщен узнать, что великий немецкий композитор исключительно ради того, чтобы присутствовать на репетиции пятой симфонии, остался лишний день в Гамбурге. На другой день оркестр встретил нашего композитора очень сочувственно. Брамс выслушал всю симфонию и после репетиции, за завтраком, «высказал правдиво и просто» свое мнение: ему понравилось все, кроме финала. При этом, конечно, и самому автору эта часть симфонии «стала ужасно противна», к счастью ненадолго, как мы увидим ниже. Петр Ильич хотел воспользоваться этим свиданием с Брамсом, чтобы пригласить его дирижировать одним из симфонических собраний в Москве, но приглашение это было отклонено. Несмотря на это, личность творца «Deutsches Requiem» понравилась Петру Ильичу еще больше, чем после первого знакомства, но отношение к его творениям не изменило.
В соперничестве Брамса с Вагнером, разделявшим всю музыкальную Германию на два враждебные лагеря, Петр Ильич до конца дней не принадлежал ни к тому, ни к другому. Знамя, тенденция, личность Брамса как человека и как художника, безупречного по чистоте стремлений и благородству, – были столько же симпатичны ему, сколько антипатичны и знамя, и личность Рихарда Вагнера, но в то время, как гениальность музыки последнего находила самый глубокий отзыв в его чувстве, все, что сделал Брамс, оставляло его холодным и недоумевающим.
Кроме первой, было еще три репетиции. На второй уже «шло отлично», а после третьей Петр Ильич с радостью увидел, что музыкантам симфония нравится все больше и больше. На генеральной, платной, «был настоящий энтузиазм». С меньшим шумом, но и в концерте 3 марта успех симфонии был большой.
Приятное впечатление этого вечера было слегка омрачено тем обстоятельством, что Аве-Лаллеман, которому симфония посвящена, не мог по болезни присутствовать на концерте, а Петр Ильич так дорожил его присутствием, так хотел знать его впечатление! Перед концертом старичок прислал письмо с благословениями и пожеланиями успеха, но самой симфонии не слыхал.
Рецензии, констатируя большой успех симфонии, ее прекрасное исполнение, не в одинаковой степени остались довольны самим произведением. В то время как Зиттард, мнением которого Петр Ильич очень дорожил, в «Hamburger Correspondent» причислял новое произведение к «значительнейшим музыкальным явлениям последнего времени», что отчасти подтвердил, но с оговорками, критик «Hamburger Nachrichten», г. Эмиль Краузе в «H-r Fremdenblatt» признал ее за цепь звуковых эффектов на «фоне не особенно значительного изобретения», «экстравагантной и манерной».
К В.Л. Давыдову
Ганновер. 5 марта 1889 года.
Боб, тебя, вероятно, удивит, что я пишу из Ганновера. Но дело очень просто. Мне необходимо было написать штук 20 писем и вообще побыть в одиночестве, а это возможно лишь в таком городе, как Ганновер, где меня ни одна собака не знает. С тех пор, как я тебе писал, состоялся гамбургский концерт, и я опять принужден прихвастнуть большим успехом. Пятая симфония была исполнена великолепно, и я снова начал любить ее, а то у меня составилось было о ней преувеличенно скверное мнение. К сожалению, в России продолжают игнорировать меня в столичной прессе, и кроме моих близких людей никто о моих успехах знать не хочет. Зато в здешних газетах ежедневно большие телеграммы о том, как идут в России представления опер Вагнера[55]55
Великим постом 1889 года в Мариинском театре немецкая оперная труппа г. Неймана дала несколько циклов представлений тетралогии Вагнера.
[Закрыть]. Конечно, я не Вагнер, но все же желательно, чтобы знали у нас, как немцы приветствуют и встречают меня.
Интересно знать, как тебе понравилась тетралогия. Я предвижу, что у нас теперь заведутся свои вагнеристы. Не люблю я это отродье! Проскучавши жестоко весь вечер, но прельстившись какой-нибудь одной эффектной минутой, они вообразят, что оценили Вагнера и будут кичиться тонкостью своего понимания, обманывая и других, и себя. В сущности, Вагнер (я говорю об авторе тетралогии, а не сочинителе «Лоэнгрина») не может нравиться русскому человеку. Эти немецкие боги с их валгаллскими дрязгами и донельзя растянутой драматической галиматьей должны французу, итальянцу, русскому казаться просто смешными. А музыка, в которой чудесные симфонические эпизоды не выкупают уродливости и искусственности вокальной стороны этих музыкальных чудищ, должна наводить лишь уныние. Но подобно тому, как в Италии и Франции, у нас, наверно, заведется печальное отродье вагнеристов. Если все это нападение на Вагнера тебя удивит, то скажу, что очень высоко ставлю творческий гений Вагнера, но ненавижу вагнеризм как принцип и не могу победить отвращения к последней манере Вагнера.
К М. Чайковскому
Ганновер. 5 марта 1889 года.
<…> Симфония перестала казаться мне скверной, я снова полюбил ее. Дня за два до конца я присутствовал на бенефисе Лаубе (того, что в Павловске играет), и после двух частей серенады весь огромный зал сделал мне овацию, и музыканты играли туш. Все это отлично и занимает меня в данную минуту – но как только репетиции, концерта нет – так я начинаю немедленно впадать в состояние обычного недовольства и скуки. Вчера, проснувшись утром, я пришел в полное отчаяние. Теперь остался еще один только концерт в Лондоне, через месяц почти. Что я до тех пор буду делать? Как убью время? ехать в Швейцарию далеко, да и не стоит устраиваться в хорошем месте ненадолго. В Париж? но я страшно боюсь той жизни, что вел в прошлом году, и хочу остаться там меньше. В Ниццу? Опять-таки далеко, да и что-то ужасно не хочется. И вот, я решился, для приведения себя в более или менее нормальное состояние, остановиться на 2 или 3 дня в Ганновере. Здесь напишу массу писем, которые у меня на душе, и отправлюсь далее. Может быть, по дороге остановлюсь в Ахене. Меня тянет посмотреть место, где я был столь несчастлив и где приятно будет поплакать о Николае Дмитриевиче[56]56
Кондратьеве.
[Закрыть]. А может быть, проеду прямо в Париж. Там все-таки суета убьет скуку. А сколько времени даром пропадает!!
XI
Трехдневное пребывание в Ганновере только тем отличалось от пребывания в других городах за это путешествие, что Петр Ильич не имел единственного, что заглушало там его немолчную тоску по дому, – репетиций и концертов.
«Странное дело, – отмечает он в дневнике, – добьюсь одиночества, а когда оно приходит – страдаю». В этом заколдованном колесе от худого к худшему протекали все дни его с первого дня выезда из России, но самое худшее он испытал в Ганновере, где «добился самого большого одиночества», а с ним и самого большого страдания. Попытки сочинять балет не удались: «все выходило скверно и сухо»; чтения на целый день не хватало, прогулок тоже, и Петр Ильич больше прежнего прибегал к искусственному способу забвения – к вину, которым за это путешествие злоупотреблял и в других городах. К довершению беды он простудился и больной, расстроенный предвиденьем еще целых трех недель «убивания времени» по-пустому, покинул Германию.
В Париж он приехал 8 марта и остался до 30-го.
Испытав всю горечь одиночества в чуждой обстановке, без тех условий жизни, при которых привык работать, Петр Ильич уже не «добивался» его в Париже и верно угадал, что здесь «суета убьет скуку». С первого дня он все время почти не был один и отметил в дневнике 10 марта: «Болезненная тоска и отвращение к чужбине прошли».
Так как на этот раз он находился здесь без цели выступить публично, то пребывание его не имело такого, с одной стороны, блестящего, с другой – суетливого характера, как в минувшем году. Все же народа видел он много, посещал массу собраний и получал со всех сторон приглашения. 19 марта он присутствовал на исполнении отрывков из сюиты № 3 (анданте, вариации и финал) в концерте Колонна.
Среди безделья и исключительно праздничного препровождения времени Петр Ильич имел только две заботы: устроить участие Массне в симфонических собраниях в Москве и своими связями и вниманием помочь выдвинуться В. Сапельникову, виртуозный талант которого он ставил очень высоко.
К П. И. Юргенсону
Париж. 21 марта 1889 года.
<…> С Массне виделся несколько раз, он очень польщен и рад приехать; точно обозначить время еще не может, но желал бы преимущественно весной. Я пригласил пианиста Падеревского, имеющего в Париже колоссальный успех. Это, по-моему, наравне с д’Альбером первый из пианистов нашего времени. Он дал мне слово, что откажет Шестаковскому, который уже приглашал его. Я пригласил его на тот концерт, которым буду дирижировать. О цене поговорим весной. Его зовут в Петербург, и нужно будет сговориться, в какое время заодно пригласить его и в Москву. По-моему, это пианист гениальный и очень даровитый композитор; по-русски говорит, как русский.
Третьего дня 3-я сюита имела в концерте Колонна огромный успех.
<…> Я никогда не вырезываю статей обо мне, никогда о них не забочусь, и те вырезки, которые я тебе или брату Модесту посыпал, были мне присылаемы разными доброжелателями, а по большей части авторами. Мне как-то неловко и противно покупать газеты со статьями обо мне, вооружаться ножницами и рассылать друзьям. Женевских газет у меня теперь никаких нет, но Гуго Зенгер (тамошний дирижер) прислал мне их целую кипу и все хвалебные – только я их где-то оставил. Обидно то, что разные наши гг. рецензенты-композиторы друг о друге пишут рекламы, а об артисте, с честью представляющем на чужбине русское искусство, не дают себе труда собирать сведения. Это было бы вовсе нетрудно, если бы они хотели, ибо все главные газеты в редакциях получаются. Черт с ними! Из Лондона ничего не пришлю, ибо я на другой же день еду. Да и не к чему. Во всякой редакции есть Times и другие английские газеты.
К М. Чайковскому
Париж. 22 марта/2 апреля 1889 г.
Милый Модя, тебе, вероятно, интересно будет узнать кое-что про Сапельникова. Он совершенно влюблен в Париж. Я решил, что после Лондона он вернется сюда и проведет здесь недели три или четыре под руководством Брандукова. Ему уже не удастся играть в каком-нибудь большом концерте, но он может сделать много полезных знакомств. Вчера мы обедали у М-me Бенардаки, которая пришла от него в восторг и собирается дать ради него блестящий вечер. Так как она очень интимна со всеми выдающимися журналистами, то это будет для него очень выгодно. Брандуков тоже перезнакомит его со многими. Я ему устроил, что он ежедневно играет у Эрара. Вчера я водил Диемера слушать Васю, и он был поражен его техникой. В пятницу мы обедаем у Колонна, и он будет там играть. Вообще все, что могу, я для него делаю.
К М. Чайковскому
Париж. 25 марта/7 апреля 1889 г.
Модя, вчера вечером у Колонна Вася играл и произвел сильнейшее впечатление. Колонн после полонеза Шопена в совершенном изумлении подошел ко мне и сказал, что в будущем году приглашает его и что он сделает les choses en grand. Был критик из «Фигаро» Ch. Darcours, который совершенно очарован. Вообще фурор Вася произвел колоссальный. Я из Лондона отправлю его в Париж недели на три, где под руководством Брандукова он немного поживет и перезнакомится со всеми музыкантами. Жаль, что сезон концертов кончился, а то бы Колонн сейчас же пригласил его. Как бы то ни было, но вчерашний вечер для Васи имеет огромное значение, и главное – хорошо, что он приглашен Колонном на будущий сезон. Ведет он себя отлично: с утра ходит к Эрару и весь день упражняется. Обедаем иногда вместе. Третьего дня я давал Маккару и другим французским приятелям обед, на коем и Вася был. Жизнь веду сумасшедшую. Читал ли ты про меня в «Фигаро»?[57]57
«Последний концерт Колонна начался Пасторальной симфонией Бетховена, одной из тех, которыми лучше всего владеет оркестр Шатле. После мы слышали вариации и финал третьей сюиты П. Чайковского. Тема проста, даже наивна, но вариации поразительны разнообразием, красками и блеском. Понятно, что оркестру приятно исполнять это произведение, которое дает возможность выдвинуться всем инструментам и каждому поручает интересную роль. Триумфальный финал хотя длинноват вследствие повторений, но великолепен по движению и наэлектризовал зал. Самые горячие аплодисменты всего концерта, надо признаться, достались г. Чайковскому, и мы разделяли всеобщий энтузиазм. – Эта русская музыка и в самом деле имеет искренность и прелесть очень характеристичную и неподражаемую».
[Закрыть]
Затем нижеследующей выдержкой из лондонского письма Петра Ильича к племяннику, В. Давыдову, исчерпывается все, что можно сказать интересного о его пребывании в 1889 году в Париже.
<…> Накануне отъезда, 27 марта, был на вечере у Виардо. Давалась опера ее[58]58
«Le dernier Sorcier».
[Закрыть], сочиненная двадцать лет тому назад на текст Тургенева. Исполнители ее – две дочери и ученицы, в числе коих одна русская танцевала русский танец к великому удовольствию публики. Видел вблизи знаменитую Эйфелеву башню. Грандиозная штука. Колонн превосходно исполнил мои оркестровые вариации в предпоследнем своем концерте, и успех был большой. Слышал с величайшим удовольствием лучшую вещь Берлиоза, «Гибель Фауста». Как я люблю это произведение, и как я бы желал, чтобы ты его знал! Ужасно мне понравилась опера Лало «Le Roi d’Ys». Скажи Моде, чтобы постарался приобрести ее: он получит большое удовольствие. Решено, что я буду писать французскую оперу «La Courtisane»[59]59
На либретто Галле и Детруая. Опера эта никогда не была даже начата.
[Закрыть]. Перезнакомился с массой молодых французских композиторов[60]60
Из них в дневнике П. И. поминает только Vincent d’Indy и Chaminade.
[Закрыть]: все они отчаянные вагнеристы. Как не идет вагнеризм к французам! Он получает у них значение какой-то «ребячливости», гоняющейся за тем, чтобы ее всерьез принимали.
28 марта Петр Ильич вместе с В. Сапельниковым покинул Париж и вечером того же дня был уже в Лондоне.
К В. Давыдову
Лондон. 30 марта 1889 года.
<…> Прежде всего должен сообщить тебе, что я, наконец, узнал, что такое лондонский туман. И в прошлом году я каждый день наслаждался туманом, но того, что было сегодня, себе и вообразить не мог. Когда утром я шел на репетицию, то было туманно, как бывает в Петербурге. Но когда я с Сапельниковым вышел в 12 часов дня из Сент-Джемсхолл, то была совершеннейшая ночь, как осенью в 8 часов, в безлунную ночь в Петербурге. На нас обоих это произвело сильное впечатление. У меня на душе ощущение, как будто я сижу в мрачной подземельной тюрьме. Теперь 2 часа дня, стало немного светлее, но все-таки темно. Удивительно то, что это случилось в половине апреля. Сами лондонцы удивляются и возмущаются.
В Париже мне портила все необходимость каждый день бывать в обществе; но что это за веселый, милый, чудный город в сравнении с Лондоном! Послезавтра, в пятницу 31 марта, я еду отсюда прямо в Марсель, а в субботу 1 апреля в 4 часа сажусь на пароход и отправляюсь прямо в Батум. Так что, когда ты получишь это письмо, я уже буду в море. Путешествие по морю очень прельщает меня, но сокрушаюсь, что оно так продолжительно. Около 2-х недель я буду без всяких известий из России.
Ах, Бобик, как я буду счастлив, когда попаду к себе во Фроловское! Мне кажется теперь, что я там буду до гробовой доски сидеть безвыездно.
Сегодняшняя репетиция прошла отлично: здесь оркестр очень хороший. Сапельников еще не играл. На завтрашней репетиции он, наверно, произведет среди музыкантов сенсацию. В Париже, в частных домах, где он играл, успех его был громадный. Он получил на будущий год очень важное приглашение. Вообще я предвижу, что не пройдет двух-трех лет, как Сапельников будет страшная знаменитость, и на нас будет взирать с пренебрежением.
Будущая знаменитость между Дувром и Кале подверглась жестокому припадку морской болезни. Я же, как всегда, отлично перенес качку, впрочем несильную. Для меня большая отрада, что эта обезьянка со мной. С тех пор, как он приехал в Париж, я перестал болезненно тосковать.
В концерте филармонического общества в St. James Hall, 11 апреля/30 марта, Петр Ильич дирижировал первым фп. концертом в исполнении В. Сапельникова и сюитой № 1. И то и другое имело блестящий успех.
Газеты констатируют его, но львиную часть восторгов воздают В. Сапельникову. «Musical Times» жалеет, что вместо сюиты не была исполнена одна из симфоний Петра Ильича, считая это произведение недостаточно характеристичным для полной оценки композиторского таланта.
ХII
31 марта Петр Ильич рано утром покинул Лондон, а 1-го апреля уже сел в Марселе на пароход «Messagerie Martime», совершающий рейс до Батума.
К М. Чайковскому
Константинополь. 8 апреля 1889 г.
<…> Из Лондона я с невероятной быстротой проехал в Марсель. Там пробыл всего несколько часов. Вышли мы из Марселя ровно неделю тому назад. Пароход хорош, еда великолепная. Качка по временам была сильная, а между Сирой и Смирной была настоящая буря, о которой до сих пор не могу вспомнить без ужаса. Говорят, что в этих местах нередко так бывает. И Сира, и Смирна мне очень понравились. Вместе со мною ехали двое русских: 14-летний мальчик Володя Склифасовский (сын оператора) и состоящий при нем студент Моск. университета Германович, оба прелестные субъекты, с которыми я страшно сдружился; я еду в Батум, а они – в Одессу. Вчера мы пришли сюда в 4 часа дня. Весь вечер прогуляли втроем по городу, ночевали на пароходе. Я буду страшно по ним скучать. Капитан на пароходе и его помощники, а также вся прислуга очень симпатичны. Вообще, несмотря на качку, я путешествием очень доволен, только уж очень длинно.
Сейчас с моими друзьями отправляюсь в город.
В городе друзья пообедали вместе и затем расстались.
Как бы в предчувствии, что ему не суждено более видеться на земле с необычайным по развитию и симпатичности Володей Склифасовским (он скончался 25 января 1890 года), Петр Ильич после прощания с ним вернулся на пароход, в каюту, и «там долго плакал».
12 апреля Петр Ильич приехал в Тифлис.
К Н. Ф. фон Мекк
Тифлис. 20 апреля 1889 года.
<…> Что за чудная страна этот Кавказ! Нельзя описать, например, до чего роскошна, красива, богата растительностью Рионская долина, по которой идет железная дорога сюда из Батума. Представьте себе, дорогая моя, широкую долину, окаймленную с двух сторон причудливой формы горами и скалами, на которых растут рододендроны и другие весенние цветы, а в самой долине деревья с яркой, свежей зеленью листьев и, наконец, многоводный, шумный, извилистый Рион. Уверяю вас, что ради одного этого стоит посетить Кавказ. В Тифлисе теперь тоже чудесно: все фруктовые деревья в цвету; благодаря ясной погоде виднеются дальние снежные вершины, и в воздухе что-то весеннее, живительное и благоуханное. После лондонских туманов, оставивших во мне воспоминание какого-то тяжелого кошмара, все это до того прекрасно, что нет слов выразить.
Тем не менее я не могу сказать, чтобы особенно хорошо себя чувствовал. Какая-то усталость, апатия, неопределенная тоска часто нападают на меня. Работать нет ни малейшей охоты, даже читать как-то мало хочется. Думаю, что это результат трехмесячного напряжения всех сил, и надеюсь, что когда вернусь домой и начну жить тихой, правильной деревенской жизнью, – все это бесследно пройдет.
7 мая Петр Ильич был уже в Москве.
К А. И. Чайковскому
Москва. 12 мая 1889 года.
<…> Живу я в Москве вот уже шестой день. Дорогой я немилосердно скучал и весьма был рад, когда прибыл в Москву. Почти прямо с железной дорога попал на утренний спектакль консерватории в Малом театре. Все мне были весьма обрадованы. С тех пор я ежедневно присутствую в заседаниях дирекции муз. общ. Дел набралось масса. В консерватории произошел coup d’etait: Танеев отказался от директорства; Сафонов согласен быть директором, но с тем, чтобы Альбрехта уволили от инспекторства. Я долго и упорно стоял за Карлушу и, наконец, объявил, что выхожу из директоров, если его удалят без надлежащего декорума и воздаяния за огромные услуги консерватории. После бесконечных прений дело, наконец, улажено, т. е. я взялся уговорить Карлушу подать в отставку. От всей этой возни с делами консерватории я немилосердно утомлен и жду не дождусь, чтобы попасть, наконец, домой, в деревню.
К Н. Ф. фон Мекк
Фроловское. 19 мая 1889 года.
<…> В Москве я провел неделю и занят был исключительно консерваторскими делами, а также делами музыкального общества. Отказ Танеева объясняется его крайним утомлением и желанием заниматься сочинением и игрой. Он уже давно тяготился своей должностью, а в нынешнем году вследствие смерти матери, к которой он питал глубокую привязанность, состояние духа его крайне подавленное, и я очень хорошо понимаю, что он нуждается в отдыхе. Можно предполагать, что Сафонов будет дельный и хороший директор. Как человек он бесконечно менее симпатичен, чем Танеев, но зато по положению в обществе, светскости, практичности более отвечает требованиям консерваторского директорства.
Из Москвы Петр Ильич съездил на несколько дней для свидания с родными и друзьями в Петербург и 19 мая, после четырехмесячного отсутствия, вернулся во Фроловское.
ХIII
Лето 1889 года во Фроловском протекло мирно и однообразно, сначала за сочинением черновых эскизов (оконченных 26 мая), потом за инструментовкой музыки балета «Спящая красавица». – За все четыре месяца не было никакого эпизода, нарушающего спокойное и ровное настроение, столь нужное для работы. Единственная неприятная Петру Ильичу сторона одинокой деревенской жизни – вечерняя скука – была устранена обществом Лароша, который нам (я тоже провел все это лето у брата) после ужина громко читал, или же, – когда наезжал погостить на день, на два всегда желанный Петру Ильичу Н. Д. Кашкин, – устраивалась партия в три роббера винта. Упоминанием, что раза два или три Петр Ильич приглашал на пирушку московских приятелей, П. Юргенсона, Александру Ивановну Губерт, А.И. Зилоти и др., исчерпываются все «события» этого периода. Хороший, но незаметный, как незаметно здоровье, он не мог оставить яркого воспоминания, но своим ровным и спокойным течением был Петру Ильичу нужнее всего после томительного путешествия, давая и моральным, и физическим силам его проявиться с пользой для других и для себя.
Это короткое и бледное описание лета 1889 года было бы неполно, если не упомянуть о прелестном трехлетнем ребенке, дочери Легошина, Клере, своей красотой, звонким голоском и очаровательными выходками необычайно умненькой головки радовавшей и восхищавшей Петра Ильича. – Он часто возился с ней, слушал ее болтовню, а подчас бывал и нянькой.
Корреспонденция этого времени количественно у Петра Ильича была не меньше прежней, если не больше; но многие из писем, по преимуществу делового характера, не имеются в моем распоряжении, неделовые же и кратки, и малоинтересны.
К П. И. Юргенсону
Фроловское. 7 июня 1889 года.
<…> Почти безвыездно сижу в деревне и усиленно работаю над инструментовкой балета. Только раз ездил на два дня в Москву. Был на заседании дирекции.
Известно ли тебе, что у нас новый инспектор, особенность коего та, что вместо штанов он носит юбку и зовут его Александр Иванович Губерт-Баталин. Серьезно: после долгого ломания Александра Ивановна вняла нашим просьбам и согласилась принять инспекторство. Бумага об утверждении уже послана к великому князю. Вот и все новости.
К М. М. Ипполитову-Иванову
Фроловское. 12 июня 1889 года.
<…> Программу ты волен составить, как тебе угодно, но прими во внимание два следующие обстоятельства: 1) увертюра «Фауст» Вагнера уже взята Зилоти, программу которого дирекция вполне одобрила. Возьми, значит, другую увертюру. Не хочешь ли сыграть «Грозного» Рубинштейна? Чудесная вещь. 2) Не забудь, что в твоем концерте играет Сафонов. Но самое главное то, что ты должен непременно играть свое собственное сочинение. Я полагал бы непременно исполнить отрывки из «Руфи», а впрочем, этого мало, нужно еще что-нибудь симфоническое. Само собой, дирекция будет счастлива, если твой концерт послужит поводом к знакомству Москвы со столь симпатичной и талантливой певицей, как Зарудная. Спасибо за выбор моей симфонии, но я бы предпочел, чтобы ты моего ничего не играл. Мне не хотелось бы, чтобы в публике думали, что я приглашал тебя, потому что ты играешь мои вещи. Ей-Богу, правда, я предпочел бы что-нибудь другое.
Очень жалею, что Зилоти оттягал от тебя «Фауста», но делать нечего: он раньше тебя захватал его. Желаю тебе как можно больше написать из «Азры». Не напишешь ли настоящей, формальной увертюры к ней?
К Н. Ф. фон Мекк
Фроловское. 26 июня 1889 года.
<…> Я все это время безвыездно жил в деревне и только третьего дня ездил в Москву по делу. Работал я, по обыкновению, очень напряженно и усиленно, ибо я связан сроком и нужно употребить все усилия, чтобы представить партитуру вовремя. Благодаря прохладной погоде, стоявшей во все продолжение июня, полному спокойствию и симпатичности сюжета работа не особенно утомляет меня, и вообще все это последнее время я чувствовал себя очень хорошо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?