Текст книги "Вокруг Чехова. Том 1. Жизнь и судьба"
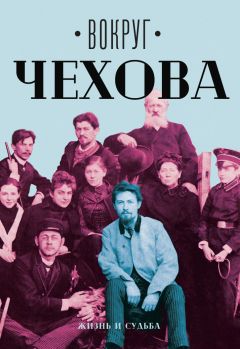
Автор книги: Сборник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Угощай гостей, мамаша, – обратился Егор Михайлович к супруге, желая показать себя радушным хозяином.
– Кушайте, господа вирмешки (армяшки)! – угощала бабушка.
Армяне пили не спеша, и все время разговаривали между собою по-армянски, и громко сморкались в пальцы. Но ни то, ни другое, однако же, никого не стесняло, как не стесняло и то, что один из них вытер со лба пот подолом рубахи и при этом обнаружил довольно солидный кусок смуглого брюха.
– Что же ты, мамаша, не наливаешь гостю еще? – указал дедушка на пустую чашку одного из армян.
– Будет с него. Он уже и так три чашки выпил, – недовольным тоном ответила бабушка.
Дедушка бросил на бабушку молниеносный взгляд, но армянин поспешил поблагодарить:
– Благодару. Давольно.
Антоша и я не выдержали и фыркнули, за что и удостоились от дедушки лестной аттестации:
– Дураки! Невежи! Не умеете себя при гостях держать. А еще ученые!..
Дедушка Егор Михайлович никак не мог помириться с тем, что наши родители не сделали из нас лавочников и ремесленников, а отдали нас в гимназию. Поэтому он не упускал никогда случая ругнуть нас «учеными». Антоша и я, однако же, не придавали этому никакого значения. Оба мы в те времена были глубоко уверены в том, что дедушка во сто крат неразвитее и невежественнее каждого из нас. Дедушка же, в свою очередь, не раз предупреждал нашего отца:
– Не учи, Павло, детей наукам, а то станут умнее батька с матерью. <… >
Тем не менее дедушка и бабушка, после короткого совещания, решили, что нас, гостей, надо положить в большом доме, потому что в их маленькой хатке четверым будет душно, да и блох много. Дом отперли, набросали на пол душистого сена, покрыли простыней и таким образом устроили для нас одну общую постель и вместо пожелания спокойной ночи сказали:
– Смотрите же, не балуйтесь, а спите…
Мы остались в пустом доме одни, без огня. По счастью, теперь мы были сыты. За чаем мы умяли целую паляницу вкусного пшеничного хлеба. Но все-таки нам было скучно и спать не хотелось.
Мы вышли на галерею и уселись рядом на ступеньках лестницы. Во всей усадьбе была такая мертвая тишина, что явственно было слышно, как изредка фыркают лошади в отдаленной конюшне. Кругом все спало. Тихо было повсюду – и в степи, и на речке с ее кустарниками и камышами, и в ночном воздухе. Раз только низко над землею пролетела какая-то ночная птица, да из степи донеслось что-то похожее на крик журавля. Антоша глубоко вздохнул и задумчиво проговорил:
– Дома у нас теперь ужинают и едят маслины… В городском саду играет музыка… А мы здесь бедных воробьев разоряем да несчастных голубей едим.
Мечтою и думами он жил в этот момент в Таганроге и думал о родной семье и о родной обстановке. И в самом деле, мы чувствовали себя здесь одинокими, точно заброшенными на необитаемый остров.
– Зачем мы сюда приехали? Здесь нехорошо, – проговорил Антоша с грустью.
Через полчаса он ушел спать, а я остался один со своею безотрадною скукою. Ночь была тиха, пленительно тиха. Как был бы здесь уместен живой человеческий голос!
Но, чу! Я даже вздрогнул… Произошло что-то волшебное. Из-за реки вдруг донеслась нежная, грустная песня. Пели два голоса: женский контральто и мужской баритон. Что они пели – Бог его знает, но выходило что-то дивное. То женский голос страстно молил о чем-то, то баритон пел что-то нежное, то оба голоса сливались вместе, и в песне слышалось безмятежное счастье… Я невольно окаменел и заслушался. Я любил пение нашего соборного хора и наслаждался концертами Бортнянского, но такого пения я не слыхивал ни разу в жизни.
– Саша, где это поют?
В дверях стоял Антоша, весь озаренный луною, с широко раскрытыми глазами и с приятно изумленным лицом.
– Это ты, Антоша? А я думал, что ты уже спишь.
– Я собирался заснуть, да услышал это пение… Где это поют?
– Должно быть, за рекой. Какой-нибудь паробок и дивчина.
Антоша опять сел подле меня, и оба мы застыли, слушая неведомых певцов. Где-то во дворе тихонько скрипнула дверь, и через несколько времени мимо нас прошла, вся залитая луною, Гапка. Она шла медленно по направлению к реке и тихо рыдала.
– Боже ж мой! Боже ж мой, как хорошо! – бормотала она. – Когда-то и я тоже… А где оно теперь?..
– Саша, о чем она, бедная, плачет?
– Не знаю, Антоша…
И нам обоим захотелось заплакать.
Пенье умолкло, когда небо уже начинало бледнеть. Мы вошли в комнату и улеглись усталые, но счастливые и довольные. Но заснули мы только под утро, когда в слободе пастух, собирая скотину, заиграл в трубу.
X
Проснулись мы на следующее утро в девять часов – по-деревенски очень поздно. Дедушка давно уже был в поле. Бабушка не захотела ставить для нас самовар и с недовольным ворчанием дала нам по горшку молока и ломтю хлеба, а затем мы снова были предоставлены самим себе.
<…> Мы пошли бродить по двору и забрели в конюшню. Там мы застали того самого угрюмого беспалого солдата Макара, который привез нас вместе с мукою в Княжую. Он с помощью тряпицы, намотанной на палочку, смазывал чем-то жирным израненные плечи лошади. На нас он не обратил ровно никакого внимания, вероятно, желая выказать этим свое презрение к нам.
– Чем это ты мажешь? – полюбопытствовал от нечего делать Антоша.
Макар смерил нас обоих взглядом с ног до головы, ничего не ответил и только оттопырил щетинистые усы.
– Это лекарство? – допытывался Антоша.
Солдат сердито сплюнул и не нам, а куда-то в сторону сердито проворчал:
– Сколько раз говорил гаспиду, что хомут тесный… Ишь, какие раны натер… А в рану муха лезет, червяки заводятся. Так нет: гаспид удавится, а нового хомута не купит… Ему нужно, чтобы графиня похвалила его за экономию.
– Кто это аспид? – спросил я.
– А тот, кто и был гаспидом, – ответил Макар лаконически и повернулся спиною.
Очевидно было, что аспидом величал он Егора Михайловича, который был до невозможности экономен там, где дело касалось барского добра и барских денег.
Первый блин был комом. Завязать знакомства с Макаром не удалось. Мы пошли прочь и вдогонку услышали сердитую фразу:
– Идите, гаспидово племя, ябедничайте! Никого не боюсь.
– Никому мы ябедничать не станем, – оскорбленно ответил я, вернувшись. – Мы сами Егора Михайловича не любим. Он отсталый человек.
Я и не подозревал в своем тогдашнем самомнении (еще бы: ученик 5-го класса), что говорю ужасные нелепости, за которые мне следовало бы, по-настоящему, краснеть, но все-таки тон мой на Макара подействовал.
– Не любите? – переспросил он.
– Не за что любить его. С самого приезда нашего в Крепкую мы не слышали о нем ни одного доброго слова; все только бранят его.
– А не врете вы? Ну, да там увидим, – ответил Макар недоверчиво и стал ворчать себе под нос что-то непонятное.
Теперь он стал смотреть на нас как будто ласковее.
– Где ты потерял свои два пальца? – рискнул спросить я.
– Где? – ответил он угрюмо. – Известно где: на войне… Под Севастополем.
И как будто бы раскаявшись в том, что заговорил с «гаспидятами», он грубо крикнул:
– Уходите из конюшни! Чего вам здесь надо? Лошадь ударит, аза вас отвечай…
Мы поспешно ретировались. Навстречу нам опять попался Гараська и без приглашения пошел с нами. Антоша шел задумавшись.
– Отчего это дедушку так не любят здесь? – проговорил он, ни к кому не обращаясь.
– Оттого, что он управляющий, – пояснил Гараська тоном знатока. – Он собирает с мужиков деньги и отвозит их к графине в Крепкую. У графини денег много, а у мужиков мало – вот они и злятся на него. Маменька говорили мне, что Егор Михайлович не может делать иначе, потому что у него должность такая. Если бы у него были свои деньги, то он не требовал бы с мужиков, а отдавал бы графине свои.
Антоша посмотрел на Гараську с удивлением и даже раскрыл рот.
– Маменька говорят, что добрый. Когда им со мною некуда было деваться, то Егор Михайлович приняли их к себе в кухарки и даже полтора рубля в месяц жалованья положили.
Это было для нас обоих новостью, которая рисовала дедушку Егора Михайловича совсем в другом свете.
– Вы у кузнеца Мосия в кузне были? – спросил Гараська.
– Нет, не были. А где кузня?
– Тут недалеко. Там работают кузнец Мосий и молотобойца Павло. Пойдемте, я поведу. Мосий – добрый человек и со всеми ласковый. Он не любит только одного Макарку беспалого. Ух, как не любит!..
– За что?
– А кто же их знает. Как только сойдутся, так и начинают лаяться… И молотобойца Павло – тоже ласковый и добрый паробок. Пойдемте.
Гараська привел нас к небольшой каменной полуразрушенной постройке. Это была кузня. Она стояла на косогоре и производила такое впечатление, как будто бы она по каким-то важным причинам убежала из усадьбы, но почему-то остановилась на косогоре и, по некотором размышлении, осела тут навсегда.
Познакомились с Мосием – дюжим, мускулистым и закопченным мужиком, стучавшим молотом по раскаленному железу. Молодой Павло – тоже закопченный, но с удивительно добрыми глазами – помогал ему, ударяя по тому же железу огромным тяжелым молотом. Заговорили о Макаре.
– Хороший человек, только свинья, – аттестовал своего недруга кузнец.
– Как жалко, что он потерял на войне в Севастополе два пальца, – сказал Антоша.
Мосий опустил молот, широко раскрыл глаза и рот и проговорил с негодованием:
– На войне? Под Севастополем?! Брешет как сивый мерин. Ему три года тому назад два пальца молотилкою оторвало, попал рукою в барабан… Два месяца в больнице провалялся… Слыхал, Павло? Под Севастополем? Да он, бродяга, Севастополя и не нюхал…
Павло сочувственно улыбнулся. Разговор перешел на дедушку Егора Михайловича. Кузнец отозвался о нем одобрительно.
– Егор Михайлович меня в люди вывели, – заговорил он. – Они из меня человека сделали, и я за них и день, и ночь Богу молюсь.
Это был первый человек, который отозвался о дедушке хорошо. Но когда мы разговорились и Мосий увидел, что мы не ябедники и что с нами можно говорить откровенно, то дело сразу приняло иной оборот. Оказалось, что и в кузне Егор Михайлович был прозван гаспидом.
– Очень его у нас не любят, – пояснил кузнец. – И я, грешный, его недолюбливаю. Перекинулся он на сторону графини и очень народ допекает. Вместо того чтобы иной раз заступиться, он сам на мужика наседает. Нет ни одного человека, чтобы о нем хорошее сказать. А ведь он и сам из мужиков… Не будет душа его в Царстве Небесном, попадет в самое пекло…
Молодой молотобоец Павло слушал, вздыхал и сочувственно кивал головою. Антоша все время молчал и был грустен. Ему было больно, что о дедушке отзывались так дурно. Многого он не понимал, и его добрая, незлобивая душа страдала. Молотобоец Павло все время смотрел на него своими добрыми глазами, и на лице его было написано сочувствие, хотя и неизвестно чему. В самое короткое время молотобоец сошелся с Антошей и в свободные часы делал для него силки и удочки. Они сразу сделались двумя приятелями, превосходно понимавшими друг друга, несмотря на разницу лет. По его наущению и под его руководством мы пошли на реку ловить рыбу удочками. Антоша и я прошли открытой тропинкой, а он – какими-то окольными путями, чтобы не попасться как-нибудь на глаза «гаспиду».
– Если пустить отсюда на реку кораблик, то дойдет он до слободы Крепкой? – спросил Антоша.
– Нет, – ответил Павло. – Речка загорожена плотиною. Там есть став (пруд) и водяная мельница. В этом ставу водятся здоровенные сомы. Такие сомы, что как вывернется да ударит по воде, то так круги по омуту и заходят… А утка или какая-нибудь другая птица так и не садись на воду: слопает. <…>
– А можно этого сома поймать?
– Можно. Для этого нужен большой крючок. На маленькую удочку его не поймаешь. Нужно будет сковать в кузне крюк побольше.
– Скуй, пожалуйста, и поймаем сома, – стал просить Антоша.
– Хорошо. Скую, – согласился Павло. – Завтра воскресенье, день свободный, мы и пойдем на став.
– И отлично! – обрадовался Антоша.
– Поймаю воробья и поджарю.
– Для чего? – не без тревоги в голосе спросил Антоша.
– Надеть на крючок… Приманка… Сом только на жареного воробья и идет.
– Тогда не надо, – разочарованно вздохнул Антоша. – Грешно и жалко убивать бедную птичку.
– Тю-тю! – удивился паробок. – У нас воробьев – миллионы!..
– Все равно… Божья тварь… И она жить хочет… <…>
– Знаешь что, Антоша, – заговорил я, осененный идеей. – Давай бреднем ловить. Может быть, что-нибудь и поймаем.
– А бредень где возьмем? – спросил Антоша.
– Экий ты безмозглый! – вскричал я. – А простыня на что? Возьмем вместо бредня простыню, на которой мы спим, и пройдемся по реке. Когда кончим ловить, развесим простыню здесь же, на кустах. К ночи она высохнет, и никто не узнает. Простынею можно много наловить.
Сказано – сделано. Слетать в дом за простынею было делом одной минуты. Еще через минуту оба мы были уже по пояс в воде и, держа простыню за углы, бродили по реке взад и вперед. Но как ни старались, ничего у нас не выходило. Время подходило к полудню, и солнце палило наши обнаженные тела жестоко, но, несмотря на это, нам было весело. Веселье, однако же, было омрачено появлением дедушки, который, увидев нас за нашим занятием, страшно разбранился. Мне, как коноводу, досталось особенно, и по моему адресу была произнесена лестная фраза:
– Ученый дурак! Что у вас, из вашей гимназии, все такие же ученые дураки, как и ты, выходят? Идите обедать.
За обедом дедушка рассказывал бабушке, якобы иносказательно, как некоторые ученые и умные люди портят чистые простыни, употребляя вместо бредня. Я молчал и дулся, а Антоша исподтишка ехидничал и дразнил меня, выпячивая нижнюю губу и гримасничая. Я не выдержал и прыснул. Егор Михайлович, приняв этот смех на свой счет, обиделся и страшно рассердился и раскричался.
– Ты осел! Ты бык! Ты верблюд! Не уважаешь старших! Ты…
Дедушка перебрал целый зверинец. За эту услугу Антоша получил от меня шлепка по затылку.
Вечером мы с Антошей были свидетелями довольно своеобразной сцены. Перед закатом солнца дедушка Егор Михайлович куда-то исчез, а у бабушки, как у большинства простоватых и недалеких людей, появилось на лице какое-то особенное, таинственное выражение. Ее глаза, рот и все морщины вокруг губ как будто хотели сказать: «Я знаю кое-что секретное, но, хоть убей, не скажу… Никому в мире не скажу».
Мы с Антошей недоумевали. По мере того как солнце закатывалось за далекий край степи, во дворе стали появляться загорелые и усталые косари и разные другие рабочие. Они сбивались в кучу и подходили то поодиночке, то группами к хате, в которой жили дедушка и бабушка, заглядывали в окна и в двери и спрашивали:
– Чи скоро управляющий выйде?
Бабушка Ефросинья Емельяновна все с тем же загадочным выражением на лице копошилась у стола с кипевшим самоваром и отвечала:
– Егор Михайлович в Крепкую поехали.
– А мабудь (может быть) вы, стара, брешете?
– Чего мне брехать? Поехали к графине за деньгами, – повторяла бабушка.
Рабочие вглядывались в ее лицо и начинали сомневаться еще более. <…>
В среде косарей начался сперва глухой, а потом уже и явный ропот. Упоминалось о гаспиде и об антихристе. Наконец один из наиболее храбрых и настойчивых подступил к бабушке вплотную и потребовал:
– Давай, стара́, расчет. Сегодня суббота. Давай гроши!
– А где я вам возьму? Разве же я управляющий? – крикнула Ефросинья Емельяновна. – Идите к управляющему.
– Управляющий где-нибудь заховався (запрятался). Говори, стара, где вин заховався?
– Отчепись, окаянный!..
Началась перебранка, тянувшаяся добрых десять минут! Бабушка уверяла, что Егор Михайлович – в Крепкой, а косари стояли на том, что он спрятался, чтобы не отдать денег, заработанных за неделю. Рабочие грозили, и притом так энергично, что мы, братья, слушая их в стороне, не на шутку струхнули. Нам казалось, что если дедушка приедет без денег, то от его хатки останутся одни только щепки… Наобещав бабушке всевозможных ужасов, косари ушли с бранью.
Когда они скрылись, бабушка подошла к двери крохотного чуланчика и спокойно произнесла:
– Егор Михайлович, выходите. Ушли…
Спрашивать у дедушки и у бабушки причину их загадочного поведения мы не дерзнули, но на другой день беспалый Макар объяснил все.
– У нас так всегда ведется, – сказал он по-хохлацки. – Как суббота, так аспид и спрячется, чтобы не платить денег. Он по опыту знает, что лишь только косари или рабочие получат деньги, то сейчас же разбегутся, а других не найдешь. Работа в поле и встанет. А как аспид денег не дает, то они поневоле еще на неделю останутся. За такие дела ему уже доставалось. Ему и смолою голову мазали, и тестом вымазывали, и всякие неприятности ему выделывали. Раз ночью он шел домой от попа, а паробки перетянули поперек дороги бечевку. Он спотыкнулся и упал. А хлопцы выскочили, надели ему мешок на голову, завязали вокруг шею и разбежались. Хотел Егор Михайлович подняться, ан глядь, и ноги завязаны. А хлопцы из-за угла ржут, хохочут…
Само собою, мы повествование Макара передали от слова до слова в кузне. Кузнец Мосий мотнул головою и тоном, не допускающим никаких возражений, подтвердил.
– Было, было… Все это было… Да еще и будет…
– Как же это дедушка не боится? – спросил наивно Антоша.
– Может быть, и боится. Мы этого не знаем. А может быть, за наши тяжкие грехи и антихрист ему помогает, – философски-глубокомысленно ответил кузнец.
XI
Молотобоец Павло сдержал свое слово – и мы побывали на ставке, у водяной мельницы. Здесь было очень красиво и в то же время жутко. Серая меланхолическая мельница с огромным деревянным колесом и вся заросшая вербами гляделась в спокойную воду запруженной речки. Она давно уже не работает и давно заброшена, так давно, что деревья и трава выросли даже там, где им не полагалось. На заснувшей поверхности ставка то и дело всплескивала рыба, по временам даже и крупная.
– Смотрите, смотрите, какой вывернулся! – вскрикивал всякий раз Павло. – Видели? Тут глубоко, выше головы. Люди рассказывают, что одна дивчина пошла сюда купаться, а ее что-то схватило за ногу и держит… Одни говорят, что это был сом, а другие – что то был сам чортяка-водяной. Так дивчина так перепугалась, что потом три года головою трясла…
Мы уселись на берегу ставка и долго любовались красивой, жуткой картиной и игрою рыбы, а Павло без умолку болтал и приводил много страшных и загадочных случаев, доказывавших несомненное существование водяного в этом ставке. И рассказы шли к общей картине как нельзя более кстати. Так и казалось встревоженному воображению, что вот-вот из-под огромного колеса высунется из воды страшная голова и грозно поведет большущими глазами. Вероятно, и Антоше думалось и казалось то же самое, потому что он неожиданно поднялся и с робостью в голосе проговорил:
– Пойдемте домой…
Дедушки не было дома. Он с раннего утра уехал в Крепкую в церковь к обедне. Бабушка осталась дома хозяйничать. Вернувшись со ставка, мы с Антошей сели на галерее играть в дурачки. Картами нас снабдил Павло. Они были до того стары и засалены, что на них с трудом различались очки. К нам подошла бабушка Ефросинья Емельяновна в праздничном деревенском платье. В воскресенье работать было грех, и она не знала, куда девать себя, подсела к нам и заговорила о своей прошлой молодой жизни. Рассказ ее был долог, тягуч и скучен. Немножко интереснее стало, когда она заговорила о воспитании своих детей, Павла Егоровича и Митрофана Егоровича, т. е. нашего отца и дяди. И доставалось же им, бедным! За всякую малость их драли… Нам с Антошей теперь стало вполне понятным, почему и наш отец, добрейшей души человек, держался той же системы и был убежденным сторонником лозы, применяя ее к нашему воспитанию.
– И горько мне бывало, – повествовала бабушка, – когда Егор Михайлович понапрасну и безвинно дрались. Пришли раз соседи и говорят, будто бы Павло – ваш батько – с дерева яблоки покрал. А Павло вовсе и не крал, а покрали другие хлопцы. Егор Михайлович взяли кнут и хотят Павла лупцевать. Говорят: «Снимай портки!» А Павло, бедняжка, снимает штанишки, горько заплакал и начал креститься. Крестится и говорит: «Подкрепи меня, Господи! Безвинно страдаю!» Я даже заплакала и стала молить: «Егор Михайлович, он не виноват». А Егор Михайлович развернулись с правого плеча да как тарарахнут меня по лицу… Я – кубарем, а из носа кровь пошла… И Павла бедного до крови отлупцевали, а потом заставили триста поклонов отбухать.
Антоша и я невольно переглянулись: так вот откуда получили начало те сотни земных поклонов, к которым присуждал нас отец за разные проступки!.. Наследственность…
– А то еще с вашим дядей, Митрофаном, история была, – продолжала бабушка. – Послали его Егор Михайлович на крышу что-то починить. Дали ему молоток и гвоздик. Он, бедненький, полез да и не удержался. Не удержался да и покатился вниз. У меня даже сердце остановилось… Только, слава Богу, он не упал, а как-то уцепился руками за желоб и повис. Висит, а сам боится просить, чтобы его сняли, и только стонет: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Егор Михайлович как увидели, что он висит, схватили палку и начали его колотить по чему попало. Он висит, а они бьют… До тех пор били, пока Митрофан на землю не свалился. Упал и лежит, как мертвый. Я подбежала, слезами обливаюсь и кричу во весь голос: «Митрофаша, детинка моя!..» А Егор Михайлович давай и меня тою же палкою полосовать.
Антоша давно уже выронил карты и смотрел на Ефросинью Емельяновну большими испуганными глазами.
– Какой он злой! – вырвалось у него.
– Нет, Егор Михайлович добрые, – заступилась бабушка. – Они и нищеньким, и слепцам милостинку подают. Они только очень строги, но, должно быть, это так и надобно. Они и теперь, как что не по-ихнему, так и норовят либо в зубы, либо в шею ударить. Только теперь крепостного права нет, и они боятся очень драться, а при крепостном праве они очень били… Много в них тогда строгости было…
Бабушка примолкла, стала глядеть вдаль, на голубятню, но, вероятно, не видела ее. Она вся ушла в воспоминания.
– Горькая была моя жизнь, когда я была еще молодою, – продолжала она. – Когда Егор Михайлович только в писарях были, было еще ничего; а как сделал их граф, царство ему небесное, управляющим, тут и настало мое горе. Начали Егор Михайлович надо мною мудровать. Возгордились и запретили мне с деревенскими бабами знаться и с подругами балакать. И стала я все одна да одна, и в слободу ходить не смею. Сижу в хате, как в остроге. Которая подруга ко мне прибежит по-старому покалякать – а они в шею… Засосала мое сердце тоска. Не могу одна быть, да и только. И стала я обманывать. Как Егор Михайлович в поле или в объезде, так я сейчас тайком в слободу, к подружкам душу отвести. Приехали раз Егор Михайлович с объезда и не застали меня дома. Рассердились и поехали по слободе меня искать. Нашли меня у Пересадихи, схватили за косу и поволокли домой. Они верхом едут, а я пешком за ними бегу. А они все погоняют кнутом – раз по лошади, а раз по мне… Две недели я тогда больная вылежала…
– Не говорите лучше, бабушка, – сморщился нервно Антоша. – Это что-то ужасное…
– Неужели дедушке все его жестокости сходили с рук? – спросил я.
– Нет, бывали злые люди и против них. Один раз – давно уже это было – пришли они домой побитые и на себя не похожие. Вся голова и все лицо – в перьях, и глаз не видать. Какие-то злодеи вымазали им голову смолою и обваляли в перьях… Уж я их мыла, мыла… И горячей водою, и щелоком… Два гребешка сломала… А то еще в другой раз…
Ефросинья Емельяновна вдруг оборвала, быстро поднялась со ступеньки и торопливо проговорила:
– Егор Михайлович из Крепкой от обедни едут. Надо, чтобы все было готово, а то будет лихо…
Она ушла. На дороге показалась повозка, на которой восседал дедушка, одетый в свой парадный костюм. Он слез, бросил вожжи подоспевшему Макару и направился прямо к низенькому столику, на котором в тени хатки уже кипел начищенный самоварчик. Ефросинья Емельяновна уже суетилась.
– Бог милость прислал, – сказал дедушка и выложил из кармана на стол просфору.
Но на лице у него было написано, что он не в духе и даже как будто бы раздражен.
За чаем из разных отрывочных слов, намеков и недомолвок выяснилось, что он потерпел неудачу. После обедни он прямо из церкви отправился к графине поздравить с праздником и отдать словесный отчет, но графиня не приняла его, ссылаясь на мигрень; а между тем он сам, собственными глазами видел, как графиня вместе с дочерью-княгиней прогуливались по дорожке парка и обе нюхали какие-то красные цветы из оранжереи. Потерпев неудачу, он отправился к управляющему, Ивану Петровичу, в надежде выпить рюмку водки и заморить червячка, но Иван Петрович, пользуясь праздничной свободой, еще с пяти часов утра уехал в гости к своему куму за двадцать верст. Егор Михайлович сунулся было к о. Иоанну, но оказалось, что тот, едва успел разоблачиться и наскоро проглотить стакан чаю, спешно уехал к соседнему помещику крестить…
Все эти неудачи Егор Михайлович приписывал чьим-то коварным проискам.
Обед прошел пасмурно, без разговоров и все с теми же несчастными голубями, которые успели уже приесться. После обеда дедушка и бабушка завалились спать, а мы пошли на реку и от нечего делать закинули удочки. <…>
XII
Между тем время бежало, и день ото дня жизнь наша в Княжой становилась все скучнее и тошнее. Старики, занятые своей будничной работой, не обращали на нас ровно никакого внимания. Ни книг, ни занятий у нас не было никаких. Мы использовали уже все что можно: ограбили все соседские сады; переслушали все, что нам могли рассказать беспалый Макар, кузнец Мосий и молотобоец Павло; вздумали сами надувать кузнечный мех и что-то испортили в нем, и в заключение я, терзаемый жаждою ездить верхом, оседлал тайком от всех одну из рабочих лошадей и страшно изодрал ей седлом и без того натертую и глубоко израненную спину. За это я сподобился услышать от Макара такие благословения, каких еще никогда в жизни не слыхивал. Мало-помалу на нас напала тоска, похожая на одурь. Мы стали слоняться как сонные мухи и по целым часам лежали на траве в степи и тупо смотрели без мыслей в глубокое небо. Со стариками мы почти и не разговаривали. У них была своя логика, отбивавшая всякую охоту вступать с ними в беседу. Кроме того, заметно было, что они тяготились нами.
– Дедушка, кто такой этот машинист, с которым мы приехали? – спросил однажды за обедом Антоша.
– Такой же, как и все машинисты, – ответил Егор Михайлович. – Около машины ходит.
– Около какой?
– А не знаешь, какая бывает машина, так и не спрашивай.
– Но какая же именно машина? – добивался Антоша.
– Машина как машина… С трубою… Пыхтит… Вот и все.
Так мы ничего и не узнали. В другой раз, видя в степной дали силуэт пахавшего хохла, я спросил деда:
– Какая разница между сохою и плугом?
– То – плуг, а то – соха, – ответил Егор Михайлович.
На этом разговор и оборвался. С мужиками Егор Михайлович вел только деловые и притом кратковременные беседы, которые почти всегда оканчивались одним и тем же возгласом.
– Ты дурак! Ты пентюх!
Более разговорчивым дедушка становился только тогда, когда речь заходила об их сиятельстве графине или княгине. В этих случаях лицо его принимало особенное, умиленное выражение бывшего крепостного человека. Каждому слову и каждому движению помещицы придавалось почти такое же значение, как и изречениям оракула. Иван Петрович, занявший место дедушки в Крепкой, дедушке никакого зла не сделал, но Егор Михайлович все-таки сильно недолюбливал его. Однажды, по возвращении из Крепкой, дедушка при нас рассказывал бабушке:
– Предстали мы оба пред ея сиятельством, перед графинею, с отчетами, Иван Петрович хотел доложить первым, а графиня сделала ему рукою отклонение и изрекла: «Говори ты, Егор Михайлович».
Нужно было видеть, сколько на лице у дедушки было торжества, когда он произносил слово «отклонение»! Враг был уничтожен, а он возвеличен самою графинею! И какое блаженство: «Говори ты, Егор Михайлович!»…
И этой мелочностью, и этими ничтожными, булавочными уколами жили и дышали люди… Более разумных и высших интересов у них, по-видимому, не было. По воскресеньям и по праздникам Егор Михайлович ездил в Крепкую к обедне и всегда старался стать впереди Ивана Петровича, а на аудиенциях у графини неукоснительно докладывать последней о замеченных им по дороге недостатках в обработке полей, вверенных управлению кроткого соперника. Это, однако же, нисколько не мешало ему после аудиенции заходить к этому сопернику выпить рюмочку водки и стакан чаю.
За одну только неделю пребывания в Княжой мы истосковались, и Антоша даже осунулся и похудел. О скором возвращении домой, в Таганрог, нечего было и думать. На просьбу отправить нас к родителям дедушка объявил наотрез:
– Коней нема и людей нема: все на работе в поле. Для вас отрывать от дела не буду. Ждите оказии.
– А скоро будет оказия?
– Когда будет, тогда и будет.
По-своему он был совершенно прав, но для нас это значило ждать до бесконечности. Антоша заплакал, а я с досады готов был на какой угодно отчаянный поступок. Весь этот день мы прослонялись хмурые, а ночью долго не могли заснуть, проклиная себя за то, что поехали к дедушке и к бабушке в гости.
Утром я заговорил с братом.
– Знаешь что, Антоша, нам с тобою не уехать отсюда до того времени, когда начнутся в гимназии занятия, и наши каникулы пропадут. Раньше этого у дедушки оказии не будет.
– Ты почему знаешь, что оказии не будет? – спросил Антоша.
– Мне кузнец Мосий говорил, что в эту пору оказия бывает только тогда, когда повезут в Таганрог мед продавать. А это раньше августа не будет… Мосий даже побожился.
– Что же нам делать? – уныло проговорил Антоша. – Тут умрешь от скуки.
– Что делать? Давай уйдем.
– Куда? В Таганрог? Туда мы дороги не найдем.
– Зачем в Таганрог? Давай уйдем в Крепкую.
– Там что?
– В Крепкой я побываю у самой графини и попрошу ее, чтобы нас отправили домой… Не станет же она насильно задерживать нас у себя! Мы не мужики, а гимназисты. И притом же я постараюсь быть красноречивым.
Мысль удрать тайком от дедушки и бабушки была сама по себе нелепа и глупа, но мне казалась очень заманчивой, тем более что старики явно тяготились нами, – и я стал уламывать брата. Антоша робел и всячески отнекивался. Он страшно боялся ответственности и говорил, что дедушка напишет об этом побеге отцу, а отец непременно задаст нам обоим солиднейшее внушение. Я чувствовал, что Антоша был прав, и уже заранее предвкушал наказание, но в Княжой жизнь становилась уже невмоготу. Легко было одуреть до идиотизма. К тому же представлялся редкий случай поступить так же отважно, как поступали герои Майн Рида, которым я тогда зачитывался. В конце концов мне удалось-таки убедить и уломать Антошу – и мы незадолго до обеда вышли из усадьбы в степь будто бы для прогулки, а там – пошли и пошли… Дорога была прямая, и заблудиться было нельзя.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































