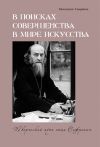Автор книги: Сборник
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
От конструкции к созерцательности – Эдуард Штейнберг и русский авангард[7]7
Статья опубликована на немецком языке в каталоге: E. Stejnberg. Katalog zur ausstellung im Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld. 1982.
[Закрыть]
Ханс Гюнтер
Близость Штейнберга к классическому искусству русского авангарда, к Малевичу и Кандинскому не раз отмечалась художественной критикой. Она самоочевидна при взгляде на его картины и находит подтверждение в высказываниях самого художника. Причастность Штейнберга к авангардистскому творчеству, прерванному на целые десятилетия, в то же время не должна быть понимаема как простая преемственность, как будто бы в промежутке между 1920-ми и 1960-ми ничего существенного в истории и в искусстве России не произошло. Наоборот, надо иметь в виду, что исторический, художественный и жизненный опыт десятилетий, отделяющих Штейнберга от авангарда, нашел свое выражение в его творчестве. Этот момент должен стать исходным для следующих рассуждений.
Прежде всего, несомненно, что при всей связи Штейнберга с авангардистскими традициями он категорически отрицает их конструктивистские, утилитарные тенденции продуктивного искусства. В дизайне Лисицкого, Родченко или учеников Малевича – Чашника и Суетина – Штейнберг видит трагическое «извращение авангарда» («Записки с выставки»), который изначально исходил из преодоления материальной реальности через духовное, из супрематики духа. За критикой в «социологизме» и утилитаризме стоит не только отрицание любой государственной завербованности искусства, которая в первые годы после революции программно приветствовалась многими авангардными художниками в их слепом рвении к прогрессу, но и отказ от футуро-утопической ориентации большей части русского – и не только русского – авангарда.
Лисицкий, например, окрыленный утопическими революционными надеждами, видел в изображенных им объектах – проунах – перевод от двухмерной плоскости к трехмерным пространственно-архитектоничным моделям, перевал на пути осуществления конструкции всемирного коммунистического города землян. Проун, по Лисицкому, ведет «созидателя от созерцания к действительности» (Эль Лисицкий. Проун и Небесный Утюг. Дрезден, 1967. С. 32). Для Штейнберга, придерживающегося созерцательной позиции по отношению к действительности, «проуны» Лисицкого являются «пришельцами из давно забытого времени»[8]8
Штейнберг Э. Записки с выставки // Эдуард Штейнберг. Материалы биографии. М.: Новое литературное обозрение, 2015: «Судьба Эль Лисицкого трагична. Его „проуны„ – пришельцы из давно прошедшего времени. Его дизайн – оборотень Авангарда. Аналогична судьба и учеников К. Малевича – И. Чашника и Н. Суетина, да и А. Родченко с В. Степановой».
[Закрыть] («Записки с выставки»).
И у Малевича (с которым Штейнберг чувствует себя особенно связанным) с начала 1920-х начинают проглядывать черты утопического мышления. Они выразились, с одной стороны, в стремлении художника к освобождению вещей от «эклектицизма» привычных форм, с другой – в его надежде на реализацию утопических проектов. «Новаторы во всех областях искусства выравнивают улицы городов. Они уничтожат эклектичные узлы и освободят дома от смешения стилей и новые системы от старых вещей, ставших несовременными. Они придадут городам кубистические фасады…» (Малевич К. Супрематизм – беспредметный мир. Кёльн, 1962. С. 272[9]9
Помимо сохранения архива, оставленного художником на попечение семейства фон Ризен, Ганс фон Ризен (1890–1969) предпринял беспримерный труд по переводу и изданию сочинения К. Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность». Впервые оно было выпущено в 1962 году и переиздано в Германии в 1989-м. – Прим. ред.
[Закрыть]). Подобное уже давно стало для нас реальностью, но Малевич идет еще дальше: «Парящие планиты [ «план» – от «аэроплана»] будут определять новые планы городов и формы домов „землянитов“ [новое словообразование от «землян»]. В них будут звучать мелодии будущей музыки, новые голоса в грядущем хоре планит» (Там же. С. 274). Супрематическое представление Малевича о беспредметной культуре этим не исчерпывается. Культура, по мысли Малевича, оставляет коммунистическое развитие как переходное позади себя, стремясь к идее совершенства и обожествления человека, его состоянию абсолютной пассивности и возвращения ему утраченного блаженства.
Эти идеи совершенно чужды Штейнбергу. Он противопоставляет утопическому конструктивизму и супрематизму свое созерцательное понимание природы искусства. Экзистенциальная позиция Штейнберга, стоящая за этим толкованием, находит весьма ясное выражение в его письме «Мое дорогое дитя»: «Давай сядем над пропастью и, вместо смеха, просто тихо помолчим. Вспомним, немного вспомним – детство, юность, друзей, умерших и уехавших, наших родных, пространство, в которое мы были заброшены, наконец, время – и хоть немного отключимся от самости, от „Я“, и тогда даже не будет слез». В отказе от завербованности собственным Я Штейнберг видит основную задачу искусства, в чем он до какой-то степени роднится со своими авангардными предшественниками. Но если авангард растворял свое Я в коллективе, то Штейнберг, как явствует из приведенной цитаты, имеет в виду нечто иное. Его восприятие времени также в корне отличается от восприятия авангарда. Если взоры авангардистов были обращены к будущему как реализации утопических представлений, то у Штейнберга речь идет о личностно опосредованном времени памяти.
Картины Штейнберга ничего не навязывают зрителю, ничего от него не требуют – между ними созерцательные отношения. Важным условием для восприятия этих полотен становится способность зрителя к созерцательности, независимой от эстетической позиции. Для зрителя, который смотрит на них «мельком», «жирновато» и «лениво» (Шифферс Е. Идеографический язык Эдуарда Штейнберга), они закрыты. Если же зритель готов принять определенную установку, тогда его субъективное беспокойство поглотится светящимся, тихим космосом. Несмотря на геометризм, картины Штейнберга не имеют ничего конструктивистского, как и при всей абстрактной редукции – ничего аналитического. Вместо излюбленных авангардом основных черного и белого цветов у Штейнберга доминируют неброские, пастельные, нежные тона.
Несомненно, Штейнберг обращается к элементам мистической традиции, диаметрально противоположной утопической интенции. Речь идет не о стремлении к конструкции нового мира, а о погружении в нечто познанное как главное, редукции от внешней множественности к первопричине всего. Лежавшее в основе слова «мистика» слово «мио» (закрыть глаза) надо понимать у Штейнберга буквально как отказ от окружающего художника «газетного мира» (В. Ракитин), от окружения, заполненного угрожающими идеологическими лозунгами и монструозными изображениями. Закрывание глаз – это необходимый акт освобождения и дистанции от сверхмощной, кошмарной действительности, с которой художник чувствует себя в конфронтации. Это не единственная возможность отношения художника к реальности, но во всяком случае вполне законная. Совсем по другому пути идет, например, Эрик Булатов, который осуществляет акт дистанцирования, совмещая идеологические эмблемы и символику будней в некоем «социалистическом сюрреализме».
Завоевание аутентичной позиции по отношению к маразму господствующей культуры является центральной этической проблемой всех современных независимых художников в Советском Союзе. Утопическая установка, которой придерживались русские авангардисты, не может сегодня удовлетворить такой дистанционный подход, ибо она вылилась в трагическое крушение иллюзии. Штейнберг выражает свою позицию в формах далеких от будничной псевдореальности, для некоторых даже слишком далеких… Так же как Малевич, он мыслит на грани визуальной медиумичности в пределах живописи, добиваясь при этом трансформации внешнего в минимально возможное время.
В связи с вопросом об отношении художника к окружающей реальности необходимы некоторые разъяснения к заметкам Евгения Шифферса. Постижение этих текстов, кажущихся западному читателю весьма чуждыми, осложняется тем, что они в стремлении к трудно улавливаемому единству объединяют в себе как поэтические, так и метапоэтические высказывания, равно как и связывают религиозные (особенно буддистские и греко-православные), искусствоведческие, эстетические и культурно-философские интеллектуальные ходы. Особенно большую роль в мышлении Шифферса играет восходящий к К. Леонтьеву «азиатский» тип восприятия, медитативные и магические качества которого противопоставляются рационализму «среднего европейца». Здесь много точек соприкосновения со славянофильской ориентацией Штейнберга.
В противоположность авангардистскому прогрессивному мышлению Штейнберг крепко привязан к традиции, которая начиная с Чаадаева поставила вопрос об отношении России к Европе, о «месте русских в мире» («Письмо к К.С.»[10]10
Штейнберг. Э. Письмо к К.С. // Эдуард Штейнберг. Опыт монографии. М., 1992. – Прим. ред.
[Закрыть]) и об особенностях российского пути в будущее. Он примыкает совершенно определенно к славянофильской концепции, акцентирующей особое положение и религиозную миссию России, что видно из его любви к Федору Достоевскому, Николаю Федорову, Владимиру Соловьеву, Вячеславу Иванову, Павлу Флоренскому или Сергею Булгакову. Вместо веры в технический и социальный прогресс, столь характерной для 1920-х, Штейнбергу свойственно трагическое восприятие русской истории нашего столетия. Он видит себя, как он об этом пишет в «Письме к К.С.», в конце развития, когда «черный квадрат стал реальностью», и интерпретирует «Черный квадрат» Малевича как полную богооставленность, как ночь, смерть и трагическую немоту. Когда Штейнберг пишет, что в России Богочеловек был вытеснен человекобогом, а коллективное бессознательное превратилось в «мы», тогда он обращается к аргументам русского критико-утопического мышления. О различии Богочеловека и человекобога идет речь в «Бесах» Достоевского, а «Мы» – название романа-антиутопии Евгения Замятина. К этой же традиции принадлежит и философ Николай Бердяев, «Новое средневековье» которого произвело в конце 1960-х большое впечатление на Штейнберга. Бердяев в своем объяснении русской революции предостерегал от бессмысленной реализации утопий и пророчествовал о тех временах, когда интеллигенция, сожалея, скажет, что можно было избежать утопий и как можно было вернуться к неутопическому, «менее совершенному и более свободному государству»[11]11
Бердяев Н.А. Государство. Тюбинген, 1950. – Прим. ред.
[Закрыть].
В резком контрасте к трагическому взгляду на русскую историю находится взгляд Штейнберга на искусство. В противовес «художнику ночи» Малевичу он именует себя «художником дня». Его картины, как и иконы, не содержат ничего от жестокости и мрачности жизни, а, наоборот, излучают светлую, тихую красоту. Доминирующую роль света Штейнберг намеренно подчеркивает точно так же, как Вейсберг. Светлые серые, бежевые или голубоватые тона у Штейнберга не служат фоном, а представляют, если говорить словами Владимира Соловьева, «эфирную сущность», в которой предметы открываются друг другу во взаимопроникновении, или иначе – здесь очевидна реализация идеи всеобщего единства, заключающегося в полной свободе частей, составляющих абсолютное целое. «Только в свете освобождается материя от своей скуки и непроницаемости, и на этой основе мир впервые делится на две противоположности. Свет или его невесомый носитель – эфир – это первичная реальность идеи в ее противоположности к весомой материи, в этом смысле свет и есть главный принцип прекрасного в природе» (Соловьев В. Полн. собр. соч. Фрайбург, 1953. Т. 7. С. 135). Работы Штейнберга являются, пользуясь словами Соловьева, выражением «спокойного, побеждающего света» (Там же. С. 139), победой «светлого принципа над хаотическим смятением» (Там же. С. 136).
В символическом значении света, геометрических форм и чисел, в частом употреблении христианских символов прослеживается дальнейшее отличие Штейнберга от русского авангарда. Достижения авангарда он поворачивает другой стороной, придавая им символическое звучание. Если авангардисты стремились к чистому формотворчеству и сбалансированности, то Штейнберг предлагает зрителю посредством символической семантизации абстрактных форм определенную понятийность. Можно говорить об определенной ресимволизации авангардного искусства у Штейнберга, и именно в смысле возврата к эстетике русского символизма начала века, которая видела в символе посредника между эмпирической и трансцендентной реальностями. Этот возврат к эстетике и философии символизма определяется у Штейнберга, как и у многих других современных русских художников, тем, что для них исторически понимаемый авангард выступает в двояком смысле трагически: и как бессмысленный деструктор культурных традиций, и как творец парадоксально-утопических и утилитарных конструкций. Провокативный разрыв с традицией, как и революционный утопизм и утилитаризм, дискредитировали себя, поставив русскую культуру и искусство в зависимость от тенденций, которых они не могут преодолеть до сих пор. Отсюда и медитативная эстетика не примыкает к ныне развенчанным тенденциям русского авангарда, а акцентирует заложенный в авангардистском творчестве импульс к духовности в искусстве.
Перевод с немецкого Б. Лисицкого
Четыре времени года. В гостях у Э.Ш.[12]12
Перевод с венгерского на русский язык выполнен по изданию: Ruzsa G. Latogatas Eduard Stejnbergnel // Negy Evszak. 1985. № 10. Р. 9–11.
[Закрыть]
Дьёрдь Ружа
Когда оказываешься на одной из старинных улиц Москвы – Пушкинской, раньше называвшейся Большой Дмитровкой, – сразу видишь Театр оперы и балета, рядом с которым живет Э.А. Штейнберг. Сегодня уже трудно решить, чем больше знаменит этот двор: оперой или живописью Штейнберга, художника, являющегося одной из крупнейших фигур в современной советской живописи. В его произведениях органично сплетены лучшие русские традиции – устремления авангарда начала века и древнерусская иконописная живопись.
В квартире Штейнберга мы можем увидеть только некоторые из многочисленных написанных им картин. Хотя точных данных и не существует, но примерно подсчитано, что с 1957 до 1982 года он написал более 800 полотен и создал еще большее количество рисунков и акварелей. Естественно, не количество работ характеризует художника, но нас все же интересовал вопрос, что заставляло этого увлеченного человека так много работать, хотя его произведения, на первый взгляд, излучают совершенный покой. К своему художественному миру, который отличается мистичностью, трансцендентальным экзистенциализмом, он пришел после трудной молодости и исполненной борьбы человеческой и художественной жизни.
Эдуард Штейнберг родился 3 марта 1937 года в Москве. Его отец Аркадий Акимович Штейнберг был известным поэтом и переводчиком, в частности – Мильтона, в 1920-х учился во ВХУТЕМАСе, который тогда был самым современным художественным учебным заведением Москвы. Во времена культа личности Аркадий Штейнберг был арестован и потом попал в ссылку. Несмотря на все это, в семье царила атмосфера высокой культуры, которая так же, как и судьба отца, оставила глубокий след в душе сыне.
В молодости Эдуард Штейнберг испытал большое влияние Б. Свешникова, оказавшегося на принудительных работах вместе с его отцом, и после освобождения (поскольку в Москве они поселиться не могли) они оба обосновались в Тарусе, в ста километрах к югу от Москвы. В начале 1960-х в жизни художника начался новый этап, в то время он работал уже в Москве. Квартира его стала оживленным центром общественной жизни. Самого Э.Ш. многие считали тогда своего рода «анфан террибль» – он занимался организацией различных вечеров и выставок в окрестностях Москвы, в рабочих и студенческих клубах и НИИ.
В первой половине 1960-х для его творчества характерны сентиментальные картины вроде «Свадьбы» или «Смерти рыбачки», а во второй половине десятилетия появляются лирические композиции в белых тонах, натюрморты, пейзажи с камнями, рыбами, умершими птицами.
В 1970-х он создает уже совсем другие полотна. Штейнберг находит свой настоящий язык и пишет нефигуративные картины. Вместо образов природы появляется геометрический конструктивизм. Эти произведения органично связаны с русской нефигуративной живописью 1910–1920-х годов, в особенности с творчеством Лисицкого и Малевича. Хотя если приглядеться внимательней, выяснится, что нефигуративные элементы напоминают в отдельных случаях фигуративные – колокольни, контуры человеческих голов, нимбы. Э.Ш. намеренно встраивает в свои четко сконструированные композиции элементы традиционной христианской символики, прежде всего крест. Надписи служат для того, чтобы вызвать ассоциации и вместе с тем так же, как и на древнерусских иконах, имеют и композиционное значение (например, дом, небо, земля, крест). Большие и малые полукружия, несомненно, напоминают нимбы Богородицы и в то же время являются композиционной структурой. Их место в поле картины и размеры определяются по строгим правилам.
Все это, наверное, уже дает представление, что картины Штейнберга довольно далеки от геометрических абстракций, скажем, Мондриана, а связаны со своеобразным отражением традиции русского мистического жизнеощущения. Произведения Эдуарда Штейнберга не имеют отношения к инженерным проектам и конструкциям, не связаны с компьютеризованным миром нашей эпохи, а являются чистыми проявлениями глубоко чувствующей, мучающейся человеческой души.
Между модернизмом и постмодернизмом – Эдуард Штейнберг[13]13
Перевод на русский язык отрывка из статьи, опубликованной: Meine Zeit, mein Raubtier. Katalog zur Ausstellung. Düsseldorf, 1988.
[Закрыть]
Мартин Хюттель
Возврат к супрематизму не только помогает Штейнбергу прочувствовать законы цвета и формы. Обращение к классике модернизма дает ему еще и возможность перебросить мост к русской иконописи. Уже в начале века именно этот род живописи считался истоком русского искусства. Он выражает ощущение абсолюта. Подобная мысль в секуляризованном виде встречается и у Малевича, и у конструктивистов, отличающихся большей приверженностью к материалу. Связь с сакральным искусством русской православной церкви для Штейнберга не просто отклик на этап истории искусства – у нее есть религиозная подоплека.
Следует отметить, что с середины 1960-х среди русской интеллигенции наблюдается усиленный интерес к метафизике. Экзистенциализм, религия и эзотерика – часто обсуждаемые в разговорах темы. Увлеченных собеседников Штейнберг находит в своей жене Гале Маневич и своем друге – философе-богослове Евгении Шифферсе. В книгах Флоренского, Федорова, Бердяева, Соловьева, Вяч. Иванова и Достоевского они ищут ответы на вопросы о глубинной связи религии и искусства.
К стремлению установить связь между классикой модернизма и иконописью Штейнберга не в последнюю очередь подводят философия Античности и неоплатонизм. Особое значение имеет для него пифагорейская мистика чисел, согласно которой числа суть принципы сущего, а их соотношения отражают гармонию мира. Некоторые числа имели даже определенные абстрактные значения, интерпретация которых, однако, менялась с течением времени. Сходные взгляды есть и у неоплатоников. Всеединое, считают они, исторгает мировой дух, заключающий в себе мировую душу, которая состоит из идей и чувств, разделенных между собой. Конечная и высшая цель душ состоит в экстатическом слиянии со Всеединым, из которого они некогда произошли. Именно такого рода философскими соображениями руководствуется Штейнберг, вводя в свои картины числовые обозначения 1, 2, 3 или 4. Эти цифры обретают новый смысл с точки зрения христианской символики. Наряду с числами встречаются также вместе буквенные обозначения А и Я (русские «альфа» и «омега») и слова вроде «дом», «небо», «земля», «крест», «пейзаж», «стол». Подобные обозначения знает и иконопись. При таком подходе возможна христологическая интерпретация геометрических форм: треугольника как троицы, квадрата как церкви, креста как напоминания о распятии, круга или полукруга как нимба.
Возникает вопрос: каков смысл этих цитат, этих отсылок к истории русского искусства? Штейнбергу чужд революционный оптимизм 1910–1920-х, равно как и его утопические взгляды. Но в той же мере чужд художнику постмодернизм с его внеисторической самодостаточностью. История служит Штейнбергу поводом для оживления памяти, его подход к традиции не связан с обращением ни к определенному художественному стилю, ни к определенной эстетической системе. В своей исторической интроспекции Штейнберг руководствуется скорее собственной интуицией, свободно выбирающей среди элементов прошлых эпох.
Творчество Эдуарда Штейнберга в зеркале идей серебряного века[14]14
Первая публикация статьи в каталоге: Эдуард Штейнберг. Деревенский цикл. 1985–1987. М.: Культурный центр «Петровские линии», 1989.
[Закрыть]
Сергей Кусков
Для Эдуарда Штейнберга характерно особое внимание к духовно познавательному аспекту художественного творчества, склонность к языку пластических символов, способных выявлять глубоко скрытое и уточнять личностную модель мироздания. Эта «философия формы», ощутимая за конкретностью отдельных произведений, связывает Штейнберга, при всем его авторском своеобразии, с определенным кругом представителей «неофициальной» художественной культуры 1960–1980-х, который принято условно именовать «метафизическим направлением». Вот имена ведущих его представителей: Михаил Шварцман, Владимир Вейсберг, Дмитрий Краснопевцев, Юло Соостер, Владимир Янкилевский, Дмитрий Плавинский.
Самозамкнутость московской микросреды, в которой художники и теоретики не только находили друг друга, но и вырабатывали общий символический язык, не помешала новой метафизике состояться как целостному направлению неофициальной художественной культуры. «Аура» этих исканий ощутима и по сей день.
Здесь произошла первая и удачная встреча философии и независимой живописи, первая концептуализация художественного опыта. Здесь возникла культурная общность – единая духовно ориентированная эстетика, в контексте которой философский комментарий и пластические символы были, по сути, компонентами некоего единого текста. Хотя интеллектуальная среда московских «метафизиков» была несравненно камернее, чем русское духовное движение рубежа веков, а круг домашних семинаров 1960–1970-х, где неофициальные художники и близкие к ним теоретики (среди теоретиков этого круга одной из наиболее ярких и заметных фигур был Евгений Шифферс) обменивались идеями и обсуждали общемировоззренческие проблемы, не имел и не мог иметь того размаха и разнообразия участников, каким располагали знаменитые собрания в «башне» Вячеслава Иванова или религиозно-философские общества Петербурга и Москвы, их пограничная между мыслью и образом сфера деятельности напоминает о столь же промежуточном способе существования независимой религиозной философии начала столетия. Наследие русского «религиозно-философского ренессанса» не являлось ни академической философией, ни церковным богословием: общие идеи часто возникали и у мыслителей, и у поэтов, поэтическое воображение и дискурсивная логика постоянно дополняли друг друга. Здесь имеет смысл остановиться на некоторых сквозных темах «религиозно-философского ренессанса», или «серебряного века», которые были унаследованы и развиты в духовной эстетике московских метафизиков 1960–1970-х. Как и в начале века, идеи христианства в 1960–1970-х оказались центром духовных исканий. Помимо общепризнанной культурно-исторической значимости этой традиции для России, здесь имелись причины и общефилософского порядка. Если в 1910-х христианство вносило в религиозный опыт личностное начало (чего не хватало, как тогда казалось, безличной пантеистической мистике Востока), то обостренное самосознание личности – свободного духа – для русского поэта и художника 1960–1970-х стало шансом сохранить внутреннюю независимость и творческую бескомпромиссность в условиях террора и принудительного «коллективизма». Поэтому не удивительно возобновление интереса к трудам религиозных вольнодумцев Вл. Соловьева и Н. Бердяева в среде свободных богоискателей из поколения, созревшего в пору недолгой послесталинской оттепели. «Новое религиозное сознание» Серебряного века обретало через христианство антропологическое «измерение» – вертикаль «богоуподобления» – путь восхождения вглубь и ввысь по ступеням Духа. Тайна Богочеловечности Вл. Соловьева соединяла Небо и Землю. Необходимые нравственные устои обретали сакральную мотивацию – мистическое обоснование. Заповеди воспринимались на уровне внутреннего закона, способного устоять перед законниками мира сего. За фасадом исторического христианства вычитывалась эзотерическая непреходящая суть.
Дар и драма судьбы – опыт экзистенции, заброшенный в непросветленный скованный падший мир, высветлялись созерцанием. Человеческий путь был ориентирован на горизонт Надежды. Сама история обретала смысл: за хаосом фактов и текучестью событий, словно контур золотого иконописного ассиста, проступал почерк Провидения. Мир фактов представлялся тайнописью истины. Драматизм и само переживание богооставленности – все обретало духовное оправдание, увязываясь с евангельской мистерией смерти и Воскресения. Можно сказать, что здесь было несколько сквозных тем или идей, которыми новаторство русских свободных богоискателей начала века обжигало сознание московских ««метафизиков» на рубеже 1960–1970-х, среди них: идея Богочеловечности в интерпретации Вл. Соловьева и последующих за ним мыслителей; его же учение о Софийности – тайной Премудрости и всеединства Бытия; новая христианская антропология Бердяева, с его свободой творческой личности и загадочной предбытийной Свободой, роднящей человека и Бога (космогонический акт и индивидуальное человеческое творение для него были явлениями одного порядка); мистический эстетизм П. Флоренского, с его символическим миросозерцанием и философией храма, мыслимый им как синтез искусства; и, наконец, философия симфонического творчества, открытая Вяч. Ивановым.
Эти идеи «Нового христианства» Серебряного века с его независимыми апологетами не вписывались в ортодоксально-конфессиональные нормы, постоянно находясь под подозрением в ереси со стороны ревнителей чистоты вероучения. Действительно, к платоникам и к раннехристианскому гнозису явственно восходят, например, представления Вл. Соловьева и близких к нему символистов (А. Блока и А. Белого) о Божественной Софии – Премудрости мироздания, часто отождествляемой ими с Мировой Душой и с Вечной Женственностью в природе Божества. Сплав неоднородных традиций ощутим был даже у мыслителей, относивших себя к ортодоксальному православию: у о. П. Флоренского и о. С. Булгакова (оба были священниками). Их «софиология», ставшая, по сути, самостоятельным направлением, вбирает в себя наряду с православной символикой отзвуки оккультных учений и реминисценции язычества. Эстетическое созерцание, способное постигать мир совершеннее, чем «скальпель рассудка», побудило философов обращаться к опыту поэтов и художников. Художественное творчество в символистской поэтике Вяч. Иванова становилось разновидностью современного тайноведения. Духовная эстетика, в свою очередь, объединялась с этикой на уровне постигаемого Мирового Закона.
Строгость Закона-Логоса дополнялась мистикой Вечной Женственности, смягчающего единения всего со всем. Поверх разрывов и разладов, над трещинами антиномий простирался покров скрытой Мудрости – залог высшего синтеза. Поколение символистов начала века наряду с христианством впитало в себя влияние восточной, более всего индийской, мудрости и как тень ее – влияние «духовно-научной» доктрины Рудольфа Штейнера. Антропософия с ее иерархией незримых сил оказалась созвучной врожденному «космизму» русского жизнечувствования. Мистическое мировидение антропософии имело большой резонанс в кругу и поэтов, и мыслителей, и художников, побуждая их к собственным мифотворческим интерпретациям (А. Белый, М. Волошин, Вяч. Иванов).
Миф становился достоянием поэтов-визионеров. Поэты виделись наместниками философов. Тайное и Древнее Знание всех времен и народов – от йоги до Каббалы – переосмыслилось, порождая новый опыт и небывалые символы. Груз традиций не отягощал дерзости исканий, так как предполагал путешествие в неведомое – фаустовскую пытливость духа. Новизна, независимость, творческое своеволие не знали границ. Это был пучок традиций и одновременно разлет путей (центробежных и центростремительных). Характерно, что новая философия начала века развивалась под знаком эсхатологических предчувствий. Мир виделся в перспективе ломки и обновления в соответствии с эзотерическим учением христианских мистиков об Апокалипсисе – «пересотворении», «переплавке» всего в очищающем огне. Эсхатологические мотивы наметились уже у Вл. Соловьева. Устремленность к новому бытию, к берегам Иного, драматическое чувство истории, ожидание «Третьего завета» – царства Духа на земле – все это характерно для русской религиозности в целом. При этом плеяда русских религиозных мыслителей (за исключением, пожалуй, Н. Федорова) не занималась утопическими проектами переделки Земли и Неба. Жизнетворческой утопией, романтикой «светлого будущего» более увлеклось последующее футуристическое поколение: В. Маяковский, В. Каменский, В. Хлебников и др.
Символистская же среда была свободна от наивных попыток планировать грядущее. Ожидаемое ими пришествие царства Духа мыслилось как прежде всего внутреннее перерождение человечества, как событие, выходящее за пределы конкретных времени и места, не как факт завтрашней истории, а как конец истории и выход в простор иррациональной свободы – в новое духовное измерение (Н. Бердяев, «Кризис искусства»). Что касается послеоттепельного поколения метафизиков, через полвека возобновившего религиозный поиск, то здесь уже вовсе не обольщались «даром предвидения». Эти люди слишком знали цену тех «неслыханных перемен и невиданных мятежей», что волновали воображение поэтов в начале столетия.
Поступь тоталитаризма – явь «осуществленной» Утопии – размыла символистские грезы и футуристические миражи. Эсхатологические надежды перенеслись исключительно вглубь, в сокровенный центр личности. Здесь выкристаллизовывалось катастрофичное чувство жизни и ощущение призрачной обманности тех социальных сеток, что кажутся незыблемыми сильным мира сего. Поэтому путь отшельника-аутсайдера, добровольно выпавшего из горячечного потока времени, стал в конце 1960-х – начале 1970-х предпочтительнее, чем всякий жизнетворческий активизм, и, несмотря на заметную увлеченность метафизиков-шестидесятников формальной проблематикой русского футуризма, в мировоззренческом аспекте им была несравнимо ближе символистская традиция и в целом дофутуристическая культура, то есть наследие так называемого русского религиозно-философского ренессанса, или Серебряного века.
Человекобожеству была противопоставлена Богочеловечность, волюнтаристскому пафосу утопии – самоуглубленное созерцание, одностороннему культу будущего – взгляд в прошлое в поисках вечных ценностей. Текст известного письма Штейнберга к К. Малевичу является лаконичным комментарием как к собственному творчеству, так и к общей метафизической ситуации рубежа 1960–1970-х. Это словесно оформленное творческое кредо выражает полноту экзистенции художника в постижении и освоении им религиозно-эстетической традиции Серебряного века русской культуры, пластический эквивалент, который открылся Штейнбергу в символике геометрических структур и видимых координатах вечности – образах Земли и Неба. Самый известный и наиболее протяженный «белый» метагеометрический период Штейнберга (1970–1985) духовно связан с софиологией Вл. Соловьева, своими же языковыми особенностями он тяготеет к супрематизму Малевича. Столь отчетливо узнаваемая у Штейнберга геометрическая стилистика супрематизма – это не зона ностальгического притяжения, а материал, с которым мастер ведет диалог, диалог во многих отношениях полемический. Опыт преодоления и переосмысления традиции, в русле которой художник стремится выйти к архаическим и архетипичным уровням языка геометрии в духе мистического эстетизма П. Флоренского и символизма Вяч. Иванова. В отличие от нигилистически настроенных новаторов начала века, Штейнберг не низвергатель прошлого, а скорее восприемник его эзотерических секретов. Он напоминает о геометрии как изначальном языке сакральных символов и космогонических схем. Для Малевича высший предмет созерцания – знак-Абсолют, форма как таковая.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?