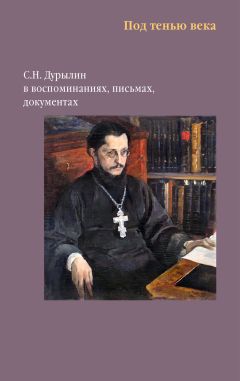
Автор книги: Сборник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Какой-то мерзкий черт водит их за нос!
Я не говорю, что всем надо сразу, вот теперь, поверить и уверовать. Пусть не верят! Если не могут быть Петром и Иоанном, пусть будут Фомой, но Фомой – не Смердяковым, который, прочтя сказки Гоголя, с неудовольствием заметил: „Про неправду все написано!“45».
Наша квартира с башней находилась в двух шагах от «Бережков» – набережной Москвы-реки с крутым высоким берегом, откуда открывался далекий вид на Москву-реку и Замоскворечье. Мы любили ходить туда гулять, подолгу сидели на верхушке горы, любуясь расстилающимся видом. Иногда и Сергей Николаевич ходил с нами. Он любил моих братьев. <…> В письме от 11.03.1909 года Сергей Николаевич пишет: «Какой вчера хороший был вечер!.. <…> Вот вчера я бы не мог спорить о Боге, о всем трудном, тяжелом, большом, что разъединяет людей, кидает их в умственный поединок, драку. Был Бог, невидимый, тихий, не требовавший речей и споров, но тишины и мира.
Мы все, как Глебка, слушающий Брюсова: „Я не понимаю, но мне нравится!“ – и в таком непонимании, может быть, самое большое возможное понимание: тут подлинная „уверенность в невидимом как бы в видимом“, “вещей обличение невидимых“!
Прежде я боялся тайны, неведомого, ночи, теперь я люблю их – они родные человеку, может быть, больше родные, чем день и дневная ясность. В ночи совершилось и совершается таинство бытия и жизни, мировое творчество. Душа – таинница, дочь тайны, но не сокрушающей человека, а возвышающей и укрепляющей: ночь и день – одно, явь и тайна – одно, и оба лица мира и Бога надо любить: лик дня светлый и темное лицо ночи. И я не знаю, что больше из них люблю…
Я в последнее время очень полюбил Гоголя и чувствую какую-то близость к нему. Думаю 20-го пойти на его могилу и сказать несколько слов о том, что Г. (Гоголь. – Т. Б.) – первый русский мыслитель-искатель…
Надо запоминать в сердце, памятью сердца, каждое светлое мгновенье, чтобы потом этим запасом жить, когда придут черные дни и часы». <…>
Как поразительно умел Сергей Николаевич иногда видеть человека. Говорю «иногда», потому что Сергею Николаевичу с его темпераментным отношением к людям часто свойственно было и ошибаться в них в ту или другую сторону. Нередко он переоценивал качества людей, а бывало, и вкладывал в них такие качества, которых в них вовсе не было. <…>
Этой весной мы все увлекались танцами Дункан. Сергей Николаевич, кажется, не пропускал ни одного представления. Один раз мы были с ним вместе на Дункан. Во время антракта в фойе встретили Бориса Леонидовича Пастернака, который был хорошо знаком и дружен с Сергеем Николаевичем. Со свойственной ему непосредственностью и темпераментностью, он так и набросился на Сережу.
– Мы все преступники! И я преступник! – кричал он, размахивая руками и точно забывая, где он. – Как они могут жить, как могут двигаться, оставаться такими же! – указывал он на публику. – Ну, как вы ходите?! – почти с болью воскликнул он, взглянув на Сережу.
– Он удивительно верно понял, – говорил мне после Сережа, – не слова оскорбляют, сами жесты, движения оскорбляют.
Числа 20 апреля 1909 года Сергей Николаевич уехал с Чернышевыми, детям которых он преподавал, на лето на дачу. 20-го же числа он писал мне: «Я даже рад теперь, что уезжаю и долго буду один. Не потому, чтоб теперь я хотел быть один, но потому, что нужно мне быть одному, что-то отмирает во мне, чему нужно было отмереть, и что-то зреет и зарождается, чему нужно было родиться. Пусть же совершится все это в тишине, пусть отстоится на душе и исчезнет вся муть, нанесенная годами!..» <…>
27 апреля, от Чернышевых, Сергей Николаевич писал мне: «Читал я здесь умную и превосходную книгу – „Письма А. И. Эртеля“. Это не литература и поэзия, а подлинные переживания, сырые, как были, так и есть… И вот что он пишет…»
Далее Сергей Николаевич приводит выписку из письма Эртеля, в котором автор рассказывает, как оборвалась у него «дружба» со многими людьми, возникшая на почве общих литературных, политических и других интересов отвлеченного свойства, оборвалась потому, что изменились его интересы и симпатии, и близкие отношения остались с тремя или четырьмя, т. е. «с теми людьми, которые любили и любят меня и интересуются мною не потому, что я писатель, или общественный деятель, или человек таких-то политических убеждений, а просто потому, что любится, что есть между (нами) какое-то созвучие, что называется личными симпатиями»46.
И Сергей Николаевич добавляет: «Я хотел бы только так относиться к Вам, Воле, Косте (Толстову. – Т. Б.), Ив. Ив. (Ивану Ивановичу Кулакову. – Т. Б.) и еще одному-двум людям. И хочу, чтобы Вы – разумеется, если можете и в силах, – так же относились ко мне».
9 мая, по приглашению Сережи, я с Волей ездила к нему в Пирогово47 в гости (к Чернышевым). Мы гуляли в лесу. Был прекрасный весенний день. И как-то странно и больно мне было видеть среди природы, ликующе пробуждающейся для жизни и радости, их медленно движущиеся фигуры: Волю в неуклюжей длинной студенческой шинели и Сережу в драповом пальто, сгорбленного, слабого – и слушать их разговор о соблазнительности монашеской жизни, о темной келье с образами и лампадками, о тихой, размеренной, медлительной жизни, о бесконечном познании – так не гармонировало это с окружающей природой.
Дома Сережа рассказывал нам о письмах Эртеля, о чем писал мне раньше, и, между прочим, заметил: «Нет ничего интересней, как частные письма! В них больше всего человек сказывается, со всеми изгибами… Я когда-нибудь соберу у знакомых свои письма…» <…>
Этим летом Сергей Николаевич совершал путешествие по Волге, Каме и на Урал; путешествовал он, по-видимому, с Чернышевыми. <…>
В первых числах июля Сережа вернулся с Урала и 8-го был у нас. Мы ходили в Новодевичий монастырь: Сережа, брат Виктор и я; побывали на могилах Чехова и Соловьева. Когда вернулись, пошли все на башню. Завязался разговор о творчестве жизни. Я сказала, что совершенно не понимаю, как можно проводить всю жизнь с книгами, в четырех стенах, вдали от жизни, как это делает Воля. Сережа стал отстаивать такую жизнь. Разговор перешел к художественному творчеству. Сергей Николаевич высказал мысль, что, может быть, все истинные художники должны уходить от этой повседневной борьбы, которую мы называем «жизнью». Брат, который очень интересовался эту зиму литературой, сейчас же спросил у него, кто, по его мнению, более прав: Брюсов, сказавший «творите свою жизнь», или Блок – «творите свои строчки»? Сережа ответил словами Брюсова же:
Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов…48
И сказал, что вполне понять это может только поэт. Те, которые задавались в жизни иными требованиями, нравственными или религиозными, кончали тем, что уходили от искусства, как Гоголь, Толстой. Может быть, исчезнут религиозные сомнения, идеи, борьба Соловьева, Мережковского, Достоевского, но не исчезнет, вечно жить будет Гомер, Шекспир, Пушкин.
В эти годы Сергей Николаевич все больше и больше осознавал свое призвание как поэта. <…>
Конец 1909–1910 год
И некоторое время спустя, в одном из писем он приводит стихотворение В. Брюсова, о котором говорит, что «как будто написал его» он сам:
Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых.
Я все мечты люблю, мне дороги все речи
И всем богам свой посвящаю стих49.
И делает такое признание: «Так я жил и живу. Может быть, как человек, я теряю от этого, – и даже наверное, и много теряю в глазах тех, кто любит, чтобы к человеку прикладывался вполне аршин – все равно какой: религиозный, нравственный, общественный, семейный и проч. Но как поэт – а все-таки я поэт! – я до тех только пор поэт, пока я люблю „мглу противоречий“, “люблю все мечты“. И ни для кого я не откажусь от права быть поэтом, права любить все „мечты“ – и те, что “телесней“, и те, что – как тени»50.
Он вспоминает при этом один свой рассказ под заглавием «Юноша», в котором рассказывается, «как юноша полюбил готового умереть Бога не за то, что Он – Бог и Христос, а за то, что Он прекраснее всех», он полюбил его той мечтой, «что ярче, что телесней…»51.
Внутренний конфликт между религиозными устремлениями и творческим призванием, изведанный многими русскими писателями, был пережит и Сергеем Николаевичем и зародился еще в те ранние годы, о которых я рассказываю.
Сергей Николаевич писал как-то мне: «Полнее всего в области мистики и метафизики для меня Бог является через Христа и в христианстве, – но я, как ни несомненно верю в воскресенье и в бессмертие, согласен где-то, в самом кончике моего разума признать относительность и этого учения».
Эта внутренняя борьба двух различных, и даже противоположных, стремлений его духа с годами все возрастала. Она могла бы быть особой темой в биографии Сергея Николаевича, но в годы 1909–1913 безусловно преобладала тяга к поэтическому, художественному творчеству над религиозными исканиями. <…>
В эти годы Сергей Николаевич был очень близок с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Борис Пастернак писал тогда какую-то литературную вещь, и Сергей Николаевич не раз говорил мне, что это нечто удивительное по силе и оригинальности. Он считал Пастернака гениальным и всегда выделял его из всех знакомых талантливых юношей-поэтов. Помню, как-то раз Сергей Николаевич в разговоре со мной об искусстве и творчестве заметил, что искусство требует от художника строжайшего и труднейшего подвига самоограничения.
Часто у Сергея Николаевича были моменты неверия в свои творческие силы, что связывалось у него и с разуверением жизненным, более глубоким, чем разуверение только в творчестве. «А искусство – творчество! – писал он мне как-то. – Я ненавижу иногда все, что написал. Я почти не верю в себя, не в себя, а в то, что в себе чую кого-то. Я писал на днях Воле, и это правда: „Я чувствую, что перестаю ждать. Мне кто-то когда-то шепнул: „Жди. Я приду. Я буду. Я приду“. Не обещая, кто-то обещал мне прийти. И вот, что бы ни было со мной, я ждал. Про все я думал: „пока“… И вот больше и больше вижу, что не меня обманули – я обманул себя ожиданием – ничто не придет“».
И далее идут замечательные строки, приоткрывающие внутренний мир не одного только Сергея Николаевича, но многих и многих из людей нашего поколения: «О, конечно, тут не мое одно несчастье и не мой один грех! Все мы, русские мальчики, поверив чуду, ждали, что вот оно над нами первыми совершится, первые мы увидим Пречистый Лик, любовь наша и творчество наше приведут чудом к тому, что нам засветит вожделенный голубой взор и, засветив, навсегда осветит нас и тех, кто любим нами, и наше – может быть, главнее всего „наше“, ибо правда ведь, что „полюби не нас, но наше“… И вот мы наказаны за это – все, от талантливых, гениальных, просвещенных до самых простых, темных, немудрых, от Белого и Блока до Северного52 и Воли…
Увидеть первый зачаток восхода, первую погасшую перед солнцем звезду, заметить и уже ждать, уже требовать почти, уже кричать с радостью, что солнце нам всходит – вот наш грех, вот наша кара; солнце для нас не взошло… Это не случайно, это не только литературная неумелость, это не бездарность моя, что я не мог написать второй части „Дон-Жуана“, что руки от нее отваливались, бумага становилась камнем, на котором тяжело было писать, ибо надо было чертить. 1-я часть – ожидание чуда, луч, принятый за восход, за уверенность восхода, уже предторжество восхода. И вот все отнято: даже поэма, даже стихи…
В один месяц написать несколько тысяч стихов и затем в два года два слабых наброска – это, конечно, наказание, предостережение…
Но ведь так не в одних стихах. Что стихи! Бог с ними! Я ведь комнатный стихотворец, я не выхожу с ними из комнаты. Страшно то, что так и в жизни! Вместо радостной чаши с вином – урна с пеплом. Тут ведь Белый только выразил, что и во мне, и в Воле, и в ком еще…
Я делаюсь далеким и чужим самому себе. И на то, что пишу, я смотрю, как на чужое, постороннее. Мне бывает жалко того, кто это все написал, и мне бывает скучно от написанного, мне каждая строчка говорит: „не то“, „не то“». <…>
Сергей Николаевич делает предположение, что на основании этих написанных им строк можно подумать, что ему «нестерпимо скучно, пусто, тяжело жить, – и жить не хочется», и пишет далее:
«Нет. Никогда я еще не чувствовал себя крепче прибитым к земле, как теперь. Кажется, кто-то, как ребенка к стулу, привязал меня к ней. И я знаю, что не отвяжусь, потому что и не хочу отвязаться. Я слушаюсь кого-то, кто привязал меня. Меня рвет иногда от действительности, мне кажется, что на меня дышит и хочет задушить меня дыханьем бесконечное, многоногое человеческое мясо – и все-таки я буду жить, выпью воды, пройдет рвота, и я не отрицаю ничего в жизни…»
Признания, сделанные здесь, замечательны: о каком «голубом взоре» говорит здесь Сергей Николаевич? Ответ на это всякий читатель найдет в его статье «Судьба Лермонтова», написанной, кстати сказать, за несколько месяцев до вышеприведенных строк. Статью эту Сергей Николаевич впервые прочел у нас, в нашей семье, во второй половине марта 1910 года. Позднее он читал ее в виде доклада в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева в Москве, и в 1914 году она была напечатана в десятой книге журнала «Русская мысль» за этот год53. Совершенно несомненно, что в каких-то недосягаемых глубинах человеческого духа Сергей Николаевич был чрезвычайно близок к Лермонтову, что и дало ему возможность прозреть и выявить в творчестве поэта то, что до него не увидел никто. В летние месяцы 1910 года Сергей Николаевич каждый день бывал в Румянцевской библиотеке (теперь: Библиотека имени В. И. Ленина54), читал о Лермонтове, о Гаршине и многое другое, что, по его словам, зимою не пришлось бы прочесть. Приблизительно в это же время или немного ранее (весною 1910 года) я, заходя к нему, видела у него на столе огромные старинные фолианты: жития святых, творения Отцов Церкви. И часто я думала тогда, что Сереже не миновать раздвоения между религией и искусством. Сергей Николаевич в это время завел знакомство с каким-то архимандритом в Кремле55 и, помню, как-то раз пригласил меня и Сашу Ларионова56 пойти посмотреть, как варят миро. Самая процедура варки: громадные котлы под красным балдахином, дьяконы в черных бархатных одеждах с серебром, мешающие в котлах громадными ложками с ручками, обтянутыми красным бархатом, и сильный опьяняющий аромат – все это произвело на меня ошеломляющее впечатление и казалось каким-то древним восточным волхвованием. Кажется, в этот день, а может быть, несколько дней спустя, мы с Сергеем Николаевичем были у Саши Ларионова, и там, между прочим, велись бесконечные разговоры о «стихах», о «рифмах», о «ритме», «певучести стиха», о старых и новых поэтах и т. п. Это было время крайнего увлечения стихотворством, когда, кажется, не было ни одного молодого человека, который не писал бы стихов, не воображал бы себя избранником муз, не занимался бы исследованиями «ритма» в своих и чужих стихах. Это было время «Myсагета»57. Но, кажется, в то время Сергею Николаевичу самому уже стали надоедать эти бесконечные разговоры о стихах; по крайней мере, мне он говорил не раз в то время, что скоро даст обет не говорить больше о стихах, и прибавил, что единственное, чего надо просить у Бога, – это не счастья, не мудрости, а только простоты. Он писал мне:
«Мы любим длинные разговоры, открытия души, мы любим мысли, идеи, слова человека, но сам человек остается где-то далеко, в стороне, болеющий, тоскующий, изнемогающий в лжи, заботе, труде, самоотрицании действительности – человек. Мы любим праздники и не выносим будней. Ибо мысль, идеи, беседа – это праздник, а вот темные, тишайшие, долгие часы повседневности, забот, тоски, житейскости, часы неизбежные, часы решающие, злые, могучие, – будни. И их мы не хотим знать в другом». <…>
В июне 1910 года Сергей Николаевич ездил на некоторое время в Ростов и Углич осматривать русскую старину. Он любил Россию не в какой-либо ее части, а всю ее, в ее искусстве, литературе, истории, как любил ее и в ее природе.
По возвращении остаток лета он, как обычно, проводил в Пирогове у Чернышевых. Это время было для него временем глубокой критической проверки самого себя, какого-то внутреннего ответа самому себе. В августе он писал мне оттуда: «Опять осень. Я оживаю. Продают яблоки. Они крепкие, круглые, пахучие. Лето для меня прошло томительно. Я не находил себя. Ничего не сделано. И, может быть, никогда ничего не будет сделано. Но легче, когда ясные, немного туманные, тихие осенние дни, простая тишина вне тебя и внутри – и все представляется простым, спокойным, решенным. Кому-то вверяешься и, покорствуя, ничего не ждешь.
В сущности, это – мое основное жизненное настроение. Несмотря на мою далеко не мирную юность, вопреки всем моим увлечениям, вопреки, скажу без всякого преувеличения, всем моим грехам, я ищу и искал религиозной внутренней покорности. Я мирный и мир любящий человек. Я правдивее, истиннее, лучше бываю тогда, когда проще, тише, смиреннее, покорнее. Я скор на осуждения, я склонен к некоторой резкости, но нет ни одного моего осуждения, которого я не осудил бы. Я не могу рассориться ни с кем. Даже с людьми, явно мне враждебными, я никогда не разойдусь окончательно. В моей природе, несовершенной и бедной, как только подобает несчастному русскому мальчику несчастной поры, есть мягкость, русское мягкосердечное, слабое, нетребовательное к себе и другим, недеятельное христианство. Оттого, может быть, я и в природе люблю тихое, покорное, изнемогающее время года – осень; оттого я склонен к мистическим чувствованиям, неопределенным, нетребовательным, не люблю ничего рационалистического (а оно всегда определенное, ясное), резкого, отвращаюсь от всякой математики и влекусь ко всему аматематическому. Конечно, я ничего не сделаю в жизни, конечно, я не сумею быть до конца поэтом, историком литературы, критиком, педагогом, как уже не сумел быть общественником, отрицателем, толстовцем и т. д. и т. д. Но это мое неуменье, пожалуй, моя лучшая черта, и я, лучший я, я – невежественный, горячий, смешной, я ненавижу в себе последние остатки „дельца“, „рационалиста“, „деятеля“, „активника“, „оконченного человека“: поэта, педагога, критика и т. д. Я боюсь своей “деятельности“ и мое „неделание“ – лучшее во мне».
Нельзя было лучше выразить настроение и душевное состояние того периода жизни Сергея Николаевича, чем это сделано им самим в этом письме. И нечего прибавить к нему. Ясно, что такая многообъемлющая натура, как Сергей Николаевич, не могла вместить себя в какое-либо одно жизненное призвание, избрать какой-либо один определенный путь. Самому ему, может быть, было тяжело от этого, но русская культура от этого ничего не потеряла, а лишь выиграла, ибо в одном он только ошибался – в том, что он никогда ничего не сделает. Напротив: в какой бы области Сергей Николаевич ни работал – педагогом ли, воспитавшим многих русских юношей, литературным критиком, театроведом, исследователем в области изобразительного искусства, – заслуги его неоцененны. Но ему всегда мучительно хотелось, чтобы люди – близкие люди – подходили к нему и любили его не за его мысли, высказывания, знания, не за то, что они от него получали, а его самого, «простого, немудрого, не злого, верящего, умненького русского мальчика Сережу», как он сам себя называл. Ему казалось, что он никогда не может, не умеет сказать людям о себе правду, до конца высказать себя, и тютчевское «как сердцу высказать себя, другому как понять тебя» было ему близко, как никому. <…>
В августе 1910 года Сергей Николаевич поступил в археологический институт, и помню, у него не было денег, чтобы внести первые 40 рублей, так что ему пришлось по частям занимать их у своих друзей. Он жил в это время в Пирогове, у Чернышевых, и буквально на минутку приезжал в Москву, очевидно, в связи со своим поступлением в институт. <…>
1911 год
<…> Этой зимой поэты-символисты, А. Белый, Эллис и др., собирались по воскресеньям у скульптора Крахта. Собрания эти имели целью совместное изучение творчества Вагнера и французских символистов: Бодлера, Верлена и др. Читались доклады, рефераты. Кажется, Эллис читал лекции о Бодлере. Сергей Николаевич был частым посетителем этих собраний и сам выступал с сообщениями. Настроение на этих вечерах было торжественное и какое-то благоговейное. Ходили чуть ли не на цыпочках, говорили шепотом, к символизму относились как к какому-то новому откровению. Не помню, когда и почему прекратились эти вечера.
В июне 1911 года Сергей Николаевич снова уехал на север, на этот раз со своим другом Всеволодом Владимировичем Разевигом. Я получила от него оттуда несколько коротеньких писем. «Север признал во мне старого знакомца, – писал он, – и дал чудесную погоду. Очень жарко. Воля ест пирамидон, а я и Воля – ботвинью. Я ленив, медлителен и взирающ на брега, села и воды. Что-то будет далее – пока я радуюсь, что стихи за 1000 верст, и также „Мусагет“, ритм58, Бодлер, а здесь за 1 сажень – огромная река, рыба, плоты…» Это письмо было написано с Северной Двины, где-то около Котласа. Следующее письмецо было из Соловков и, наконец, из Колы: «Мы только что пришли из Лапландии, где пробыли 10 дней. Впечатлений очень много, и все они пестры до крайности. Я уже соскучился по Москве, заметь: не по книгам, а по Москве – людям и улицам. В Норвегию поедем только на 2 дня, затем 2–3 дня в Архангельске и в Москву, где рассчитываем быть числа 26-го».
Вернувшись с севера, Сергей Николаевич в скором времени поехал со своим новым другом, поэтом-мусагетчиком Алексеем Алексеевичем Сидоровым, отдыхать в деревню, в имение тетки последнего59, и 30 июля писал мне оттуда:
«…опять я забываю, что я тот, кого называют поэтом, педагогом и проч., и проч., – я просто я, живу, ем, сплю, читаю (мало) – и какое счастье сознавать себя самым обыкновенным человеком, решительно обыкновенным, немудрым, с среднею высотою переживаний, знаний, ума… И если б я был всегда такой, я был бы и прост, и мил себе и другим. У Л. Н. Толстого в “Круге чтения“ есть мысль: “несчастен тот человек, у которого нет ничего, за что бы он готов был пойти на смерть“. Я такой человек. Ни за Бога, ни за людей, ни за искусство, ни за науку, ни за что я не сознаю себя готовым пойти на смерть, и я ясно чувствую, я знаю, что я – не горячий, не холодный, я – теплый, могу жить и должен жить методом тысяч и тысяч обычно-злых, обычно-добрых, обычно-умных людей…
А здесь тепло, солнечно, молотят хлеб, шумит липовая аллея, милые люди, милый Алексей Алексеевич, новая повесть Брюсова, юность, молодость и опять юность, и опять молодость – все хорошо. Ах, действительно все хорошо на свете, кроме того, впрочем, что не хорошо!»
Опять оценка себя, и опять не соответствующая действительности!.. Конечно, верно то, что Сергей Николаевич сознавал себя не горячим, не холодным, а теплым, ни за что не готовым пойти на смерть, но разве стал бы он раздумывать о том, чтó грозит ему самому, если б нужно было спасать жизнь друга? Ведь пошел же он на несомненный и большой риск, когда нужно было вывести из заключения его товарища, Мишу Языкова. И можно ли назвать его отношение к людям «не горячим»? Я думаю, многие и многие из его друзей и знакомых испытали на себе его удивительную отзывчивость, готовность помочь всем, чем только мог: советом, делом, участием в жизни и работе, не говоря уже о деньгах… А в дружбе Сергей Николаевич был верным человеком и сам ценил эту верность в людях! К сожалению, не все ему платили тою же монетой, что всегда ему приносило много огорчения и печали…
Следующее письмо от 10 августа 1911 года, написанное из той же деревни, ярко характеризует как деревенскую жизнь в имении, так и настроение Сергея Николаевича.
«Я живу в имении, в первый раз в жизни в настоящем имении. <…>
Я чувствую себя бодрым и здоровым. Воздух ли здесь особенный, или безмятежное и неторопливое благополучие здешней жизни, или близость Алексея Алексеевича, который пишет превосходные стихи, или приближение осени, моей любимой и доброй осени, – но я никогда не писал с таким наслаждением, как здесь. Засев под липу, я в состоянии писать 4–5 часов подряд, с перерывом лишь на обед, и пишу все чаще и чаще, не пропускаю почти дня, чтобы не написать чего-нибудь. Доныне я написал за 1 ¾ недели 3 (целых три!) рассказа, из которых два лучшее, что я вообще написал. <…> Мы усердно занимаемся ритмом, я разобрал уж около 1500 стихов Жуковского. Мы обдумываем новые исследования. А. А. (Алексей Алексеевич. – Т. Б.) придумал блестящую классификацию рифм и разобрал с точки зрения строгости рифм „Антологию“. <…>
Пленительно сидеть за одним столом с Алексеем Алексеевичем и писать рассказы или заниматься ритмом. Он написал прекрасную сказку. Теперь он пишет 1-ю главу романа, продолжать который мы будем все: я, Шенрок60, Саша61 и т. д.
Я получил от арханг. губернатора приглашение поехать теперь же на Шпицберген с оплатой проезда с Мурмана на Шп.<ицберген> и обратно, но отказался».
Читаю я Сенковского, врага Белинского; прекрасный новеллист; прочел 5 сборник „Сев. Цветов“ – в них чудесен Брюсов; превосходное стихотворение, блестящий рассказ и прекрасная поэма. Его стихи и прозу нужно не читать – изучать и любить. Тогда ее поймешь и оценишь, как должно. Несравненный художник!»
В конце письма Сергей Николаевич прибавлял, что с этой осени он остается абсолютно без уроков, то есть с 30 рублями в месяц, и просил всех доставать, что можно, в смысле уроков. В это время он жил, кажется, исключительно только уроками. В Москву он хотел вернуться числа 20 августа.
К сожалению, мне не довелось услышать рассказы и стихи, написанные Сергеем Николаевичем за это лето. Читала я только роман, который Сергей Николаевич писал совместно с Алексеем Алексеевичем (остальные авторы так и не приняли в нем участия). Роман остался незаконченным, но интересно было следить, как чередовалось в нем, глава за главой, все различие темпераментов и характера творчества у таких несхожих между собою людей, как Алексей Алексеевич и Сергей Николаевич. Все бури, все закручивание, какое-то взнуздывание событий и положений у первого и распутывание их, приведение к одному знаменателю, к тишине и умиротворенности у второго. Алексей Алексеевич драматизировал внутренние переживания и действия героев, Сергей Николаевич их лирически, морально утихомиривал, утишал.
Осенью 1911 года, в связи с какими-то тяжелыми переживаниями в личной жизни, Сергей Николаевич несколько отдалился от меня. По-видимому, ему было очень тяжело, и все же дух какой-то неистребимой жизненности, цепкой привязанности к земле жил в нем. В ноябре я снова получила от него несколько строк; он писал: «Есть Бог, есть природа, есть мысль, есть искусство. Никогда еще не любил я так всего этого. Я дал себе слово перевести „Sagess“ Верлена – книгу слез, простоты, веры и Богоматери… в ней есть мое стихотворение:
Qu’as-tu fait, o toi, que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi, que voilà
De ta jeunesse».
И в переводе Сергея Николаевича:
Чтó ты, чтó ты сделал,
Исходя слезами,
Чтó – скажи – ты сделал
С юными годами?62
Сергей Николаевич в своих высказываниях часто, очень часто вспоминал эти строки Верлена в применении к себе самому, и всегда это воспоминание звучало как-то особенно горестно в его устах. Но в том же письме ко мне он писал далее: «Никогда еще я так не любил жизнь, небо, людей, камни мостовых, педагогику, Верлена, археологию, ах, всю, всю жизнь…»
1912–1914 годы
В 1912 году мы с Сергеем Николаевичем не переписывались и мало виделись. Чем он занимался и где жил в это время – не помню. В январе 1913 года при встрече он сообщил мне, что очень занят Франциском Ассизским. Франциском Ассизским Сергей Николаевич занимался много лет и раньше, и еще в 1911 году вышла книга «Сказания о бедняке Христове», в которой глава «Житие святого Франциска»63 была написана Сергеем Николаевичем. Что-то было созвучное у него с этим «бедняком Христовым».
В 1913 году, летом мне пришлось гостить у одних знакомых на Украине64. Сергей Николаевич в своем письме мне туда сравнивал природу Малороссии с природой северных и среднерусских областей России: <…>
Есть в русской природе усталая нежность65,
ее-то и нет следа на юге.
«В Оптиной пустыни природа удивительная: благословенно-тихая, понимающая, смиренная и святая.
Только там мне стало ясно, почему Гоголь заезжал туда из Малороссии, почему влекло туда Достоевского, Л. Толстого, Вл. Соловьева, почему там похоронен Киреевский, постригся Леонтьев. Молитва создала там место, откуда, кажется, короче и доходней молитвы – и легче устам произносить слова, которые труднее всего нам произносить: слова смирения, простоты и беспомощности… „Соблазн и безумие“ – эта оптинская природная и людская простота и тихость всем, ищущим мудрости и сбивающимся вместо нее на мудрование. Но и они понимают там, чтó значит место, куда можно прийти плакать о себе и о всем мире, где мне – и каждому – вспомнилось и помянулось молитвенно все дорогое и милое… и все, что верилось и желалось вокруг России…»
Письмо это было написано из Пирогова, где Сергей Николаевич вновь проводил часть лета, занимаясь с детьми Сергея Ивановича Чернышева. В семье Чернышевых он был окружен теплой атмосферой участия, внимания, любви и сам был привязан к мальчикам Чернышевым, и все же, несмотря на это, он постоянно чувствовал себя глубоко одиноким. В июле того же года он писал мне оттуда же:
«Я испытываю в последнее время, особенно сегодня, приступы какого-то тихого и конченого одиночества, – и только порой кажется, что есть еще кто-то у меня, мне неведомый, кто
О всем погибшем плачет, словно
И обо мне, и за меня.
Я так притерпелся к тому, что – в сущности – я всегда один, или один для себя самого, что мне и это стало привычно и почти не больно.
Но иногда что-то всколыхается на душе – и начинаешь сам у себя чего-то просить… чего ни сам не дашь себе, ни другие не дадут, что может дать Бог, но не дает… Мудрость и знание подобны ивано-купальскому цветку: обладать им дано кому-то, не нам; нам – верить, что они есть, и плакать, что у нас их не будет. В Ассизи Лев Львович66 пережил то, что я переживал, работая над «Св. Франциском»: веру в святого простеца, – и вся Россия будущего (если ей дано будущее) есть Россия святых простецов. Наш национальный герой – Иванушка-дурачок, и нам никогда не было соблазном, что мудрость мира отнята Евангелием от премудрых и дана неразумным. И в этом смысле никогда не перестает быть прав Тютчев:









































