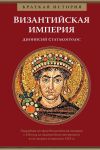Текст книги "Римская империя. Рассказы о повседневной жизни"
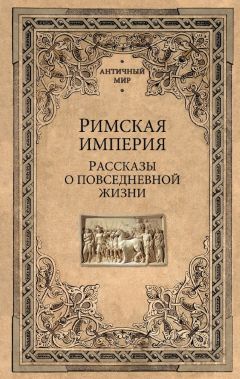
Автор книги: Сборник
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Наступал рассвет, пропели петухи. Катон вновь лег на постель, закрыл глаза. Любимый домашний врач Бутас и юноша Катон заглянули в комнату и, видя Катона спящим, возвратились к себе, совершенно успокоенные. Дом погрузился в безмолвие. Только ветер жалобным завыванием изредка нарушал тишину. Наконец и он затих. Родственники, друзья и слуги Катона спали крепким предрассветным сном. Вдруг страшный грохот и падение чего-то тяжелого разбудили весь дом. С криком ужаса, в предчувствии чего-то недоброго, бросились слуги в горницу своего господина, и глазам их представилось ужасное зрелище. На полу лежал опрокинутый геометрический столик, а рядом с ним, весь утопая в крови, распростерся Катон, пронзивший себя мечом.
Напрасны были старания врача. Еще момент – и великого республиканца не стало.
V
Поздно ночью 14 марта 710 года (от осн. Рима) к одному из лучших домов Рима, принадлежавшему племяннику Катона Утического Марку Бруту, стали подходить неизвестные люди.
Шли они поодиночке, незаметно, озираясь, и лица их тщательно были закутаны плащами. Бесшумно, точно тени, проскальзывали они через маленькую калитку в ограде дома и, казалось, таяли среди густых деревьев роскошного сада.
У самого входа неизвестных людей встречал поджидавший служитель. Отвесив поклон, он сопровождал поздних гостей на террасу, а затем, указав на дверь во внутренние покои, возвращался обратно на свое место. Войдя в обширное помещение, каждый из приходивших снимал повязку, и только тогда, при ярком свете огней, можно было различить лица таинственных людей. Это были представители римской молодежи из числа тех, которые не могли примириться с единовластием Цезаря и страстно ненавидели его. Здесь были Гай Кассий, Децим Брут и другие. Гостей встречал сам хозяин, Марк Брут, – гражданин, имя которого произносилось с таким же уважением, как и имя погибшего Катона.

Марк Юний Брут
Высокий, худощавый, с тонкими чертами слегка бледного лица, Марк Брут напоминал своею внешностью Катона. Обворожительная ласковость и мягкость обращения невольно привлекали к нему всех, с кем ему приходилось встречаться. Но какая-то странная нерешительность и застенчивость чувствовались во всей его фигуре, во всяком его движении.
Он сердечно приветствовал всех приходивших, и не заметно было в нем того волнения, которое сразу же бросалось в глаза при взгляде на всех присутствующих. Особенно волновался Гай Кассий. Ни одной секунды не мог он стоять спокойно, и, как вулкан, выбрасывающий огненную массу, бросал он горячие слова, воспламеняя слушателей, окружавших его: «Тиран требует короны, такой короны, пред ослепительным сиянием которой склонились бы все народы, в том числе и римские граждане, – страстно, почти шепотом говорил Кассий. – Нет, этому не бывать! Не состоится тот поход на парфян, с которым связывают лживые жрецы царскую корону Цезаря. Завтра мартовские иды. Мы совершим свой долг перед отечеством!..» И при этих словах Кассий нервно схватил рукоятку меча. Внезапно отворилась дверь, все вздрогнули. Вошел Требоний, последний из ожидавшихся сегодня на собрание. Он поздоровался с товарищами и стал сообщать им последние городские новости. Он узнал из достоверных источников, что Цезарь лишил звания трибунов Марула и Флавия за то, что они арестовали и посадили в тюрьму тех темных личностей, которые на последнем празднестве приветствовали его «царем» и украшали диадемами его статую. При этом Цезарь позволил себе нанести оскорбление трибунам, называя их глупыми людьми и тупицами.
Все глубоко возмущались, слушая новости Требония: так чтит Цезарь священную и неприкосновенную личность народного трибуна! Эти новости еще более возбудили негодование присутствующих. Они тесным кольцом окружили Марка Брута и стали подробно обсуждать и распределять обязанности на завтрашний день. Сегодня необходимо было еще решить вопрос, не следует ли включить в число заговорщиков Марка Туллия Цицерона. Метелл поддерживал эту мысль ввиду огромного влияния Цицерона на римское население. С Метеллом соглашались и другие заговорщики. Но Брут высказался решительно против: Цицерон уже не находил в душе своей сил, чтобы открыто встать против тирана. Он льстивым притворством старался заслужить благоволение Цезаря, и не без его участия вплетаются все новые и новые цветы в венок величия и славы Цезаря. «Нет, Цицерон здесь не у места», – закончил Брут. После этого все единогласно присоединились к мнению Брута. Однако единодушие царило недолго. Пылкий и гневный Кассий потребовал, чтобы вместе с Цезарем пал также Антоний, его приспешник, с презрением глядящий на народ и на республику. Предложение Кассия встретило сочувствие у многих. Но опять Брут не дал разгореться страстям. Спокойно и решительно он заявил, что никакие убийства не могут быть допущены, кроме смерти Цезаря, которую он заслужил, как тиран, пренебрегал законами, как губитель республики. Никому не было охоты спорить с Брутом, надо было торопиться, к тому же все чувствовали, что слишком велика была ответственность перед завтрашним днем, чтобы вносить раскол в общее дело. Закончив переговоры, заговорщики молча подали друг другу руки и стали расходиться. В глазах у всех светилась твердая решимость. Только на лице Брута появилась вновь скромная застенчивость и казалось, что все происходившее кругом совершенно не касалось его. Один за другим выходили заговорщики по знакомой тропинке, тщательно кутаясь в плащи. Пугливо глядели они кругом, прислушиваясь к каждому шороху.
VI
«Цезарь убит, Цезарь убит…» Эта страшная весть с быстротою молнии перелетала из дома в дом, из уст в уста и потрясала весь Рим от богатых дворцов до убогой хижины. Никто точно не знал, как это произошло. Одни рассказывали, что Цезарь пал, долго защищаясь от напавших на него сенаторов, другие – что Цезарь был убит Кассием, ударившим его по голове, третьи говорили, что первым обнажил оружие Брут. Брута считали другом и любимцем Цезаря, и, хотя знали о преданности Брута старой республике, но казалось невозможным, чтобы он мог поднять руку против Цезаря.
Мало-помалу, однако, выяснилась полная картина убийства диктатора. Сенаторы, очевидцы нападения на Цезаря, разбежавшиеся в страхе после убийства, рассказывали в подробностях, что произошло в заседании сената. Один из сенаторов, взволнованный и бледный, окруженный толпою, стоял на опрокинутом ящике среди площади и в живых красках передавал обо всем, что он недавно видел в сенате. В положенное время Цезарь, как обыкновенно, важной и неторопливой походкой вошел в зал и сел в свое кресло в тот момент, когда сенаторы приподнялись со своих мест, изъявляя ему свое почтение. Не успел он произнести и одного слова, как со скамьи поднялся Туллий Цимбер. Он подошел к диктатору и стал громким голосом просить о возвращении из изгнания своего брата. Цезарь досадливо махнул рукой и отказал просителю. Но Цимбер не отставал и еще настоятельнее вопил и умолял Цезаря. Тогда последний в гневе поднялся, желая что-то сказать… И в ту же минуту заговорщики-сенаторы один за другим бесшумно стали покидать свои места и окружать Цезаря, поддерживая просьбу Цимбера. Цезарь, как бы в смутном предчувствии какой-то опасности, сделал шаг в сторону от кресла, но вдруг Цимбер дергает рукой тогу Цезаря и срывает ее с шеи: это было, по-видимому, условленным знаком. В тот же миг Кассий ударил Цезаря мечом в шею, а за ним стали наносить удары и другие, в том числе и Брут. Цезарь зашатался и пал бездыханным, распростершись у подножья мраморной статуи Помпея…
Граждане напряженно, затаив дыхание, слушали сенатора. Жутко и страшно становилось на душе у каждого. Вдруг близ здания сената толпа заколыхалась; все смешалось в общем движении и шуме. И в эту минуту, по направлению к Капитолию, прошли заговорщики. Впереди всех бодрой походкой, с торжественными лицами, выступали Брут и Кассий. Они поминутно потрясали окровавленными мечами и кричали: «Да здравствует республика!» И несколько людей крикнуло робко: «Да здравствует свобода! Да здравствуют Брут и Кассий!»
Утром следующего дня должно было происходить погребение праха Цезаря. Распространился слух, что заговорщики произнесут речи в оправдание своего поступка. И вот из разных концов города потянулись толпы народа, обуреваемые самыми разнообразными чувствами. Многие из граждан стали теперь сомневаться, будут ли новые хозяева Рима лучше погибшего диктатора, сумеют ли они обеспечить мир и покой, которые так нужны большинству граждан. Были у Брута и Кассия искренние сторонники и друзья, преимущественно из среды зажиточного люда. Быть может, со смертью Цезаря, думали они, жизнь войдет в обычную колею и гражданам предоставлена будет возможность спокойно заниматься будничным делом: хозяйством, торговлей и проч. Но не все так думали, и далеко не всем казалось привлекательным новое положение.
В Риме жило множество ветеранов, которые только и рассчитывали на подачки Цезаря. Цезарь умер. И эти люди были объяты мрачными мыслями и сильнейшей тревогой. Они думали: при жизни Цезаря можно было не беспокоиться о завтрашнем дне. Император не дал бы погибнуть солдату, несшему с ним тягости бесконечных войн, при Цезаре никогда не прекратились бы обильный раздачи, пышные зрелища и развлечения. А теперь что сулит ближайшее будущее? Что дадут эти аристократы-республиканцы, загубившие жизнь великого Юлия? Не настанет ли час расправы над его солдатами?.. Глухо волновались голодные пролетарии: они не знали, будет ли выдаваться им обычный хлебный паек, и мало доверяли будущему правительству аристократов и богачей, под главенством Брута и Кассия.
На перекрестках улиц и на площадях останавливались группами люди и вели жаркие споры о положении дел. В одной из групп оратор расточал похвалы по адресу Брута и Кассия. В ответ ему другой с иронией предостерегал граждан не особенно доверяться «добродетели» Брута, а лучше вспомнить его деятельность, хотя бы на Кипре. И тут слушателям сообщалось, как Брут, при посредстве подставных лиц, жестоко обирал провинциалов, взимая с них по долговым обязательствам свыше 45 %. Когда члены городского управления в городе Саламине задержали уплату долга, то один римский всадник, представлявший интересы Брута, пришел с отрядом конницы и запер членов думы в их помещении, где пять из них и умерли от голоду.
В толпе вздыхали и качали головами. Неблагоприятные отзывы о заговорщиках распространялись все более и более… Между тем по узким и тесным улицам Рима двигалось с окраины в центр все больше и больше народу. Точно ручейки, вливались люди в один обширный бассейн, охватывавший далекое пространство вокруг Капитолия. Повсюду в этой толпе – возбужденные лица, гневные жесты, спор, переходящий в брань. Трудно было бы сказать, сколько людей из числа собравшихся сочувствует убийству Цезаря и сколько настроено против убийц.
VII
Около полудня в этот день по большой шоссейной дороге, тянувшейся от Капуи, шла группа крестьян по направлению к Риму. Несмотря на палящий зной солнца, путники не только не думали об отдыхе, но, напротив, прибавляли шагу все больше и больше. Очень трудно было идти хромому человеку, подпиравшемуся палкой и прилагавшему последние усилия к тому, чтобы не отставать от товарищей. Ему хотелось также не пропустить ни одного слова из беседы, которую вели спутники о последних минутах жизни Цезаря. Просто удивительно, когда эти люди успели получить такие подробные сведения о событиях в Риме, имевших место только вчера. Но собеседники прекрасно знали обо всем и передавали друг другу все новые и новые факты, касавшиеся убийства Цезаря. Всем до единого человека хотелось поспеть на собрание к Капитолию и на похороны погибшего императора.
Много волновался Рутилий, человек немолодой, лет сорока, с очень осунувшимся, старообразным лицом. Он в десятый раз высказывал свое сожаление и досаду, что не задержался в Риме еще дня на два, на три. Позавчера утром он вернулся из Рима к себе в деревню за 20 верст, а сегодня приходится опять возвращаться обратно в Рим. Иное дело, если бы он задержался в городе, – тогда был бы свидетелем всех происшедших в последние дни событий. А брат, точно предчувствовал, все уговаривал остаться еще на несколько дней. Болтовню Рутилия остановил его товарищ, шедший с ним рядом, – длинноногий Лонг. «Будет с тебя тратить попусту слова, – сказал он. – Взгляни на небо и поразмысли хорошенько, доберемся ли мы хотя бы к вечеру в Рим или нет…» С этими словами Лонг поднял голову кверху и, прищурив глаза, посмотрел на солнце. Лицо его казалось безобразным вследствие того, что было изуродовано глубоким шрамом, тянувшимся красной линией от уха до носа. «Плох тот скороход, кто часто поднимает голову к небу, – возразил Рутилий. – Надо просто прибавить шагу и спешить, сколько есть сил. Без нас, старых сотоварищей императора, не должен решиться ни один важный вопрос». Рутилий был ветеран из числа легионеров Цезаря, имел неподалеку от Рима участок земли и теперь очень тревожился о своей судьбе. Его спутники – их было трое – также служили под знаменами Цезаря и теперь доживали остаток дней на покое среди мирной сельской обстановки. Разумеется, и они, подобно Рутилию, беспокоились о себе и спешили в Рим, чтобы там поподробнее разузнать о происшествиях последних дней и, если понадобится, принять участие в текущей общественной жизни Рима.
«А по-моему торопиться совсем некуда, – сказал вдруг хромавший человек. – Как ни старайтесь, а раньше чем к вечеру, в Рим не доберетесь. Значит, ничего примечательного мы уже не увидим. Так не лучше ли не спеша добраться нам до ближайшей к Риму таверны и там утолить голод и жажду?..» Лонг, шедший впереди всех благодаря своим длинным ногам, первый поддержал предложение хромого. «И правда, – сказал он, – прямо-таки необходимо испить прохладного вина…» Три часа спустя приятели подошли к дверям намеченной таверны и всей компанией вошли в просторное помещение, битком набитое людьми. Впереди у стены стояли огромные сосуды с вином и водой, на столах были расставлены яства.
Рабы, утомленные, с потными лицами, бегали от стола к столу и исполняли приказания посетителей. Стоял шум и неумолчный говор людей. Много новостей узнали Рутилий и его товарищи от посетителей таверны. Оказалось, что торжество заговорщиков было недолго. Когда Антоний, друг Цезаря, в своей речи, восхвалявшей убитого диктатора, сказал, что Цезарь завещал народу огромные богатства, толпа начала проявлять вражду против заговорщиков и едва не расправилась с ними по-своему.
Много ветеранов, войск и пролетариев стоит теперь за Антония. Сейчас он самый сильный человек в Риме. Говорят, что к Риму спешит молодой Октавиан, усыновленный Цезарем племянник, которому также достанется какая-то доля из оставшегося наследства.
С большим вниманием слушали путники удивительные новости. Они изумлялись смелости Антония, которого знали до сих пор как человека в высшей степени грубого, беспутного и не способного ворочать крупными делами в государстве. И что это за неведомый Октавиан? Что он принесет с собою в Рим?
Но не успели Рутилий и его товарищи закончить своей беседы, как послышались шум и крики. Дверь распахнулась, и присутствующее увидали, что небо окрашено красным заревом пожара. Рутилий и Лонг, покинув товарищей, быстро бросились к выходу и через городские ворота по темным улицам помчались туда, где на фоне темного неба, вспыхивая и разгораясь, свирепствовал огонь.
На некоторых улицах Рутилий и Лонг видели дома, окруженные вооруженными людьми, стоявшими на страже. Стража, по-видимому, ожидала нападения со стороны каких-то злоумышленников. Чем больше приближались к пожару, тем гуще и гуще становилась толпа, запрудившая все прилегающие к пожару улицы. Далее невозможно было пробираться. Стража выбивалась из сил, делая попытки копьями загородить путь новому потоку людей. Кругом слышен был шум, треск и крики. Рутилий и Лонг обратились к своему соседу, пожилому и мрачному человеку, стоявшему посредине улицы, с просьбой разъяснить, что за смятение происходит кругом и чей это дом горит.
Сосед сурово посмотрел на Рутилия и с видимой неохотой ответил: «Так будет всем, кто виновен в убийстве Цезаря, не поможет и стража, охраняющая дома: от огня не уйдешь…» В это время из соседней улицы послышались неистовые крики в связи с каким-то непонятным смятением. Рутилий с товарищем бросились стремглав туда и увидели, что навстречу им бежит какой-то молодой человек с бледным, искаженным от ужаса лицом, а за ним разъяренная толпа, вооруженная камнями, дубинами, кольями. В бежавшего бросали булыжниками и неистово кричали: «Смерть убийце, смерть заговорщику!» Молодой человек хотел повернуть в соседнюю улицу, но вдруг споткнулся обо что-то и упал. И в то же мгновение к нему подбежал человек со свирепым лицом и с рыжими, точно горящими на голове, волосами, и изо всей силы ударил упавшего дубиной; его примеру последовали и другие.
Потрясенный этой сценой, Рутилий бросился в самую гущу толпы, энергично прокладывая себе путь руками. Ему показалась знакомой фигура бледного человека, так трагически погибшего у него на глазах. Через минуту он стоял у тела распростершегося на земле юноши, наклонился над лицом его и вдруг закричал не своим голосом: «О боги, что они сделали, ведь это Цинна, поэт Цинна, которого я три дня тому назад встречал у брата…» «За что вы его убили?» – обратился с тоской в голосе Рутилий к окружающим. Все молчали. И только рыжий парень, помахивая окровавленной дубиной, сказал: «А зачем он убил Цезаря?» – «Да разве это он, – весь трясясь от гнева, вновь закричал Рутилий. – Это вовсе не тот Цинна, который был в числе заговорщиков!» С этими словами Рутилий склонился и припал к трупу безвременно погибшего юноши…

Марк Антоний
Люди стояли вокруг недвижимо, как изваяния, а рыжий парень вдруг побледнел и выронил из рук дубину.
Пламя пожара стало между тем потухать, и черная тень внезапно поглотила толпу людей, совершивших тяжкое преступление, в эту тревожную для Рима ночь.
VIII
Прошло полтора года. Осенью 127 года (от основ. Рима) при Филиппах (в Македонии) в последний раз республиканцы померялись силами с временщиками-триумвирами: М. Антонием, Октавианом и Лепидом. Двадцать восемь легионов триумвиров сразились против двадцати легионов Брута и Кассия. Борьба была неравная, и, кроме того, против молодых республиканских солдат сражались испытанные легионы Цезаря, жаждавшие богатой добычи от своих вождей.
Народ, измученный войнами и междоусобиями, остался безучастным в минуту гибели республиканцев. И неудивительно. Старая республика давала выгоды лишь аристократам, народу же восстановление прошлых порядков не сулило ничего хорошего. У многих мелькала мысль, что, быть может, при новых порядках положение простого народа улучшится, что возвратится наконец мир, который так давно и, казалось, безвозвратно покинул город…
Последняя ночь Цицерона
А. Васютинский
Темная ночь окутала густым покровом небольшую виллу, приютившуюся на берегу моря, недалеко от городка Астур. Словно немые караульщики, застыли вокруг стройные пинии. Море тихо плескалось вдали, и сквозь тревожный шум волн слышался заунывный напев рыбачьей песни: кто-то возвращался с улова домой в скромную хижину, отдохнуть возле трудолюбивой подруги в теплом семейном кругу, забывши о всех кровавых распрях грозного настоящего. Где-то порывисто и упорно лаяла собака, и тихо-тихо трепетали листы осторожно выпрямившихся деревьев, тесно обступивших изящно отстроенную виллу. Странно забелела в ночном мраке пустынная дорожка тенистого парка: тонкий луч света вдруг пробился сквозь густую листву. Засверкали тысячью блесток слезинки росы, покрывавшие прекрасное лицо статуи Гермеса, грустно и задумчиво смотревшего из густой листвы в темную даль. Но темный парк не спал: явственно слышались там и сям осторожные шаги, хрустевшие гравием, сдержанное покашливание, тревожный шепот людей, чего-то боявшихся, кого-то чутко охранявших.

Цицерон
А в маленькой комнатке, среди опрятно расставленных заботливой рукой свитков, освещаемый тусклым светом маленькой лампочки, тревожно ходил из стороны в сторону, нервно жестикулируя, старик, с крупной головой, на которой всклокочились давно уже не мытые волосы; худые, костлявые, тонкие пальцы поминутно отирали слезившиеся глаза, оставляя мутные, грязные следы на исхудалом лице, с характерным носом, крупными губами и мягким, почти срезанным, подбородком. Порывистым движением он запахивал старенькую тогу с широкой пурпурной каймой. Один из сапожков с серебряной застежкой давно уж, видно, просился в отставку, другой был новехонек…
Временами старик прилегал на сиротливо стоявшее около небольшого столика ложе, грязноватых подушек которого давно уже не касалась, видно, рука попечительной хозяйки или хлопотливой домоправительницы. Но, видимо, бог сна забыл о нем вовсе; он снова и снова вставал и продолжал возбужденно ходить по комнате, с тоской обращая свои взоры на стены, где безмолвно темнели ряды запыленных свитков, единственных свидетелей последних мучительных часов жизни знаменитого оратора Марка Туллия Цицерона…
«Один, один… – думал беспокойный старик. – Убийцы, верно, уж идут по дороге… Не стон ли то милого сердцу брата Квинта? Только что обнялись мы, быть может, в последний раз… Носилки с верными рабами унесли его в безопасное место… Но кто поручится за верность рабов теперь, когда все дрожат за свою жизнь и спешат получить награду от тирана – Антония! Где те честные, благомыслящие граждане, которые окружали меня, защищая своим телом, когда наглый Катилина хвалился приставить новую голову хилому телу римского народа, где мужи совета, искусные и почтенные своим авторитетом? Грубый воин, корыстолюбивый и жестокий, гордый слепой преданностью мятежных приспешников, забывши былое уважение к священному имени сената и народа римского, посмел грозить гибелью великим мужам, которые своей мудростью возвеличили республику!
Давно ли еще осыпали меня уверениями в теплой преданности республике, просили прислать списки речей против дерзкого похитителя власти, теперь лишь один мой верный Тирон, – по губам старика скользнула добрая, ласковая усмешка, – не боится хранить их у себя. Всегда он и душой, и телом был предан семье своего господина, даже тогда, когда еще не был отпущен на волю. Словно гений домашнего очага, неусыпно он заботился о всех нас. Где-то он теперь? Может быть, вновь изменило ему хилое тело и, больной, он мучается мыслью о том, что испытывает его любимый патрон?»
Внезапный сильный стук и лязг заставили старика встрепенуться. Нервная дрожь охватила его: «Пришли убить отца отечества, Марка Туллия Цицерона, императора…[14]14
Цицерон очень гордился титулом «император», которым провозгласили его солдаты во время наместничества,
[Закрыть] – бормотали дрожавшие бледные губы. Он тревожно прислушался. – Нет! Все тихо. Раб-караульщик спросонок, видно, уронил свой меч. Любят они своего доброго и снисходительного господина. Не один бы с радостью пожертвовал своей жизнью, чтоб отдалить роковой час. Не то что родные… близкие. Да и сколько их осталось? Буря междоусобных войн всех разметала. Один сын Марк остался, – шепчет про себя старик, снова принимаясь ходить по узенькой комнате, – да и тот едва ли сейчас думает о старике-отце. Прочел ли он книги “об обязанностях”, которые, с любовью думая о нем, писал для него старик-отец? Едва ли. Он любит жить веселой жизнью изо дня в день, как некогда прихотливый щеголь, кутила Целий[15]15
М. Целий Руф, даровитый оратор, друг Цицерона, рано погибший.
[Закрыть]. Любит шумные попойки с угодливыми риторами-греками, которые рады потакать всякому вздорному слову молодого повесы. Но не быть ему хорошим оратором, далеко до красавца Целия, который умел найти наслаждение и в чтении Гомера, и в шумной попойке, с друзьями; этот блестящий ветреник, остроумный оратор и ловкий интриган давно уже, – думал Цицерон, – сложил свою голову и спит мирным сном в безвестной долине Лациума, где беспокойный ум побудил его поднять восстание против коварного Юлия Цезаря. Вот война – по душе молодому Марку; быть может, выправит мальчика суровый Брут, к которому послал его отец, на прямую дорогу, достойную предков и отечества…»
И вновь горькая усмешка прошла по сморщенным устам старика. Он остановился, поспешно налил себе кубок вина из небольшого кувшина, стоявшего пред ним на столике.
«О Брут! Холодный, мудрый Юний Брут! Не он ли призывал его, Цицерона, тотчас после убийства тирана (Цезаря), а потом, когда он последние силы свои потратил, чтобы зажечь священный огонь ненависти к дерзкому Антонию в трусливых душах отцов-сенаторов, какие письма, полные упреков в нерасчетливой, неблагоразумной политике, слал этот дружественнейший человек?»
И страшная догадка вдруг молнией озарила ослабевшую голову старика: «Не был ли он лишь игрушкой, орудием в руках этих холодно-расчетливых или безумно-честолюбивых людей, которые пользовались лишь его авторитетом, славой его имени, чтобы позолотить свою неспособность и убожество своей политической мысли? Так! Как искусно льстили ему, старались выведать от него приемы ораторского искусства, какие приветливые послания писали ему и этот перебежчик Планк, и этот изменник республике Азиний Поллион и… – мутная слеза медленно поползла по морщинистой щеке… – молодой наследник тирана Цезарь Октавиан… Не он ли называл старого Марка Туллия отцом, учился у него красноречию, спрашивал ежедневно советов и указаний, а теперь… Говорят, с его одобрения поставлено имя бывшего его “отца” в списке тех, кого всякий может убить, как человека, опасного для отечества. И Лепид, позолоченную статую которого он, Цицерон, советовал поставить на форуме, также присоединил свое имя к именам дерзкого Антония и вероломного молодого Цезаря…»
«Где же искать убежища для древней доблести? – чуть не вскрикнул несчастный старик. – Где вы, боги-мстители? Или правда, что вам нет дела до людских распрей и вы наслаждаетесь безмятежным покоем?..»
Измученный, он прилег отдохнуть. Покрасневшие веки смежились. Треща, мерцала светильня в выгоравшей лампаде, и комната наполнялась запахом прогорклого горелого масла.
Вдруг спавший порывисто поднялся и, простирая руки в полумраке, стал звать свою любимую маленькую Туллию. Только что она привиделась ему такой, как когда-то, много лет назад, тоненькой кроткой девочкой приникла к нему, пытливо слушая занимательный повести о похождениях хитроумного Одиссея и скитальца Энея. И она одна пришла из мрака Аида, чудилось одинокому старику, чтобы утешить своего отца и учителя, и легкой тенью скрылась из его объятий, подобно тени Патрокла, убегавшей от божественного Ахилла.
Воображение быстро рисовало ему одну картину за другой былой любовной заботы о нем единственной дочери. Не она ли была его гением-хранителем в тяжелых ссорах с сварливой и ревнивой матерью Теренцией, не она ли, забывая свои личные горести, и печаль раннего вдовства, и горькое разочарование во втором супруге, распущенном повесе и моте, заботилась об отце, как о большом, наивном ребенке? «Маленькая моя Туллия», – ласково шептали поблекшие губы. «И ей он не дал счастья, – подсказывал тайный голос. – Не советовали ли ему друзья выдать бедняжку за незнатного, но добродушного всадника, который лелеял бы и берег ее хрупкую, нежную душу. А он, Цицерон, непременно хотел породниться сперва с знатным Пизоном, потом с Корнелием Долабеллой, которые не дали молодой женщине ни покоя, ни счастья. Но не он один виновен, – старался заглушить голос совести старик, – а скорее мстительная и алчная Фурия – жена Теренция: с хитрой расчетливостью она обсчитывала и мужа, и дочь, лихоимствовала с преданными ей вольноотпущенниками и брала взятки с клиентов, в которых не было недостатка у красноречиваго и популярного ходатая по судебным делам… «И этот негодный вольноотпущенник Филотим, – злобно усмехнулся старик, – как ловко помогал он ей подводить фальшивые отчеты… Пришлось развестись с ней и заплатить ей, сколько она хочет, лишь бы покончить с позорной и гадкой жизнью простака-мужа из народной комедии». И все более и более увлекался старик, осуждая других и забывая, что сам он всю жизнь свою увлечен был честолюбивой эгоистичной мыслью о себе и собственной славе… Губы его нервно передернулись: он вспомнил, как женился уже шестидесятилетним стариком на молодой восемнадцатилетней девушке, дочери своего вольноотпущенника. Ничего, кроме горя, не принес этот вторичный поздний брак. Злая Ата[16]16
Злая дочь Зевса и Эриды, ослепляющая людей и толкающая их к неразумным поступкам.
[Закрыть] ослепила его блеском богатого приданого в минуту расстройства денежных дел, старался оправдать себя он, вспоминая немногие тяжелые часы, проведенные со второй женой, которая тоже рассчитывала, несмотря на свою молодость, занять видное положение среди знатных римских матрон как жена знаменитого оратора… Как смеялись друзья над ним! Даже его верный испытанный друг Аттик не преминул послать ему укоризну.

Римлянин, читающий свиток
Но тихой радостью засветился взор старика, когда он перевел взор свой на смутно выступавшия в полумраке рукописи своих речей и философских трудов: с грустью подумал он о тех немногих счастливых днях, когда, избитый треволнениями бурной политической жизни, он уходил в мир светлой мысли беседовать с тенями великих мудрецов далекого и недавнего прошлого. Да, счастлив был мудрый в своей расчетливости его друг Помпоний Аттик, рано ушел он из бурной жизни политических распрей и зажил жизнью усердного поклонника Муз. Цицерон усмехнулся, вспомнивши, как усердный почитатель Эпикура, Аттик, угощал своих друзей скромным обедом и изысканным литературным десертом, как он, выдавая себя за поклонника изящных искусств, сумел скупить задешево большие земли в Эпире, приобрести немало доходных домов в самом Риме. Выказывая безразличие к политике, он, однако, умел сделаться своим человеком у каждого выдающегося политического деятеля. Со всеми великими людьми ласковый, всем необходимый, он ловко взимал проценты с самых неоплатных должников. Один лишь город Сикион сумел провести его и не уплатил своего долга, и с Антонием он в переписке, и его жене Фульвии ссужал по дружбе немалые суммы.
С горечью вспоминал старый оратор, как этот ласковый услужливый друг, сговорчивый кредитор, теперь замолчал и не шлет ни вестей, ни тем паче посылок. «Осторожный человек! И в политику он не вмешивается, и всем друг и приятель. И эти ведь гермы[17]17
Особый вид скульптуры. – Примеч. ред.
[Закрыть] и Геркулеса мраморного добыл он, Аттик, для него, Цицерона, и библиотекаря своего искусного прислал, чтоб разобрать и расставить свитки в порядке…» «О многоопытный Одиссей! Выберется он невредимым и из пещеры самого Полифема, да и тому сделается необходимым другом; всего себя отдал искусству, слывет философом, хотя в угоду другу готов отказаться и от главных истин своей философии, но лишь в беседе с глазу на глаз…» «А стрясется политическое ненастье, нечего просить у него помощи – не дождешься ни слова! Когда буйный Клодий добился от народа изгнания Цицерона из Италии, не писал ли Марк Туллий слезных писем Аттику, не звал ли его приехать помочь, утешить, ободрить?.. Обещался мягкоречивый Помпоний, обещался, но так и не приехал… Зато прислал из своей книжной лавки прекрасные издания речей своего друга».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?