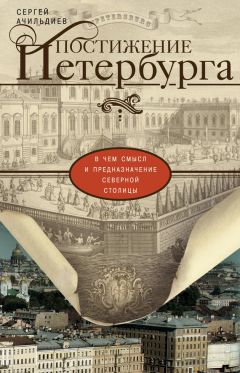
Автор книги: Сергей Ачильдиев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ещё один современный исследователь, Ольга Агеева, многие работы которой без всякого преувеличения могут считаться серьёзным вкладом в изучение петровской эпохи истории Петербурга, обратилась ещё к одному архивному документу – «Ведомости о прешпективной дороге», «поданной подполковником Путиловым в 1717 г. на основе справки из Санкт-Петербургской канцелярии». Историк выписала из «Ведомости» число умерших при строительстве будущего проспекта: 27 душ. Затем это количество экстраполировала на ту смертность, которая могла быть при строительстве всего города в 1703–1715 годах. В итоге получилось 1932 человека, в среднем около 150 ежегодно [4. С. 301–302]. И это в России, где человеческая жизнь всегда ничего не стоила, а чудовищные искажения отчётности считались непреложным правилом и на мёртвых душах как по чичиковской, так и по другим, куда более примитивным схемам зарабатывали все, кому не лень! Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: смертность рабов, живших в тяжёлом климате, в примитивных бараках и шалашах, плохо питавшихся и не знавших медицинской помощи да к тому же занятых на тяжелейших работах от темна до темна, никак не могла соответствовать, по сути, санаторным нормам.
Да и зачем заниматься сомнительными расчётами, если есть документы, наглядно доказывающие, каково было реальное положение дел? Вот одна из записок первого петербургского губернатора Александра Меншикова, которую он послал в 1716 году кабинет-секретарю царя Алексею Макарову: на строительстве Петергофа и Стрельны «больных зело много и умирают непрестанно, из которых нынешним летом больше тысячи померло». А в конце просьба – не сообщать Петру Алексеевичу сей прискорбный факт, «понеже, чаю, что и так неисправления здешние Его царское величество не по малу утруждают» [6. С. 15]. «Больше тысячи померло», и – концы в воду! А вот ещё один широко известный факт: на возведении Ладожского канала, начавшемся в 1718 году, смертность была настолько чудовищна, что вскоре все окрестности превратились в сплошной погост и руководивший работами Бурхард Миних в конце концов приказал снести все кресты, боясь, как бы рабочие не разбежались при виде этой зловещей картины.
Даже после того, как в том же 1718-м с подачи обер-комиссара Петербурга князя Алексея Черкасского, который сумел убедить Петра, что рабский труд обходится дороже вольнонаёмного, людская развёрстка по городам начала сокращаться и в 1721-м натуральная трудовая повинность была окончательно отменена, – даже после этого «без каторжников, военнопленных, солдат, работных команд из крестьян, мастеровых “вечного житья" стройка не обходилась…» [7. С. 125].
…Предельно кратко аттестовал деятельность Петра русский историк Александр Кизеветтер: террор [25. С. 635]. Именно такой виделась первая четверть XVIII столетия не только с высоты позднейших времён, но и в сравнении с предыдущим царствованием – Алексея Михайловича. Тогда смертная казнь была предусмотрена в 60 статьях российского законодательства, а при Петре I – в 90; и это не считая множества петровских указов, которые за малейшее прегрешение тоже карали смертью. В течение 26 лет правления «тишайшего» царя Алексея по политическим делам было репрессировано несколько сотен человек, а за петровские 36 лет (фактически 29) – свыше 60 тысяч. При Алексее об уменьшении жителей страны и речи быть не могло, в результате же петровских преобразований исчезла минимум пятая часть тяглого населения – две трети погибли, а ещё 200 тысяч (по официальным, а значит, далеко не полным данным 1720-х годов) находились в бегах. Многие бежали и с петербургской стройки. Вот ещё одно документальное свидетельство, которое приводит Пётр Столпянский: «А которые работные люди были на Тосне реке, ныне все разбежались…» [30. С. 39].
В общем, как говаривал шут матери маленькой девочки Анны, племянницы Петра и будущей царицы Анны Иоанновны, «нам, русским, хлебушка не надо, мы друг друга поедом едим» [1. С. 93].
Параллельные заметки. По иным источникам, примерно то же говаривал петербургский юродивый первой половины XVIII века Тихон Архипович: «Нам, русским, не надобен хлеб; мы друг друга едим и с того сыты бываем» [14. С. 473]. Позже это присловье стали приписывать Артемию Волынскому, современнику Анны Иоанновны [17. С. 108]. Скорей всего, и историческая легенда, и выдающийся историк не грешат против истины, приписывая схожее высказывание разным людям. Видимо, то была народная поговорка, которая запомнилась на века, ибо чуть не в каждую эпоху сохраняла свою актуальность.
Что же касается упорного нежелания апологетов Петра I признать, что в первой четверти XVIII века Петербург строился ««на костях человеческих», то оно чаще всего продиктовано псевдопатриотизмом, для которого факты массового убийства властями своего народа или чужого (достаточно вспомнить многолетнее нежелание подтвердить ответственность советского режима за Катынскую трагедию) – не что иное, как очернение отечественной истории. Но История имеет настолько почтенный возраст, что румяна ей не нужны, они её лишь уродуют. Если нация, вместо того чтобы выучить исторический урок, пытается делать вид, будто такого урока вовсе и не было, История в отместку наказывает весь народ повторением прошлого.
И ещё один вопрос: каким же образом петровское душегубство могло сочетаться с воззрениями Лейбница и его учеников на всемирную гармонию и всемерную заботу государя о своих подданных? Оказывается, могло, и очень успешно, поскольку Лейбниц в своём труде «Теодицея» (1710) писал, что «зло зачастую помогает заставить больше любить благо, а иногда способствует усовершенствованию того, кто его терпит: так посеянное в почву зерно подвергается чему-то вроде разложения для того, чтобы прорасти» [27. Т. 3. С. 292]. Конечно, многие строители «парадиза» умирали, так и не достигнув ни усовершенствования, ни блага, но ведь и при самом богатом урожае прорастают далеко не все зёрна.
* * *
К концу царствования Петра I Петербург стал вторым по численности населения городом России после Москвы. В нём жили, как пишет большинство историков, 40 тысяч человек, а по расчётам Евгения Анисимова – даже 70–80 тысяч [7. С. 363]. Город простирался от Васильевского острова до Охты на 14 километров, а от Фонтанки до Карповки на 11.
Официальные лица не уставали восхищаться новой столицей. Обер-иеромонах Балтийского флота Гавриил Бужинский, обращаясь к Петру, воспевал её чуть не как ещё одно чудо света: «Богу поспешествующу прекрасными зданиями украшенный, паче же всему тебе собственно, яко премудрейшему и первейшему его зодчему начало свое долженствующий… Всякое зрение к себе восхищающий превесёлый удивительныя красоты исполненный… вертоград, художественными водомётами орошаемый, всякими иностранными древами, при исходищах вод насажденными и плоды во время свою дающими, обогащенный, цветами преизрядными испещренный, столпами драгокаменными прославленный» [3. С. 58].
Однако в неофициальной обстановке нередко те же люди говорили совсем иное. «В своём сочинении о России переводчик прусского посольства в Петербурге И.Г. Фоккеродт с удивлением замечал, что “похвалы в общественных беседах” преобразованиям Петра I сменяются у русских “другой песней”, “если имеешь счастье коротко познакомиться с ними и снискать доверенность”» [3. С. 70–71]. По свидетельству того же Фоккеродта, «ненависть… к нему (Петербургу. – С. А.) русских так велика, что они никогда не завели бы там значительной торговли, если бы только это было в их руках.» [3. С. 70–71].
Причина этого чувства объяснялась не только и, возможно, даже не столько тем, что тысячи людей приехали и оставались здесь не по своей воле. Жить в этом климате и сырости было неимоверно тяжело. Ф. В. Берхгольц отмечал, что «квартиры в петербургских домах – мучение: “под моею спальнею – болото, отчего полы, несмотря на лето, никогда не были сухими”, половицы покрыты каёмкой плесени, и дамы в каблуках непременно проваливались бы в щели.» [7. С. 403]. Но главное – с самого начала Петербург строился не для его жителей. Улицы и «перш-пективы» в невском «парадизе» были прямы, словно стрелы, дома, почти сплошь спроектированные по единому образцу, стояли, будто солдаты в строю, площади для воинских смотров были огромны, как сама Россия. Это был город не для людей, это был памятник державному всемогуществу и распланированному порядку. И глубоко символично, что сердцем этого чудо-города стала крепость-твердыня: самое первое строение, которое почти сразу превратилось в политическую тюрьму и усыпальницу.
Этот город возводился во имя идеи, которую должен был олицетворять, – идеи величия и мощи государства. Он с самого начала являлся фасадом империи, демонстрацией российской европейскости и готовности как торговать со Старым Светом, так и воевать с ним.
Вот две исчерпывающе краткие и почти одинаковые оценки, определяющие суть северной столицы России. Одна принадлежит американской исследовательнице Катерине Кларк: «…“Петербург” никогда не был только образцом современного города – он всегда был также системой символов. Строительство города было политическим жестом, предназначенным не только для того, чтобы принести ещё большую славу Петру и его преемникам, но также для того, чтобы утвердить модель нового социополитического и культурного порядка, который он установил» [18. С. 139]. А вот схожее мнение российского учёного Константина Исупова: «Петербург – осуществлённая утопия. Это город-эксперимент, будущая модель всего государства» [15. С. 8].
Модель, которую внедрил Пётр I на невских берегах, существует до наших дней: государство первично, а народ вторичен, власть всегда лучше подданных знает, что им хорошо, а что вредно, процветание страны не в народном благоденствии, а в реализации уникальных и крайне дорогих мегапроектов – будь то самые роскошные в Европе дворцово-парковые ансамбли, циклопические гидроэлектростанции или крупные города в зоне вечной мерзлоты. И первым таким мегапроектом в современной российской истории стал Петербург – самый дорогой памятник деспотизму российской власти; дорогой не только по деньгам, но и по жизням человеческим.
Литература
1. Занимательные рассказы из русской истории (XVIII век). М., 2000.
2. Санкт-Петербург: Автобиография / Сост. М. Федотова, К. Королёв. М.; СПб., 2010.
3. Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градов на свете» – град святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999.
4. Агеева О.Г Петербургские слухи (К вопросу о настроениях петербургского общества в эпоху петровских реформ) // Феномен Петербурга. СПб., 2000.
5. Анисимов Е. Время петровских реформ. Л., 1989.
6. Анисимов Е. Первейший зодчий: Таинство рождения Санкт-Питербурха // Родина. 2003. № 1.
7. Анисимов Е.В. Петербург времён Петра Великого. М., 2008.
8. Анциферов Н.П. «Непостижимый город…». Л., 1991.
9. Богуславский Г.А. 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
10. Брикнер А.Г История Петра Великого. М., 1991. (Репринт изд. 1882 г.)
11. Ваксер А. Ленинград послевоенный. 1945–1982 годы. СПб., 2005.
12. Дашкова Е.Р. Записки. М., 1990. (Репринт изд. 1859 г.)
13. Длуголенский Я.Н. Век Анны и Елизаветы. Панорама столичной жизни. СПб., 2009.
14. Душенко К. Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших дней: Справочник. М., 2005.
15. Исупов К.Г. Диалог столиц в историческом движении // Москва – Петербург: pro et contra / [Сост. К.Г. Исупов]. СПб., 2000.
16. Карамзин Н.М. О древней и новой России в её политических и гражданских отношениях // Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991.
17. Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. Ростов н/Д, 1997.
18. Кларк К. Москва и Петербург в тридцатые // Санкт-Петербург: окно в Россию. Город, модернизация, современность: Материалы международной научной конференции. Париж, 6–8 марта 1997. СПб.,1997.
19. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекци: В 3 т. Т. 3. Ростов н/Д, 2000.
20. Кошелева О. На вечное жительство: Как заселялась северная столица // Родина. 2003. № 1.
21. Мавродин В. Основание Петербурга. Л., 1983.
21а. Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России. Исследования и архивные находки. М., 1995.
22. Межиров А. Стихотворения. М., 1973.
23. Мережковский Д.С. Не мир, но меч. Харьков-М., 2000.
24. Мотрэ О. де ла. Из «Путешествия…» // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
25. Поляков Л.В. Россия и Пётр // Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2001.
26. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1962–1966.
27. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 3 т. СПб., 1996.
28. Семенцов С.В. К истории градостроительного осознания Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века // Петербургские чтения: Научная конференция, посвящённая 290-летию Санкт-Петербурга, 24–28 мая 1993 года: Тезисы докладов. Выпуск 1. СПб., 1993.
29. Синдаловский Н.А. Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб., 2008
30. Столпянский П.Н. Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх. М., 2011.
31. Юхнёва Е.Д. Петербургские доходные дома: Очерки из истории быта. М., 2008.
Пётр Первый. Кровь вторая
…и смотрели с восторгом арап,
и татарин, и выкрест:
– Ах, какой он простой!
– Ах, какой замечательно свой!
– До чего ж потрясающе наш!
Одним словом, антихрист.
Николай Голь
Почему северный демиург строил на берегах Невы европейскую столицу, а выросла столица тоталитаризма
Когда в устье Невы ещё возводились первые здания, Пётр уже писал указы, предусматривающие плановую застройку также и Москвы (эти указы в апреле 1728 года отменил Верховный тайный совет, правивший при малолетнем Петре II). Северному демиургу не терпелось распространить градостроительные принципы будущей новой столицы по всему своему царству.
Петербург – концептуальный город, и рождался он как образец всей будущей России. Каков будет этот образец, можно было догадаться уже по тому, что возводилась новая столица преимущественно рабским трудом. Здесь, на берегах Невы, вырастал не просто регулярный город, а прообраз регулярной страны, в которой всё следовало устроить правильно, по науке – рационально, чётко и эффективно. Чтобы всё и вся было на своём месте, работало по раз и навсегда заведённому порядку, подобно тому, как устроены небесная механика или рукотворный механизм. И всё это во имя главного божества – Государства.
«До <Петра>, – писал Василий Ключевский, – в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с лицом государя… Пётр разделил эти понятия, узаконив присягать раздельно государю и государству. Настойчиво твердя в своих указах о государственном интересе, как о высшей и безусловной норме государственного порядка, он даже ставил государя в подчинённое отношение к государству, как к верховному носителю права и блюстителя общего блага. На свою деятельность он смотрел как на службу государству, отечеству <…> Самые эти выражения государственный интерес, добро общее, польза всенародная едва ли не впервые являются в нашем законодательстве при Петре» [26. Т. 3. С. 72]. Именно при Петре государство начало превращаться в молох. В том же XVIII веке, при Екатерине II, «петровское понятие “пользы отечества" окончательно приняло форму официального, имперского патриотизма, который, как и национальное самосознание, нуждался в истории для воссоздания исторической преемственности, то есть самого права на империю» [25. С. 389]. С тех пор и по настоящее время почти все российские правители провозглашали государственный интерес в качестве главного условия всенародной пользы и блага. По крайней мере на официальном уровне.
Современный историк Евгений Стариков так охарактеризовал политические воззрения первого российского императора: «Идея о том, что вне государства есть ещё какая-то Россия, казалась Петру бредовой. И уж никак не могла прийти в его голову мысль, что государство должно служить России, а не наоборот» [43. С. 302]. То, что так считал первый российский император, а затем и его последователи – это, как говорится, ещё полбеды. Истинная беда в том, что со временем точно так же стало думать и большинство российского народа.
…Точильный камень в токарном станке вращается с помощью приводного ремня. В государственном механизме, по мнению Петра, ту же ведущую роль должны выполнять армия, чиновники и полиция вкупе с политическим сыском. Эти «приводные ремни» полностью определили лицо и дух Петербурга не только в петровские времена, но и в дальнейшем, вплоть до тех пор, когда он перестал быть столицей. А затем тот же характер обрела советская Москва.
Параллельные заметки. Фёдор Достоевский назвал Петербург «умышленным» городом. Это определение часто повторяют, вкладывая в него упрощённый смысл – город, выстроенный по замыслу. А ведь, по Словарю Владимира Даля, таково значение лишь глагола «умыслить», тогда как существительное «умышленье» имело куда более грозный смысл и употреблялось обычно с прилагательными «злое» и «вражье».
* * *
Побывавший на невских берегах в 1839 году французский маркиз Астольф де Кюстин аттестовал Петербург коротко и ёмко: не то «военный лагерь, превращённый в город», не то «штаб-квартира армии» [28. С. 80, 140].
И действительно, с самого основания доминантными здесь всегда являлись постройки, так или иначе связанные с войной или предназначенные для военного ведомства: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Преображенский, Измайловский и прочие полковые соборы, казармы, занимающие по несколько кварталов, манежи для конной выездки, огромный и величественный Главный штаб, военные учебные заведения… И основу городской промышленности изначально составляли, выражаясь современным языком, предприятия ВПК: кораблестроительные верфи (помимо того же Адмиралтейства – Скампавейная, Галерная, Охтинская), Смольный двор, на котором хранилась корабельная смола и вываривался дёготь, Литейный пушечный двор, пороховые заводы (причём не только в районе Ржевки, но и на Петербургской стороне, ведь Большая Зеленина улица своим названием обязана не зеленщикам, а «зелью», как тогда назывался порох), Сестрорецкий оружейный завод и многие другие.
Если сегодня с улиц, набережных и площадей Петербурга мысленно убрать все здания, сооружения, памятники, в какой-либо мере связанные с военным производством, подготовкой военнослужащих, военными победами, управлением войсками и проч., город вмиг потеряет своё прежнее лицо и, больше того, превратится в полупустыню.
Не только здания и сооружения – сам дух, который вдохнул в свою столицу северный демиург, был глубоко милитаризован, и петровские наследники его лишь приумножали. «Русский государственный строй, – писал де Кюстин о Петербурге Николая I, – это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства» [28. С. 75]. Конечно, вооружившись патриотическим усердием, в книге А. де Кюстина «Россия в 1839 году» можно выискать немало предвзятостей, ошибок, непонимания отдельных сторон российского бытия. И многие отечественные критики занимались этим с превеликим удовольствием. Но с принципиальными выводами маркиза, которые он сделал в связи с увиденным в Петербурге, нельзя не согласиться. Эта картина до боли знакома и нам: по сегодняшней жизни – лишь частично, но по советской-то – в полной мере.
Параллельные заметки. Астольф де Кюстин был убеждённым монархистом и в Россию приехал, чтобы на её примере убедиться в благотворности именно этого способа государственного управления. Однако вместе с тем маркиз имел отличное зрение и был трезво мыслящим человеком. Апофеоз самодержавия, с которым он столкнулся в Петербурге и Москве, поразил маркиза настолько, что он написал книгу, которая по сей день может служить катехизисом антимонархиста. Эти записки имели бешеный успех: они были переведены почти на все европейские языки и, по подсчётам современного историка Сергея Мироненко, их общий тираж достиг 200 тысяч (!) экземпляров [32. С. 268].
В иные времена военные составляли до четверти всех жителей северной столицы. Но это вовсе не ослабляло присутствие войск в приграничных районах или на других территориях государства. К концу правления Петра вооружённые силы России насчитывали «210 тысяч регулярных и 110 тысяч вспомогательных солдат (казаков, иноземцев и т. д.), а также 24 тысячи моряков. В отношении к населению… военная машина такого размера почти втрое превышала пропорцию, которая считалась в Европе XVIII в. нормой того, что способна содержать страна, а именно одного солдата на каждую сотню жителей [37. С. 170].
Необычайно высокая концентрация армейских полков в северной столице ни в коей мере не была продиктована необходимостью её защиты от какого-либо врага. Армия являлась многофункциональным институтом: помимо участия в войнах и парадах, в её задачи входили охрана царствующей особы и наиболее важных объектов, поддержание порядка и подавление народных бунтов, выполнение тяжёлых строительных работ (с «лёгкой» руки Петра русский солдат до самых недавних дней оставался дармовой рабочей силой).
Из 36 лет своего правления Пётр I провоевал 28 – с турками, шведами, персами, не говоря постоянной войне с собственным народом. Но для Старого Света той эпохи это не было чем-то необычным. Тем не менее в сравнении с императорами и королями европейских государств, русский царь не отличался особой воинственностью. «Дело в другом. Пётр был убеждён, что армия – наиболее совершенная общественная структура, что она – достойная модель всего общества» [6. С. 203]. Более того – возможно, самая достойная, имеющая «первостепенное значение для благополучия всякой страны» [37. С. 169].
Однако и в этой самой совершенной структуре создаваемого государства Пётр выделил ещё более совершенную, а главное, надёжную – гвардию (Преображенский и Семёновский полки), наделив её исключительными полномочиями. Он поставил гвардию над всей системой управления страной и подчинил себе напрямую.
Это был государственный кулак, во сто крат страшней царской палки. «В 1706 году к фельдмаршалу Шереметеву, главнокомандующему русской армией, направленному для подавления астраханского восстания, приставлен был в качестве личного представителя государя гвардии сержант Михайло Щепотев, – рассказывает историк Яков Гордин. – Щепотев получил по указу Петра очень большие полномочия. “Что он вам будет доносить, извольте чинить", – наказывал царь фельдмаршалу. И не главнокомандующий, а гвардии сержант пользовался полным доверием царя. Гвардии сержанту вручалось право “смотреть, чтоб всё по указу исправлено было, и буде за какими своими прихоти не станут делать или станут, да медленно, – говорить; а буде не послушают, сказать, что о том писать будешь ко мне”» [17. С. 85–86]. И на заседаниях Сената тоже сидел свой гвардеец, который в силу собственного безграмотного разумения внимательно следил, как да о чём говорят господа сенаторы и, если что не так, извещал о сём государя.
Параллельные заметки. Через две сотни лет большевики с той же целью ввели институт комиссаров. Сперва они приглядывали за военспецами (кадровыми офицерами старой Российской армии, пошедшими или насильно угнанными на службу в РККА), потом – и за выпускниками своих же, советских, военных училищ и академий, а в дальнейшем – за директорами предприятий, вузов и НИИ, даже крупных государственных ведомств.
Однако институт комиссаров, ограниченный в своих устремлениях партийными и кагебистскими силами, ни разу на протяжении советской эпохи не сумел обрести всевластия, да и не посягал на такое. А вот гвардия после смерти Петра и до самого конца XVIII века, лишённая сдержек и противовесов в лице упразднённых первым императором каких бы то ни было представительных структур, не раз де-факто оказывалась главной в государстве. Гвардейцы убивали тех царей, которые были им неугодны, и ставили других, по их мнению, более подходящих для роли «помазанника Божия». Делать это им было тем проще, что Пётр к тому же десакрализовал российскую власть – кто ж не видел царя и в работе, как простого плотника, и в пьяных загулах? ««Этот “гвардейский парламент”, сам принимавший решения и сам же их реализовавший, был, пожалуй, единственным в своём роде явлением в европейской политической истории…» – резюмирует Яков Гордин [16. С. 124].
Те, кто не носили военного мундира, носили чиновничий. За время своего правления Пётр увеличил число чиновников вчетверо. В общем-то, сам этот факт вполне закономерен. На исходе XVII века число приказных в Москве составляло около трёх тысяч, что для страны с 12-миллионным населением было явно маловато. Но смысл петровской реформы государственного аппарата состоял не просто в увеличении чиновников и качественном совершенствовании их деятельности. Пётр изменил саму природу государственного управления, превратив чиновничество в новый, невиданный до тех пор в России класс – не просто властную, а всевластную вертикаль.
Введённая в 1722 году Табель о рангах закрепила эту 14-ступенчатую государственную пирамиду и к тому же придала ей явно выраженный военизированный характер, поскольку отныне гражданский чин каждого класса чётко соответствовал чину военному. А поскольку свобода предпринимательства и лиц независимых профессий (врача, юриста, учёного, деятеля искусства) была ограничена до минимума, фактически любая карьера оказалась связанной с государственной, то есть военной или чиновничьей, службой. И неудивительно, что в этих условиях чиновничество мгновенно превратилось в непомерно разрастающуюся структуру. К временам Екатерины II оно увеличилось в три раза, а к концу правления Николая I – ещё в шесть раз; при этом и в одном, и в другом случае население страны вырастало лишь вдвое. Всю эту систему чиновничьего государства коротко и точно охарактеризовал в своём личном дневнике профессор Санкт-Петербургского университета Александр Никитенко: «В России не служить – значит не родиться. Оставить службу – значит умереть» [35. Т. 2. С. 245].
По сути, Пётр осуществил бюрократизацию России. Уже при нём чиновники быстро и навсегда стали самыми ненавидимыми. Кровавое семя, бумажная душа, канцелярская крыса – как только ни обзывал чиновников народ! Но эта ненависть очень многим нимало не мешала самим мечтать о государевой службе. Да, принадлежность к этой властной вертикали означала неминуемое пресмыкание перед вышестоящими, однако она же гарантировала возможность повелевать не только нижестоящими, но и всеми, кто не принадлежит к чиновной корпорации. Зачастую даже графы и князья зависели от какого-нибудь чиновника средней руки, ибо он решал, как двинется нужная им бумага из канцелярии на самый верх.
Принято считать, будто в бюрократическом государстве чиновники являются хозяевами страны. Если бы так! Хозяева берегут и приумножают свою собственность, тогда как бюрократия ведёт себя, словно завоеватель, неустанно грабя и разоряя страну и её жителей. Фактически благодаря Петру I Россия получила в лице огромной чиновничьей армии второе монгольское иго. Вот уже триста с лишним лет мы платим постоянно растущую дань нашей ненасытной бюрократии, которая держит в постоянной нищете и Россию, и российский народ.
Коррупция, словно ржавчина, с самого начала разъедала создаваемую Петром государственную систему. Причём мздоимство и казнокрадство процветали даже среди высших сановников. Почти все приближённые царя – и те, кто обладал богатством до него, и те, кто был обязан своим состоянием исключительно царю, – брали огромные взятки и воровали. Правая рука императора, Алексашка Меншиков, вознёсшийся – в прямом смысле слова – из грязи в князи, да к тому же «светлейшие», в считаные годы стал самым богатым человеком не только в России, но и во всей Европе.
Пётр, при виде ужасающих масштабов такого бедствия, создал специальную систему контроля, расправлялся с преступниками немилосердно, не жалел даже иных близких соратников. Однако ничто не помогало. В 1722 году царь вынужден был казнить даже Алексея Нестерова – обер-фискала, назначенного, чтобы бороться с воровством, и в итоге обвинённого в масштабных злоупотреблениях. За малейшее прегрешение канцеляристов по всей стране пороли регулярно и прилюдно – в Петербурге под окнами канцелярий на Троицкой площади и коллегий на Васильевском острове. В 1721-м тело казнённого за воровство губернатора князя Матвея Гагарина несколько месяцев висело напротив того же здания коллегий, дабы всякий, едва глянув в окно, мог хорошенько запомнить, что его ждёт за кражу государственной собственности.
Однако, что бы Пётр ни предпринимал, коррупция продолжала расти, намного обгоняя рост и государства нового типа, и новой столицы.
Парадокс, но преступным путём, не останавливаясь перед возможным жесточайшим наказанием, чиновный люд обкрадывал то, что сам же, по велению царя, и строил! Это противоречие ставило в тупик многих иностранцев. В действительности причина, как это обычно бывает, крылась не в самих коррупционерах, а в системе. Государство всегда было вотчиной царя, а для всех прочих, включая чиновников высшего ранга, оно оставалось чужим.
Когда страна живёт не по законам, защищающим граждан и их собственность, а по понятиям, которые то и дело меняются в зависимости от прихоти верховного правителя, – у каждого, от крепостного крестьянина до высшего сановника, укореняется подсознательное ощущение скоротечности всего происходящего, неверие в своё будущее и стремление жить только нынешним днём. Отсюда, в частности, неуёмная, ничем не сдерживаемая жажда обогащения: действуй сейчас – завтра или царь, или тот, кто сильней тебя, отберет, всё, что у тебя есть, а не то и саму твою жизнь. В этих условиях понятия порядочности, чести и достоинства, совести, морали, нравственности – всё это превращается в химеры, вызывающие у большинства пренебрежительную ухмылку.
Параллельные заметки. Пётр считал, что на самом деле порок скрыт не в созданной им системе, а в человеческой природе. Над наивностью царя, его непониманием взаимоотношений человеческой психологии и социального устройства можно было бы посмеяться. Но вот аналогичный исторический факт, имевший место спустя двести лет: Ленин, столкнувшись с теми же проблемами при строительстве своей, ещё более жёсткой государственной системы, самым серьёзным образом упрямо пытался развивать РАБКРИН – Рабоче-крестьянскую инспекцию, которая, как он свято верил, должна навести порядок в советском царстве.









































