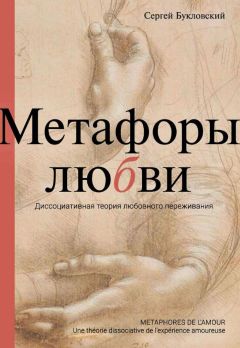
Автор книги: Сергей Букловский
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
II. Любовное переживание как объективная ошибка предикации
Любовное переживание (experience amoureuse) – очень проблематичное послание бессознательного, лишающее субъекта свободы в его причудливом замысле; в концептуализации оно ни на что не раскладывается и не редуцируется до собственного образа. Два различных субъекта (отличность от родителей и друг от друга исполняет функцию эволюционно сформированной защиты от инцеста и иммунной уязвимости с биологической точки зрения) объединяются в третьем (ребенке), чтобы эффективно противостоять среде всей мощью врожденных механизмов, получив при этом символическую награду за размножение. Прообраз семьи – стадо, подверженное фундаментальным преобразованиям, в котором коррелятивом выступает психическое и биологическое равнозначие, стоящее в прямой зависимости от приращения численности. Генетическое единство происхождения разных субъектов вызывает определенный сдвиг вытекающего из него любовного переживания. Сексуация сама по себе вызывает сдвиг в желании другого, посредством краха. Хищное логово плоти платит высокую цену за интеграцию в социальное поле, где все способствует возбуждению, умаляя при этом желание. В любовном переживании внутренний мир увеличивается, разрастается, а другой перерождается в целый мир для субъекта. Рост отсылает к сумасшедшему росту онкологически ангажированных клеток в организме, и смысл этой отсылки не позволяет субъекту достигнуть успеха. Смысл, так слабо интересующий психоаналитиков, возникает там, где его нет, что и определяет хрупкость (нерешительность) в отношении формы реализации любовного переживания. Любовь, будучи взаимной, беспомощна: ей неведомо, что она отражает желание стать Одним, в котором два пола предстают как один, и потому отношения делаются невозможными. Поскольку знание принципиально не поддается слиянию, любовь начинается именно с различия. То, что субъект любит, намного меньше того, что есть, и именно в такой степени он намного меньше того, чем является. Желание – это желание Другого, которое пренебрегает сексуальными отношениями с тем, чтобы они могли в полной мере состояться подобно тому, как ребенок решается родиться, между мужчиной и женщиной. Если в Другом не содержится единое, то Другой не есть ни многое, ни единое, т. к. нет реальности без идеи. Эксперименты эволюции на половой системе – явление относительно новое. Извращение органической цели инстинкта, универсальной исходной программы – есть неотъемлемая часть сексуальности, пересобранной из ретроактивных осколков перверсий (!), образующих терминальную часть желания на уровне эдипальной ситуации, обеспечивающих вторжение фантазма и находящих опору в символическом порядке. В сексуальности нет ничего «нормального» и мало чего идеального. Любовь – это извращение реальности. Все человеческое сохраняется в ориентирах символического уровня, которые поддерживают достоинство и олицетворяют закон, воссоздающий символ в любовном образе. Любовь возвышает над любыми условностями закона взаимодействия с другими и вырывает субъект из привычного уклада. Неподдельное отношение женщины и мужчины неизменно сводится к измерению смысла. Оно возможно лишь за пределами конвенциальной реальности – за пределами культуры, социума, морали, инстинктов. Реальность любовного переживания рождается исключительно нарративным образом. Неуместные знаки мужественности или женственности в любви абсолютизируют значение эдипальной культурной матрицы, поскольку она выходит далеко за пределы разделения полов. Физиология мешает субъекту. Он думает о том, почему не удается настроить свою сексуальную жизнь должным образом, сознавая себя дезадаптированным животным, обретающим тело в скопическом режиме. Отсутствие возможности установить сексуальную связь – свойство именно говорящего животного, незримо (не)реализующего замысел природы. На месте отсутствия сексуальной связи перед лицом Реального образуется всеобщий исцеляющий бред – бред истины подменяет опыт любви! Любовь иррациональна и не размещается в плоскости позитивного или материального, поэтому в сексуальности нет отношений комплементарности: субъекты не дополняют друг друга и не зависят друг от друга, но непрерывно находятся в общем поле языка, где происходит их подлинная встреча, образуется связь в регистрах языка. Условием принятия другого является любовь к себе: отражение перестает быть для субъекта продолжением зоны идентификации, начиная собственный путь удивления (с удивления, как можно догадаться, начинается любая внятная аналитическая процедура), влюбляя в себя и ведя возлюбленного вслед за эмоциями. Стремление увидеть в женщине больше, чем в ней есть, задействует требование не видеть ее больше, но закрыв глаза иметь дело с объектными отношениями вне этой видимой конфигурации, поскольку Я давно уже не является центром субъекта. Вторичность субъекта является здесь триггером мобилизации всех психических ресурсов в визионистских целях. Любовная встреча образует в субъекте разрыв: ему предстоит покинуть свое место, явить различие в предельной своей форме и произвести новый способ быть, отказавшись от прежних паттернов существования. Событие встречи вводит разрыв между «до» и «после», разрыв с прошлым, с другим, с семейной историей, но, прежде всего, со знанием. Конструкция получается крайне неустойчивая, т. к. целостность внутреннего ландшафта подвергается постоянным сотрясающим колебаниям. Логика теоретического прикрытия, ритуала, экономического расчета, выигрыша, накопления, хозяйствования, капитализации брака, потребления, учета степени растраты, накопления, семейной психологии, обмена благ и взаимных выгод, рыночных отношений, взаимных обязательств, восполнений, обретений, обладания и т. п. не срабатывает, поскольку в основании любви лежит радикальный выбор, который является следствием работы глубинных психических структур и не может быть мотивирован никаким благом – любовь выступает мерой всех вещей, определяя этический статус субъекта. Выбор объекта, как любая иллюзия преодоления «случайности», сопряжен со всеобъемлющем слиянием Я и Другого, чему служит незримой опорой отношения, раскрывающие сопутствующие составляющие для формирования приносимого объектом наслаждения, которые не даны изначально (!) и не взяты с потолка.
Любимый крадет бытие любящего, когда тот постигает его в качестве центрального объекта и не пытается его ассимилировать. Бытие для другого предполагает двойное внутреннее отрицание, трансцендирует объект и делает его существующим для другого, то есть подчиняет его нереализуемостью Идеала как совокупностью всех возможных предприятий, которыми субъект намерен реализовать объектную сверхценность. Свобода другого – основа любви и любящий упорствует в этом, т. к. является ее уникальной и привилегированной причиной. От любящего требуется прямое влияние на свободу другого – требуется быть внешней границей, делающей эту свободу возможной. Будучи причиной заражения (folie-a-deux) и вовлечения в переживание, любящий становится присутствующей невозможностью, возвращающейся к свободе Другого, актуализированным требованием любви. Свобода покоряет, поскольку однозначно ставит вопрос о том, каким бытием для другого, источником сверхценности и расширения реальности, переживание делает субъекта. Вместе с тем, когда происходит такое абсолютное преобразование, репрезентируется конечность, любящий просчитывается как в своих чаяниях, так и в своем господстве над созданным «для него» объектом. Его неоправданно возвышенное существование и его конечность взаимно гарантированы любимым объектом – он есть постольку, поскольку он отдает. В первичном способе выражения бытия другого обретается собственная непревзойденная субъектность, управляемая в той степени, в какой плотность переживания отражает нарциссическую непревзойденность бесконечности! Это происходит из-за сознаваемого недостатка бессознательного знания, выражаемого субъектом для другого своими пределами, и понимания того, каким образом будет использовано значение его субъектного содержания (!). Любовь рождает отчуждение и в определенном смысле рождена отчуждением, заставляющим другого полюбить себя – в качестве свободы требуется именно отчуждение. Любимый неизбежно объективируется и отчуждается в той мере, в какой требует отраженного отчуждения любящего – любящий лжет в выражении своих чувств, не учреждая бытие любимого, а делая его в значительной степени объектом. Свобода (с точки зрения желания) вызвать любовь к себе у другого субъекта на уровне его присутствия, вызвать такое отношение к себе в качестве чистого объекта отчуждения внутри разворачивающегося процесса самостановления, связана с желанием устранить возможность быть вещью, редуцированной до доминанты принадлежащего другому наслаждения (!). Трансцендентное отчуждение заслуживает отдельного внимания, но объективация любимого вызывает столь интенсивное сопротивление, что игнорировать его становится невозможно, учитывая отношение бытия любимого к любящему как недостижимому Идеалу, укореняющему измерение просчета (!). Чем больше объект любим, тем больше он теряет возможность обретения своего бытия, образуя эссенциальную нехватку. Любовное переживание подвергается неуклонной релятивизации; инвестируя свое сокровенное содержание любящий избавляется от него, ставя под вопрос субъектность как основание свободы в отношениях с элегантно понятой Хайдеггером и не имеющей дна бездной другого! Объективность другого вскрывает и высвобождает субъективность любящего. Калейдоскопичность сменяющихся масок желания прочно увязана на уровне отношения к объекту, хотя это лишь утверждает диссоциацию между самим желанием и его каждой из его масок.
Тело, возраст, пол, внешность не имеют отношения к вечности, к которой отсылает любовное переживание. Другой (маленький другой) – не причина любви, а очевидное препятствие для нее: вся привнесенная сегодня миром других консервативность оборачивается завтрашним промискуитетом как диссоциацией значения. В этом смысле, чистая любовь не имеет объекта, задействуя способ пробуждения языка. Видеть вне идей для субъекта не представляется возможным, что не отменяет возможности постижения вне их контекста. Огромное количество людей из-за высокой скорости протекающих в сознании процессов этого банально не замечает, оставаясь неохваченными, не зараженными. Самые прочные связи создают подавленные цензурой импульсы (!). Любимый объект не такой, как все остальные, – он вовлекает в несовершенство своей извечной природы невыразимостью и невоплотимостью. Принятие объекта, становящегося входом в сновидение наяву, торжествует под знаменем любви. Фокус в том, что любящий представляет себя любимым. Фрустрация сплачивает, но по-настоящему сплачивает открытие для себя своего одиночества и чувства исключительной неблагодарности по отношению к той культурной сцене, которая породила субъекта (!). Любовное переживание, по отношению к не подверженному социализации источнику любви, выглядит как авантюрная форма мошенничества (!). Социальная гравитация значимо ослабевает на другой сцене иллюзорной негативности вселенной языка. Любовное переживание, по сути, возникает из противоречия между внешней слабостью, неспособностью отстроить реальность в соответствии со своим желанием и безграничной воображаемой властью в том мире, который вырастает в отношениях с объектом любви, обнажая детские травмы, о существовании которых субъект даже не подозревал.
Этика в любви важнее эстетики – она есть следствие садистических устремлений к чистоте кантианского свойства, с минимальным включением. Бог у Канта не знает ненависти, а чем меньше ненависти, тем больше любви. Чем больше божественных качеств, тем меньше ненависти, и следовательно, меньше чувств вообще: именно в ненависти разверзается история любви, без ненависти ее не бывает. В радикальном несовершенстве ненависть как изнанка любви оказывается обращена на бытие (путь ненависти). А бытие есть форма любви, в которой терпение уплощает плоть переживания. Знание мотивов другого любви не доказывает, а подспудное наслаждение другого также не является доказательством любви. Знание в любви – это загадка, заданная самим бессознательным. Сам субъект намеревается вынудить другого задать вопрос, чтобы воплотить в другом ответ, констатирующий базовую языковую функцию. Бессознательное знание уже налицо (как текст уже написан, когда автор еще не знает какие подобрать слова для его реализации), но высказать его субъект языковыми средствами не способен. Говорение структурирует знание, давая определенный логический сбой. Анализ вообще начинается там, где обнаруживается нечто странное, что работает в жизни субъекта помимо его воли. Практика, реализация – усилие, которое предпринимается в отношении теории и субъект появляется там, где он ошибается! В этом смысле любовь представляет собой практику взаимодействия непониманий и приводит к разрастанию смысла. Субъект является собой для одного означающего посредством другого, сохраняя базовую неопределенность. Реальное рождает безысходность и испытание для любви, вводя субъекта в конфликт с собственным жизненным укладом. Любовь отражает ненависть, как тестостерон, эволюционно призванный соединять тела, не случайно используется в военной фармакологии для эффективного умерщвления других.
Можно говорить о потребности в чистой трате, не служащей никакой цели, когда трата принадлежит негативному порядку и задается избытком сексуальной энергии. Чувства всегда взаимны и уклониться от подлинной любви невозможно. С чем субъект сталкивается в непереносимой любви и с чем не имеет возможности смириться? Он ищет в предельных чувствах утрату оснований, опасность, тревогу, напряжение, угрозу, понесенный ущерб – всего того, что придает ценность его переживанию. Изначально в эросе содержится божественное, сакральное, метафизическое начало, осознание чего сегодня изъято, хотя любовь до куртуазной эпохи была исключительно проявлением любви к Богу. Профанация состоит в том, что место любви – везде, а не где-либо еще. С другой стороны, если отведенного места у нее нет, то нет и глубины погружения. Очевидно одно: пространства для любви должно быть немного. Поскольку, если ей определено конкретное место, то ее нет номинально, в собственном смысле. Корабль не тонет, когда он в воде, он тонет, когда вода в нем ограничена конкретным измещением. Она нарциссично разлита в силу свойств своей природы, не превращая объект в идеальную иллюзию на уровне воображаемого и создавая условия принятия его инаковости (в свою очередь своей непостижимостью, преодолевающей пределы человеческого опыта). В этом смысле, потеря объекта дает безграничные возможности творения нового способа быть (без какой-либо навязанной регуляции), обращенного к разделению, различию, противопоставлению себя природе тем, что выражается языком обстоятельств. Таким образом, любовь – не желание конкретного объекта, а желание поиска, способность сохранять нехватку, желание желать. Она сподвигает к аскетическому пониманию того, что субъект ничего не значит без обращения к Другому, включающему в себя осознание всей несоразмерности чувства субъекту, осознание избыточности и отказ от идеи обладания другими. Почему в детстве мы плачем, когда другой ребенок падает? Большой Другой – это грандиозная конструкция, определяющая каким суждено быть человеческому Я вне его человеческой воли, – поочередно он может представать как бессознательное, тело, речь, мать – все то, что ускользает от осознания, продолжая следовать мысли Лакана. Другой как объект любви предстает как другой по отношению к себе самому и определяет содержание желания – он становится креативной частью субъективности.
Эмоциональное пространство напоминает концертный зал, где происходит импровизация и спонтанный обмен рифами. В нем есть мертвые зоны, куда звук не доходит, ограничиваясь вибрацией. В идеальной своей форме любимый создает вокруг объекта своей любви наибольший звуковой резонанс. В скопическом же влечении субъект одержим реальностью как спектаклем, разыгранным для него на сцене психического. Любовная страсть – форма прирученного культурой бреда, не несущего в себе ничего особенно противоречивого. Опасна лишь утрата бреда и возвращение. Любимый человек в определенный момент лишается смысла – он становится текстом без контекста, потому что понимание предполагает рассечение образа. Обязан ли он желать исключительно добра – вопрос в большей степени риторический. Любовь прогредиентна на уровне состояния, но не представляет собой квинтэссенцию добра, имея своим прообразом отношения в переносе и вызывая к жизни подлинное здравомыслие. Перенос имеет и утилитарный функционал: мало кто завяжет шнурки, будет готовить еду во время болезни, встретит с зонтом в дождь, не испугается форс-мажорной ситуации, безоценочно выслушает. В высшей точке (гениальности) сильное чувство разрывает целостность Я изнутри (!), где и без того «колба не является пространством химических реакций».
Перенос не отличен от любви, в том смысле, в котором Другой стоит между мужчиной и женщиной, следуя своей куртуазной функции, изначально ему присущей. Потерявшая актуальность мысль Тюдаля «Между мужчиной и любовью Женщина. Между мужчиной и женщиной Мир. Между мужчиной и миром Стена» – лежит строго в русле психоанализа, иллюстрируя перенос реальности и времени субъекта на уровень Идеального Я. Не случайно лучшими в любви проявляют себя женщины, которые были лишены материнской любви, изолированы, отлучены от причастия многообещающих семейных сценариев. Поскольку функция женщины не сублимируется в функцию выигрыша (переходящего победителю кубка), она получает предложенное развитие в бытии, тогда как нечто более существенное остается во власти Другого.
Означающее создает двоемирие мозга, расщепляя план содержания и план выражения наличием имени собственного. Субъект влюбляется в свою любовь, сознавая неспособность разлюбить, которая не отпускает помимо его воли, ставя порой на грань агонии. Любовь как странный изъян, на определенном этапе подводит к желанию «отдавать» свои чувства, свои наваждения. В этом романтическом, полном поэтических начал водовороте все становится именем, а субъект вплотную приходит к поэтизации жизни. В момент, когда тело становится бессмысленным (текстом без контекста), в тривиальности любимого объекта завораживает вычленение отдельного проституирующего жеста, – в котором она смотрит на прохожего тем же взглядом, что на любимого после совместно пережитого оргазма. Множественность и сменяемость причиняют страдания – в этом суть предпочтения. Боль причиняет то, чего нет в наличном опыте, но в чем есть потребность, – потребность, затмевающая боль существования в мире. Любовь спонтанно упраздняет право собственности. Новая любовь – не рождение, а возрождение масштабного экстимного процесса, из которого субъект черпает вдохновение для своих чувств. Логика бессознательного со времен Фрейда сообщает следующую конструкцию: одного потеряешь, – сторицею наверстаешь. Изменить может только тот, кто любит, а ревновать может только тот, кто верит, что любим. В чем смысл измены? В том что бы произвести из опыта новое означающее для отношений с любимым. Сбитый механизм избирательности в сочетании с эмоциональной чувственностью и онтологической неполнотой представляет собой основу привлекательности на биологическом уровне уже потому, что субъект представляет собой объективную ошибку, и именно в любви ошибочность эта символическим образом снимается! В более низких регистрах – сочетание чистоты, дерзости и церемониальности выполняет ту же функцию привлечения. Уплощение, сводящее отношения на нет, возникает там, где дело доходит до уподобления коту, устремления которого сводятся к тому, чтобы поиграть, помяукать, пообниматься, посуетиться, сообщить о необходимости кормления, предаться сексу без дальнейших обязательств и укладыванию спать в укромном местечке.
Женщина всегда отравлена матерью. И чем она ближе, тем оказывается дальше, а дистанция сложнее. В эту сложность рождается субъект, в которой он мнит мать продолжением себя и поэтому вид наслаждающегося ее частью другого для него совершенно невыносим. Без утраты нет места любви: любит субъект в другом (обладающим внутренним совершенством) тот драгоценный и утраченный им как лишенцем объект, который он хочет инкорпорировать. Чего же хочет мать – вопрос, вписывающий субъекта в желание расщепленным образом!? Таким образом возникает и разнообразие, которое ведет к одному к герметичному одиночеству – к встрече с любовью в негерметичных глубинных основаниях культурной жизни. При этом страсть к сверх-адаптации желания в таких проявлениях как зависть, агрессивное соперничество, самоповреждение, подражательство или жертвенность, – прямо пропорциональна ущербу, нанесенному собственной субъективности! Субъект питает надежду на то, что заполучив внешние адаптивные атрибуты того, кто вызывает его преклонение, – такие как автомобили, произведения, предметы одежды определенного кутюрье, круг друзей, он обретет и его метафизическую собственность (креативность, авторитет, проницательность, независимость, решимость) – свойства, которые по большому счету в основном ему мерещатся.
И более того, желаемое, являющееся предметом зависти, с большой вероятностью его разрушит. Недополучающие устойчивой привязанности и эмоционального тепла дети начитают играть с предметами (игрушками), утешаясь таким образом, т. к. близкие люди могут быть не безопасны для эмоционального контакта или не способны на это. В роли игрушек могут выступать компьютеры, трудоголизм, порнография, скроллинг ленты социальных сетей, уход за собой, бесконечное обучение и т. п. Стоит ли говорить о том, что эта подмена притупляет эмоциональную чувственность, ни в коей мере не покрывает нехватку и вызывает ощущение несоответствия образа жизни уровню врожденной оригинальности.
Переживание в модусе «бордель без границ», свойственное сильным чувствам, предполагает унижение объекта и разрыв ткани психических процессов на два направления: нежно-придержанный и агрессивно-безудержный. Допущение относительно знания, прочно связанного со способностью вызывать тревогу в другом, стоящего за объектом любви, неизменно приводит к торможению, пилотирующему сексуальную реализацию. Способность к переживанию, к удивлению обыденным в любимом объекте, в свою очередь, задана опытом промахов и неудач на уровне реализации фантазма. Любящий чувствует себя стесненным в проявлениях своей сексуальности, что частично лишает его ревностного энтузиазма, – особенно если объект подает зримые надежды на прохождение фантазма и не может соответствовать им в полной мере. В поиске признания субъект наталкивается на отчужденную тревогу другого, которой он неистово наслаждается и которая окольными тропами организует симптомы его бытия, будучи прочно увязанной с выдающимся за пределы опыта объектом желания!
Чтобы реализоваться в любви субъекту нужно не признание со стороны любимого, себе подобного, а признание со стороны большого Другого. Другой вносит в отношения разрез, рассогласование, встроенное в проективную идентификацию. Любовь оставляет шрамы, – травматично, как любой разрез, иногда буквально в виде миокардиофиброза или стрессовой кардиомиопатии. Борьба за внимание преодолевает рамками гомеостаза и порой оказываясь несовместимой с жизнью. Любовь может быть естественным предпочтением, возникать к первому встречному в идеальной для конкретного субъекта форме, без отбраковывания, поскольку любит тот, кто любим. В этом случае она оказывается неизменной, как закон природы, не знающий исключений: не может быть так, чтобы субъект ждал солнца, а оно не взошло. Не может быть, чтобы он наклонился к цветку, а тот бежал от него. Не может быть, чтобы он обнял ствол дерева и почувствовал, что это неуместно.
Генное редактирование любой глубины не сможет оказать значительного влияния на отношения в любви, поскольку они не бывают удобными и не распределены между субъектами в каких-либо рациональных пропорциях. Удовольствие от общения с гаджетами (совместный просмотр, телескопическая иллюзия и т. п.) в нематериальном смысле (dilectio), создает в субъекте переживание особой онтологической укорененности. Изгнание из рая и следующее этому чувство вины за вкушение плода любви с древа познания формирует отношение к миру, вынесенное за пределы эксплуатации объекта. В другом больше не находится завершение себя. Чувство вины как кровоточащая, наносимая реальный ущерб рана, вызывает к жизни любовь подобно жезлу Купидона. Венера у Овидия срывает с себя одежды и, предаваясь бунту одичалой любви, уходит в лесную чащу, превращаясь в охотника – она теряет свою сущность, становясь чем-то первородным, в чем заключен болезненный, разрушительный потенциал.
Сходным образом и De Diligendo Deo Бернарда Клервоского становится «методом» любви, силу которой он перенаправляет: все любовные переживания становятся подчиненными любви к Богу, включая любовь к себе. Он иллюстрирует это случаем, к котором озеро выступает преградой, на противоположном берегу которой он, переполненный уничтожающей его чувственностью и вожделением, видит прекрасную девушку. После того как он бросается в холодную воду, к нему немедленно приходит отрезвление и это осознается им как невероятно мощная сила – аскетизм заводит его больше, чем страсть. Окольные пути любовного переживания приводят к самоопустошению: чем меньше Я, тем больше места для любви к Богу. С течением времени любовь к Богу заменяется любовью к истине (описываемой строго научным образом как внешнее квазибожественное образование). Любовь к истине заменяется, в свою очередь, любовью к себе (как к духовной метафоре). Любовь к себе заменяется любовью к своей поэтической, куртуазной природе – к творению новых слов, новой реальности языка. Мученический венец в испепеляющей любви к Богу нередко оборачивался реальным испепелением на костре инквизиции, т. к. отказ от своего Я, по причине невыполнимости его условий, отсылает к состоянию абсолютного нуля люциферианской составляющей Реального как духа тяжести, – это иллюстрирует образ огня, обращенного в свою противоположность. Жертва состоит в том, чтобы лишиться части себя во имя принятия мира другого, который уготован субъекту, и который несет то, в чем нуждается его Я. Странная идея о том, что Бог исполняет функцию Санта-Клауса с подарками в христианской этике, сегодня уже не выдерживает ничего, поскольку субъект не знает, является ли социальная реальность по-прежнему божественной или же совсем напротив. Его счастье заключается в умении самостоятельно решать свои проблемы – он не знает, как ему жить, и каждый день решает для себя этот вопрос вместе с другим, мобилизуя свои креативные возможности. Любовь выступает чувством, предназначенным для усвоения Божественности, – знаком, неким выжженным на теле тавро. Лишь отказываясь принять закономерное удовлетворение, субъект утверждает и признает этот знак в качестве свидетельства. Требование любви невозможно без требования ее удостоверить – требования вытесненного желания, явленного в символической смерти. Подлинная встреча с Богом – знание (о его любви), засвидетельствованное смертью и приобщаемое в святых дарах. Находясь в материнской утробе, лишенный света, не принадлежа миру, ребенок приучается к «делам тьмы» – приучается не поступаться своим желанием, своей жестокостью, питаясь кровью и плотью материнского тела, что приводит к мысли о евхаристическом начале внутриутробного периода. Оставаясь определенным образом к желанию непричастным, он формирует из фрагментов этого раннего опыта этическое (аскетическое) требование, находящее отражение в его любви. Лишь отказ от удовлетворения потребностей, своего рода аскетический подвиг, позволяет выделить желание в его чистом виде и творить во имя любви.
То, что субъект пытается приписать любимому значение, делая его возможной отличительной чертой бытия, коей тот и без того является, свидетельствует об иллюзорном характере платформы отношений. Фантазия о смерти любимого подвергает отрицанию этот утомляющий мир реальности через замещение его другим миром (обладать – значит обладать всем миром, равно как и терять его в привычном для себя виде). Чувства не могут реализоваться без противоречия, распада, без превращения в секрет, без приобретенного содержания на определенной стадии, без осознания того, что нежность не исчерпывает любовь и не вызывает расщепления, воплощая то, вокруг чего организован субъект. Любовь оборачивается тайным культом, тревожным зовом, – зовом объединения с чем-то принципиально отчужденным.
Парадоксально-предельная степень свободы в любви, качественный скачок в спонтанность состоит в том событии, в котором субъект обнаруживает себя уже любящим без какого-либо выбора, в отрыве от корней: он должен решать сам, но нет никаких шансов предоставить ему эту возможность. Суть любимого – любить другого; в противном случае любовный бред прекращается, т. к. бред существует лишь тогда, когда он останавливается и субъект меняет свое состояние, – бред, как несложно догадаться, существует ретроспективно. В многообразии объектов субъект наталкивается на тягостное воображаемое восприятие постоянства другого, неизбежно расщепляясь в тщетной попытке сдвинуть это постоянство его инаковости с места. Многообразие форм, принимаемых выпадающим объектом (причиной желания), соотносимо с безграничной вариативностью, с которой воспринимается субъектом желание Другого. Способность любить несовершенство состоит в умении играть на многообразии возможных прочтений психической партитуры, понимание которой было исторически утрачено. Красота в этом смысле нужна лишь там, где что-то не клеится. Мышление, приводящее в действие критический взгляд, выбрасывает белый флаг, когда чувство любви оказывается несоразмерным. За мышление отвечают центры мозга, которые изначально были сформированы для развития полового обоняния и непрерывно структурно перестраиваются вне зависимости от условий, предлагаемых окружающей средой. Любят в субъекте то, что способно взглянуть в лицо знанию, которое одушевляет бытие его мира и наделяет его достаточной плотностью.
В другом есть все, кроме другого. Довольно трудно обнаружить общую точку сборки для любви, которая сексуируется за счет тревоги в поле речи (т. к. подходящего языка для любви нет), и знанием, которое концептуализирует Реальное в поле языка. В этом смысле, теория любви – это сеть, и ловит при помощи нее тот, кто забрасывает.









































