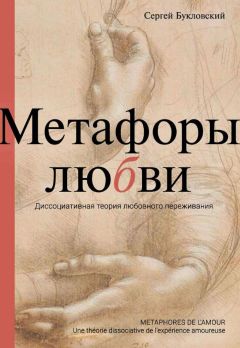
Автор книги: Сергей Букловский
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Бессмыслен и потому бесполезен поиск ответа на вопрос: что или кого любит субъект. Не существует осмысленного ответа на вопрос о том, почему субъект любит и что именно он любит в другом, т. к. сущее подвергается необратимому разрушению и сокрытию смысла. Топологически смысл бесконечен, потому дорога к нему тождественна пути к причине желания, но не к его объекту. Ужасающе традиционный способ проявления человеческой любви – подобно пауку впрыскивать инородный парализующий агент в тело другого, чтобы объект любви внутренне переварился до состояния, пригодного к всасыванию и поглощению. Иными словами, убить все живое и упростить до годного к усвоению (что неизменно ведет к утрате чувств, поскольку объект дезинтегрирован и инвестировать в него психическую энергию на уровне Символического более нет никакой надобности). Пожалуй, нигде иллюзия свободы воли, приверженность культурным ценностям и ответственная осознанность, которые ничего кроме смехотворного раздражения не будут вызывать в ближайшем будущем, не разрушаются так тотально, как при выборе объекта любви, содержащего противоположные субъекту свойства. Любовь позволяет наслаждению уступить место желанию (сочленению Реального с желанием). Она определена тем, к кому субъект относит операцию кастрации. Это древнее и универсальное, но всегда первооткрытое чувство, заканчивающееся неизлечимой правдой нового знания об установлении самой структурой языка невозможного.
Субъект заново изобретает практику любви и строит свою теорию любви, вызывая к жизни феномен, не всегда пригодный к реализации, к достижению любовной цели. Очевидно, что любовь представляет собой определенное повторение, перенос пережитого в актуальное, где любимый в своей привязанности достигает эквивалентного Идеалу Я любящего состояния, идеальной формы недостижимого совершенства. Движущая сила в любви отражена в нарциссизме. Но двое – не есть одно. В притче о Святой Лючии она предпочитает модус служения божественному, отдавая любящему свои глаза, т. к. он любит их более всего прочего в ней. Ответом на это становится его закономерное бегство. Лючия же обращает на него Реальное, которое смотрит из глазниц, понимая, что она является для него ничем иным, как воображаемым объектом его нарциссической игры. На лицо разрыв между стремлением быть желающим и стремлением бытием любимым (!) – подвергнуться разрыву или же уничтожить себя в русле трагедии через отказ быть любимым, преодолев свой нарциссизм. Любимый отказывается признать ценность своего идеального образа, а нехватка (кастрация) восполняется своим идеальным образом в другом. Autre, другой, происходит от латинского alter – другой из двух отличных. Я существует только тогда, когда в его сердцевине открыто зияние, нехватка, где оно входит в связь не просто с другим, не таким как Я, а с абсолютно другим по отношению ко всему, что есть. И происходит это в логике функционирования другой сцены как системы различий и при отсутствии у элементов языка собственного содержания. Не случайно желание относится к способности занять определенную позиции по отношению к противоположному полу.
Любящий – враг общества, действующий при наличии сообщника, когда любимые оказываются в изоляции и ориентированы против всех. Кроме того, в любовном переживании ничего не улаживается, но зато определенно обеспечивается выпадение за пределы собственной структуры, поскольку любовь – это любовь к Воображаемому, к самой любви, задающей такт тревоги и меру деперсонализации. Любовь – циркуляция ничто на символическом уровне. Если нет причины, то в этом случае любовь как раз и случается, т. к. запрос любви не может быть удовлетворен приемлемым образом. Приносимая жертва, в данном случае, вписана в канву христианской этики как дух сокрушенный. И поскольку культура не учит любви, стоит порвать со всем, что заявляет о себе в этом качестве, осуществив свой индивидуальный вклад в культурный код любовной матрицы.
Романтические, ошеломляющие импульсы события начала любви, чреватого жестокой и чрезмерной привязанностью, заимствуют свою интенсивность из галлюцинаторного измерения. Достойна внимания личная история математика Джона Нэша, который вызвал действующих лиц своего психоза, встав во весь рост и обратившись к ним, сообщив, что хочет спать со своей женой и они ему мешают, после чего его бред ослаб. Для психотического субъекта любовная связь представляет собой первичную, главенствующую номинацию (а)социальной связи. Страсть стимулирует любовь в той же мере, в какой она ее утомляет: страсть является плащаницей, прикрывающей глубокую печаль. Любовь предстает разновидностью горя, но, если субъект концентрируется на поиске неизбежного удовольствия и безопасности, его ждет еще большее горе. Бессознательному нужен другой за пределами сиюминутного эгоцентрического требования субъекта. Главная жертва в любви – это сама любовь и ее выгорание; представления о любви первыми приносятся в жертву. Если любовное переживание реализует невероятный окрыляющий бред, то стоит задуматься о том, чего хочет этот бред от субъекта и от других. Бред хочет вернуться туда, откуда он некогда был изгнан и где брал свое начало. Апостол Павел не случайно считал, что брак способствует подавлению безумия. Ведь бред вносит принципиальное изменение в то, что принято называть судьбой в смысле развертки генетической программы. Бред самым достойным образом буквализирует желание в противостоянии обстоятельствам (!). Инфляция реальности оказывается неизбежной и эстетическое преобразование играет здесь не последнюю роль, когда субъект стремится умилостивить насыщенность своего бреда. История отношений с обществом выглядит в данном свете как регламентированная история недопущения бреда, а декорациями для любовного бреда становятся социальные отношения, но субъект всегда оставляет за собой право послать их к черту, предавшись занятием не только собой. Никогда не иссякающее желание своим следствием имеет побуждение не только к единению с другим, но и к взаимодействию с чем-то неизмеримо более широким, что единовременно усиливает изоляцию. Близость уединения с другим предполагает противостояние социальным установкам, диссоциируя Я: – уединившись, двое «покидают вечеринку» ради спасения своего индивидуализма, движимого мощным культурным импульсом (призывом)! В этом смысле любить можно и машину, и одну из планет, и самого себя. Романтическая любовь требует умерщвления социальной реальности отношений во имя любимого объекта и очевидным образом упраздняет право собственности. Субъект теряет контроль над переживанием, т. к. в противном случае оно становится дисфункциональным, лишенным фантазий. Психоанализ становится подрывным механизмом социальных норм дисфункциональной и вызывающей недовольственное утомление культуры. В конечном счете, метафора любви – это поворот истории в сторону апокалипсиса, сознание которого оставляет переживание живым, оголенным нервом. Взыскующая бедность на уровне внутреннего ребенка необходима (страдание равно насилию в вопросе доступа к ресурсам воображения), но субъект очевидно не должен быть слишком нуждающимся для рождения в откровении романтической любви. Интенсивность переживания питается нехваткой желания, а избыток чувств поддерживает здесь нехватку, переживание утраты и бессилие жизни психической структуры, идущее рука об руку с нарциссическим перформансом!
Любовное переживание или эквивалентное ему ожидание любви воспринимается как то, чего нет в Я, за исключением содержания, предоставляемого «ложным», диссоциированым Я. История любви предстает как вымышленное повествование о вымышленном присутствии: становясь податливой реальностью, она находит свое завершение, которое растворяет Я в его невозможной реализации и целит в Реальное! Густонаселенное образами мимолетное переживание субъекту чрезвычайно трудно распознать в его темпоральности, т. к. этот опыт субъект не может переработать – в любви безотчетное время вечности неотвратимо завершается в недосказанности. При незавершенности, разомкнутости любовного опыта отсутствием ответа, прерыванием дискурса, энергия сохраняется внутри (!). Любовное переживание, в ходе которого субъект перестает озабочиваться своей целостностью, как поле проявленности субъекта, так же сложно устроено, как и породившая его вселенная.
В любви наиболее отчетливо обнаруживается то, в чем субъект идет «не туда», соприкасаясь с другими, но одновременно это приносит ему умопомрачительное наслаждение! Остается только нанести недостающий аналитический штрих на эту картину, чтобы не блуждать лишенной бытия тенью в лабиринте желания. Желание предстает в виде расстройства; оно не ограниченно своим функционированием с самого начала истории субъекта и не возвращается туда, откуда было некогда выбито. Никакого согласия между желающим субъектом и внешним миром здесь не предполагается! Реальность не развивается параллельно инстинктам и созревание желания является тем, что позволяет реальности завершиться в своей мнимой объективации. Этим объясняется дистанция, которую субъект по отношению к собственному желанию занимает, – желание проявляется как отношение субъекта к самому себе, проживание мифа о себе, минующего связи с реальностью. Любящий развивается в суверенную неизвестность, в сотворение беспорядка, он обнаруживает в себе способность перевернуть смысловые ряды за пределами собственной конституции. Субъект перверсивным образом реагирует на разрывы в опыте переживания, не вписывающиеся в связным образом организованную реальность. Перверсия характеризуется как компенсаторное средство, позволяющее субъекту обеспечить непрерывное существование длящейся реальности (Glower E., 1933). Образованный в речи субъект обретает свойство реального средствами обозначения своего желания на уровне измерения кастрации, в котором уникальным способом он обращается с требованием любви к Другому. Требование отсылает к альтернативе присутствия или отсутствия – дара или отказа, выстраивая себя заново в отношениях с Другим, где он обретает свой реальный статус субъекта. Если субъект хочет сохранить свою жизнь, он непременно ее потеряет, поскольку окажется неспособным найти себе место в желании без кастрации. Но, и готовность потерять жизнь не гарантирует ему ее полноценного обретения.
Любящий выступает в Реальном как дыра, учитывая его место в переживании, где вспышка появления объекта любви открывает субъективное начало другому желанию, замешанному на событиях выворачивающей наизнанку всю структуру первичной сцены! Перед субъектом разворачивается вся глубина загадочного ландшафта желания Другого и те означающие цепочки, в которые этот опыт бессознательной модуляции выстраивается. Причем, для репрезентации этого непрозрачного по своей сути желания ничего не требуется: в моей практике был случай, когда хирург с первых минут влюбился в даму, которая даже не была в сознании. В этой точке неопределенности субъект теряет способность артикулировать себя в качестве Я; трон под субъектом начинает нешуточным образом шататься. Он становится в некотором смысле собственной метафорой, в которой Воображаемое достигает своей максимальной интенсивности, а его опыт, таким образом оказывается артикулирован бессознательным только в виде диссоциации, расщепления (!). Артикуляция на воображаемом уровне помогает найти соответствие тому, что происходит в переживании. Сновидения и любовные переживания роднит то, что было открыто Фрейдом на заре психоанализа – пуповина сновидения, в которой все ассоциативные связи сходятся и исчезают. Субъекту приходится отказаться от собственного присутствия в переживании и коммуникативном действии с тем, чтобы позволить случиться решающему присутствию другого. Здесь не предполагается тревога, являющаяся ожиданием, «эрекцией» субъекта, но предполагается аналитически неопределенное слагание с себя полномочий, – драматичная и не допускающая прямого перехода к действию беспомощность пред желанием Другого. Вся эта конструкция переживания в водовороте фантазма защищает субъекта от разрушительной силы желания, т. к. энергия, сохраняющаяся внутри при отсутствии ответа, уводит его на край света, предоставляя все возможности развития диссоциативной многозначности. Объект в фантазме представляет собой врата, ведущего к желанию Другого, дойти до конечного пункта наслаждения на пути к которому субъект не должен (либо закрывая доступ к удовлетворению желания и начиная свою игру; либо сочтя его невозможным). Желающий субъект создает себе двойника в образе другого, при помощи чего его желание утверждается, включается в игру, предполагающую признание Другим желания субъекта и его действий, носящих определяющий характер для вновь образующихся связей. Желание здесь наделяется функцией защиты субъекта – функцией, приписанной третьему лицу (однозначно наделенному фаллической функцией и задействованному в переживании именно таким образом) от опасности тотальной дезинтеграции перед лицом объекта любви! На почве сексуального наслаждения, в его интерсубъективной диалектике, выстраивается тот исходный порядок отношений, что лежит в основе закона, посредством которого субъект входит в мир других и артикулирует свое желание – он желает, следовательно, он существует. Субъект дает свое Я в пользование другому, учитывая удаленное от ядра субъективности место этого нарциссически выпуклого, сопротивляющегося и требующего признания, многоликого Я. В желании, где восприимчивый субъект страшится утратить основу своего преимущества в отношениях с другим, он сталкивается с бытием как таковым (etre pur), как с причиной диссоциативного разреза! Желание предполагает исключение (в первую очередь нарциссического триумфа) и пролагает границу внешнего мира как границу между домовладением и лесом, организуя субъективное устройство как истерическое, невротическо-фобическое или обсессивно-невротическое. Фантазм выступает здесь как путеводная нить для того определяющего и увековеченного момента личной истории, который связывается с желанием субъекта, проходя через промежуточное образование, которое с полной уверенностью можно назвать метафорой (!) – триумф решающим образом увековечивается в виде утраты.
III. Матема любви – триумф и авантюра психоаналитической логики
Говорить о любви – само по себе задействование наслаждения, поскольку говорить – значит творить и в любовном переживании обнаруживается мысль о любовном переживании. Психоанализ являет собой единственную со времен Платона, безрассудную по своему масштабу и глубине разработки, попытку осмысления любовного опыта в новых координатах, что делает его привилегированной зоной личного опыта, – нецензурированной формой мышления с развитой системой проращивания значений. Но за формализацией ничего не стоит, поскольку мы имеем дело с переходом из Реального в Символическое, ветвящимися и опасающимися признания траекториями письма (производства значения), опирающимися на нечто соотнесенное с причиной желания, лежащее по ту сторону границы прямого действия языка. Первая любовь, обозначенный предел которой есть только у крайне посредственных (по средствам) людей, укрепляет в мысли о том, что чувства не проходят, пережить ее заново невозможно; она выводит за формальные пределы, запускает метафизическую достоверность и укореняет субъекта в реальности, определяя пути его бессознательного становления. Пути становления могут быть прочерчены совершенно иными способами. Проходя ими сквозь ночь, субъект обретает самостояние, в котором силы ужаса теряют свое значение. Диалектическая связь любви как требования Нового порядка и любви как способа актуализации существующего положения, приносящего максимум наслаждения, определяет момент размещения события на ленте истории бессознательного самостановления субъекта. Событие несет в себе черты выхваченного без сжатия фрагмента реальности, в котором увековечивается нечто принципиальное в субъекте, имеющее отношение к его основанию.
Влюбленный подобен чужестранцу, имеющему неизвестную родину и противостоящему миру с неизменной настойчивостью. Тело – это Другой, а женщина – бессознательное мужчины, не символизированное знаком любви. Говорить – значит увековечивать Другого в истории, предназначенной внушить наличие смысла. В опыте любви, становясь на путь духовной близости в социальных связях, субъект оказывается в поле бессмыслицы, т. к. любовь возвышает его над любыми условностями закона взаимодействия с другими и вырывает из контекста сложившихся воображаемых связей. Это парадоксально, но парадоксы открывают доступ к бытию и возможности сведения этого бытия к любви, т. к. она настроена на то, чтобы выстроить жизнь в направлении развязывания смысла. Парадокс открывает возможность доступа к бытию и сводит это бытие к любви! Любовь и парадокс, как видится, взаимно проясняются друг друга. Наслаждение другого, который символизирован телом, не является знаком любви, поскольку любовь, как уже было сказано, – это знак смены дискурса, а в дискурсе принципиально то, что может его уничтожить на уровне языка. Исключительная недостаточность языка воспроизводится и манифестируется в эффектах тела. Предаваться любви – действо из области романтической поэзии, но между поэзией и актом разверзнута пропасть, поскольку акт любви представляет собой фаллическое извращение мужчины, что непреложно вытекает из рассуждений Фрейда. Сектанство в анализе неслучайно расцветает на этой почве пышным цветом. Реальность говорящего существа фантазматична, – фантазм реализуется в любовных отношениях, прочно завязанных на объекте а. Перверсии здесь поддерживают желание в качестве его причины: перверсивность дает навыки, порожденные знанием. Природа любви заключается в ее аномальности! Мысль как наслаждение бытием, как прикосновение к реальности с задействованием аппаратов наслаждения, изначально является наслаждением по ту сторону. Что представляет собой любовь шизофреника в этом смысле? Происходит коллапс утилитарного значения фаллического наслаждения во имя значения, порожденного символическим обменом нарциссического свойства. Отношения в любви наставляют на путь духовной близости, где происходит потеря утилитарного значения фаллического наслаждения во имя значения обмена аутоэротическим содержанием на уровне тела. Тело служит опорой фантазии: лучшим примером апокалиптичности секса как спектакля стал образ порноактера, смотрящего порно в своем смартфоне на съемках для поддержания эрекции внутри сцены в то время, как его обнаженная коллега возлежит рядом. Бессмыслица и интерес к Другому лежат в основе отношений. Бессмыслица и интерес к Другому лежат в основе отношений, где любимый – всегда вариация собственного Я любящего. Любовный опыт обнаруживает свои основания по ту сторону реальности, где субъект отказывается от своего объекта под эгидой вмешательства метафоры в качестве посредника. Субъект знает о фантазме гораздо больше, чем думает, поскольку бессознательное знает о нем больше, чем решается знать он сам. Поэтому любовь зарождается на уровне сновидений! Субъект любит в другом способность взглянуть в лицо знанию (которое одушевляет его любовью) – знанию о том, что невозможно высказать, чему трудно подражать и что отрицает знание субъекта о самом себе. Любовь оказывается чем-то вроде штопора для всех психических процессов и именно знание наделяет ее плотностью бытия, лишая отношения опоры на ложную целесообразность, как, впрочем, и на какую-либо определенность.
Говоря о любви речь стоит вести о записи в психическом того опыта, который связан с первыми метками прочерчивания символического порядка в теле и который станет впоследствии основой бессознательного знания. В множественной детерминации символических сетей любовь позволяет установить отношение к знанию. В проступающем фантазме она несет в себе измерение невозможного, которое никогда полностью не впишется в означающую сеть, поскольку ничто не в силах высказать ее суть. В основе переживания лежит ностальгия (подобно европейской культуре, которая движима ностальгией по раннему безмолвному Риму), и запускается это переживание обнаружением единичной черты в другом, которая незримо связана с утраченным объектом, который был в свою очередь обретен в детстве как самое романтическое из возможного и, по отношению к которому, субъект предпочитает оставаться в неведении. Воспоминание об утраченном всегда представляется на порядок выше того, что можно ждать от будущего. Смысл отмечен возможностью обратного времени и потребностью в переопределении основы. Невозможность обратного времени и смысла, порождающая мир необходимости – худшее, что может случиться в данном случае. Способность противостоять современной мысли, вносить нечто оригинальное, оставляя место возможности сохранения некого остатка, послесловия, – напротив, питательная среда для желания. Единичная черта, отсылающая к экстимному ядру бытия субъекта, черта-причина желания, облаченная в образ самого субъекта, отражает недосягаемость и непосредственно соотносится с безысходностью Реального, от столкновения с которым предохраняет опыт любви. Задействуя случайность как знак субъективной истины, высшего смысла, любовь зашивает отсутствие возможности установить сексуальную связь. Сексуальность не соединяет, а разделяет. Обнажение и обворожительность для тела другого является лишь негативом видимого присутствия, воображаемым представлением. Реальное проступает в том, что наслаждение уносит бесконечно далеко от другого, т. к. Реальное предельно нарциссично, а сексуальные отношения носят изначально воображаемый характер. И именно любовь приходит на место этого разрыва связи, формируя шов – фиброзное образование на поверхности тела. В конечном счете – это связь субъекта с собой при посредстве другого, тогда как Другой служит тому, чтобы обнаружить Реальное наслаждения. В любви, напротив, посредничество другого ценно само по себе как факт его присутствия – субъект бросается на приступ, встает насмерть, с целью заставить другого существовать таким, какой он есть, в качестве предела своей индивидуальности и пьедестала Идеала Я.
Субъект, с аналитической точки зрения, пребывает в следующей перспективе: он не может жить без объекта вне тела, который эмпирически угрожает ему смертью! Эмпирический порядок, демонстрирующий беспримерную настойчивость в поддержании разрыва между причиной и следствием, случаен, но логически осуществим! Обнаружение себя в порядке возвышенного неотвратимо и одной выделенной причины для этого обнаружения нет. Парадоксальное отношение к смерти психического раскрывает здесь двери, ведущие к многообразию парадоксов желания. Инвестирование в объект истощает Я, что нуждается в отдельной теоретической разработке. Я сливается с объектом, открывая пропускные пункты своих границ – часть своего тела становится в определенном смысле чужим, поддерживающим непринадлежание. Любовное возбуждение не может обрести конкретную форму (!) в силу наличия множества диссоциативных ловушек. Невменяемость (в смысле отчуждения) борется с всеобщей невменяемостью, образуя возможность дискурса без слов – на уровне сущности и на уровне ее социальных связей! Интерес к речи, в которую рождается ребенок, ознаменован тем, что этот вход в поле языка не имеет универсального толкования! В этом смысле коллективное бессознательное – чистой воды бред. Слово непрозрачно и непроницаемо; оно находит себе место, схватывая истину субъекта в вымысле, в отношениях с другими словами. Психика предстает как очаг сопротивления (!) – она, будучи конституированной речью, децентрирована и иллюзорна по определению. Пробелы в опыте переживания заполняются словами (или симптомом) на высшем уровне романтической интенсивности, которая взыщет опыт вне субъекта как избавление от несуществования. Нужда субъекта любовного переживания состоит в том, чтобы стать еще более нуждающимся! То, чем субъект является, он парадоксальным образом узнает из утвердительных речей другого, а это предполагает встречу, метафорическое участие субъекта в которой выводит на путь акта порождения любовного переживания и открывает возможность включения не воображаемой логики, а логики обхождения с Реальным (!). Если субъект наличен, то он теряется и наоборот: не маргинальный субъект в секреции фантазма – это эффект десубъективированной и эксплуатирующей его социальной реальности. Фрейд видел свою задачу не в обращении к сути человеческого существа, а в пересмотре ведущих к ней путей. В центре теории любовного переживания представляется верным разместить свидетельствующее о нем своими перверсиями и приобщенностью к высшим формам культуры существо. Истина существования вытесняется, поскольку субъект не находит места для нее в себе, а занимает свое место в ней. Тот, кого любят, не столько чувствует или понимает происходящее в центре этого аффективного шторма, сколько считывает означающее чистого дара любви! Любящий сталкивается с тупиковой невозможностью любить иначе, как ожидая от другого всеобъемлющего дара, не давая при этом ничего от себя. Ему приходится делать себя желанным (привлекать другого, который делает все за него) и там, где он считает свое желание воплотимым без встречи с кастрационной нехваткой, он любит по-настоящему. Любящему трудно покинуть место объекта желания, поэтому он склонен исключать себя из отношений с внешним миром в силу невозможности давать взамен. Расширение любовного опыта крайне любопытно с точки зрения желания, в центр которого помещается субъект, вменяющий себя ради наслаждения других навязчивому умерщвлению. Если в этой ситуации ему все дозволено, то это, как и любая вседозволенность, напоминает крайнюю форму рабства, а кроме того, предполагает ущерб в Реальном, в тайне говорящего тела нанесенный действием означающего как первоначальной травмой языка! Означающее не предполагает ничего, кроме особенности и именно под его покровом субъект представляет себя в матрице переноса, средства которого обнаруживаются очевидно недостаточными! Любящий не адресует себя взгляду любимого, но хочет, чтобы на него смотрели – это ничто иное как запрос катастрофического избытка наслаждения для последующего умиротворения любимым объектом. Образ впрыскивается в содержание видимого на уровне метафоры, как содержимое шприца впрыскивается в рану через иглу означающего. Формируемый образ, отсылающий своим отражением к Реальному, задает перспективу вступления в отношения негативного фаллического присутствия, перечеркивающие субъекта при его более-менее подробном формулировании в записи. Образ призван воодушевлять инсайтом грядущего отношения и ликования по поводу триумфа овладения отражением собственного образа. Истинность и состоятельность избранной субъектом стратегии позиционирования, артикулированной переносом, испытывает серьезную турбулентность: субъект непредвиденно резко обнаруживает невообразимое несоответствие между эмпирически сформированным представлением о себе и позицией в отношениях, находясь в которой он бросает жребий выбора, позволяющий избежать коллективного запрета на символизацию (!). Там, куда устремляется взгляд другого с целью утоления жажды бытия, субъект оказывается потерян.
В каком смысле любовный опыт лишен существования? Опыт, обнажающий во встрече бессознательного знания одного субъекта с другим на уровне основ из фантазмов. Любящий помещает в другого свою нехватку, обнаруживая себя как желающего субъекта иногда предельно невыносимым образом за счет того, что остается в неведении о причине желания. Здесь кроется фундаментальное несовпадение между тем, чего не хватает любящему, и тем, что есть у того, кто любим, и что превышает его собственные пределы. Отношения любимых разворачиваются в канве шрама кастрации как следа от встречи с означающим у кромки эрогенной зоны, что эвакуирует наслаждение из тела, трансформируя его в фаллическое наслаждение. Оргазм прерывает желание субъекта, канализируя сексуальные напряжение и «напряжение языка». В этом смысле, места, в котором происходило бы пересечение сексуального наслаждения и любви, не существует. Нерасторжима эквивалентность оргазма и некоторых форм тревоги – оргазм возникает на пике эротизировано тревожным (паническим) образом организованной ситуации, в поиски повторения которой субъект намеренно пускается. В природе инсталлировано множество подобных вариаций, но лишь оргазм получает завершение, принося удовлетворение в негативной форме, – в форме временного угасания желания.
В какой мере любовь отвлекает от опыта, аннулирует его и вместе с тем приближает к пылающему смыслу восхода хайдеггерианского бытия? Когда двое любят друг друга, они могут извлечь такого типа знания, которого они не могут найти больше нигде (!), – знания, открывающего возможность радикально другого наслаждения (не по отношению к субъекту, а по отношению ко всему, что есть и что «не может не писаться», в лаканианском прочтении), которое не исчерпывается фаллическим наслаждением и требует модифицированной логики для полноценного понимании. Любовь у Платона имеет утвердительно мужскую тональность, беспокойность, – тональность стремления к обладанию, к действию, к плодотворности, тогда как ее альтернатива не живет в исключительно мужском мире, а дрейфует к состоянию созерцания, служения и отказа от действия. И состояние это очевидно стремится к продолжению; оказываясь за бортом фаллического наслаждения, оно обретает объект-причину желания во плоти, где субъект сам становится таким объектом для других, достоверно прочитывая свое желание и открывая для себя возможность наслаждения совершенно иного порядка. Следует указать на соседство сократического мифа (в котором любовь способствует порождению множества прекрасных речей в экспансии языка) и романтического мифа (зиждущегося на убежденности в возможности создавать нетленные произведения, описывая свои чувства). Соседство это задает в свою очередь образ действия, принимая во внимание следующее: говорить о любви – значит отбрасывать ее в прошлое, обманываться эффектами языка, отдаляя себя от непосредственного ее переживания.
Дискурс любви характеризуется как приступ речи. Образы в нем всплывают внезапно, без всякого порядка, озаряя интенсивностью глубины резонирующих смыслов. История любви предстает здесь как дань, которую любящий платит защищающемуся от него миру людей, чтобы примириться с ним, избегая подделок чистой случайности для внятного функционирования своей персонализированной патетики. Утверждение «Я есть Другой» является отражением деперсонализации, а отнюдь не безумия. Происходящее в любви обеспечивает неотменимое становление субъекта, сводит с ума (с-линии-ума-сошествие), изолируя от стадности и воли к проявлению воли к власти. Образ вечной любви Бога к человеку, предполагающей пассивную созерцательность и действие в модусе служения здесь более чем уместен, поскольку со времен античности любовь посылалась как наказание смертному существу. Субъект возделывает свою «ненормальность», свои фетиши, капризы и перверсии. На самом деле, подлинное безумие заключается в сознании своей позитивной самодостаточности. Любящий – собственный демон, и его речь льется без какой-либо оформленной стратегии, тем более что демон по природе множественен («Имя мне легион»; Лука 7,30). Смещение состоит в следующем: любящий любит не то, чем является его любимый объект, а тот факт, что этот объект для него есть, упраздняя тем самым террор смысла и деланной святости. Это своего рода ассоциативный аборт, рожденный полетом фантазии.









































