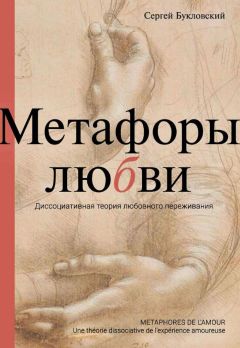
Автор книги: Сергей Букловский
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Любящий обособляется от мира, поскольку переживает его в перипетиях фантазма, стремясь распознать фантазм любимого объекта, чтобы его очаровать, он отдается образу, по отношению к которому все реальное его беспокоит, затрагивает за живое. На другом полюсе располагается переживание апатии и астении – как изнанка, как последствие взрыва, который уже произошедшего внутри. Любовь случается за сценой сознания. Это исключительно собственное, местное, священное предание. Из перверсивного мифологического основания любовной игры (встречи двух бессознательных знаний) рождается непристойность семейного уклада, в котором воцаряется бытие без своего места, и где происходит магическая подмена: один субъект за другого; одно слово вместо другого. Это точка, прекращающая действие законов объективного мира, где субъект тем более одухотворен сексуальностью, чем более не сводим он к другим людям. В любви субъект исследует свои пределы. Линии фантазий сводятся к объекту единственному, и если на уровне бессознательного самостановления удается соединить все точки, подобно образующим созвездия звездам, прежде разбросанным на небосклоне в виде множества, из них собирается совершенная фигура родившегося в персональном преломлении Другого, без которого нет Я! Любимый для субъекта – это весь его мир. В распоряжении любящего субъекта нет никакой системы достоверных знаков, подтверждающих действительность любовного переживания: он никоим образом не может убедиться в том, что любит, и никак не может убедиться в том, что любим. Он прикован к ответу на вопрос: «чего я стою на уровне символического, и чего стоит моя любовь?» Здесь есть самоочевидная потребность в реинтерпретации, т. к. налицо страсть к созданию ложных и двусмысленных знаков в работе машины желания. Жизнь, как известно, оплачивается смертью образа.
Многословие в любви – глубоко человеческая черта, а безумие в языке состоит в том, что никто не слушает, никто не смотрит, но словно шубертовский шарманщик субъект продолжает держать речь, крутить ручку своей лингвистической шарманки. Непредсказуемость речи задает позицию власти! Когда субъект не знает, что сейчас скажет, язык оживает, как аппликация для смартфона наделяет его железо функциональностью. Потребность в любви – не что иное, как потребность быть любящим и упорствующим в своем заблуждении. Любовь как трансгрессия содержит непристойность образа ребенка с эрекцией, продолжающего сосать материнскую грудь, – образа, который задает проблематизацию эротизма, где возбуждение и способность его удерживания нормативно, тогда как отсутствие возбуждения предстает явным отклонением. Изобретение себя заново всякий раз при входе в отношения нацелено на рассеивание, становление субъекта собственной метафорой. Обретенное таким образом знание из предыдущего знания не рождается, никогда не представая субъекту чем-то единым. Субъект не обладает и преимущественным правом на нежность – он захвачен не только потребностью в нежности, но потребностью быть нежным к другому, потребностью изобрести нового себя. Накатывающие волны нежности оказываются беспокойно мучительными в батаевском смысле, подрывающими физическое здоровье и превратившими органы в расходный материал. «У тебя в груди некий неподвластный чарам разум» (Одиссея, X, 329), «Блажен испивший зелья Цирцеи. Блажен, кто в плотских утехах. Животным стал, почти сравнявшись с Богами». Вместе с тем, переживание предстает как концертный зал с плохой акустикой, в котором чувства включают в себя мертвые зоны, где любовь облачается в форму резонанса на смысловом уровне. Длинная цепочка эквивалентностей связывает всех влюбленных, девальвируя их цели. Фантазм заставляет переходить в сознание, перемещенные, скрытые, подавляемые желания, – он дает им слово. В акте любви субъект эквивалентен своему означающему. Атопичность любви состоит в том, что ее суть ускользает от всех, даже самых осторожных попыток концептуализации. В стремлении описать любовь, приходится иметь дело с языковым смешением, бартовской экспансией языка, – областью смятения, где языка одновременно оказывается слишком много и катастрофически недостаточно. Воздействие Реального на язык дает определенный эффект, благодаря чему субъект стремится стать важнейшим анонимным письмом, стать посланием без содержания, идентифицироваться с текстом без контекста.
Любящий – свое собственное дитя, пестующее себя и захваченное этим чувством собственного значения, которое говорит с нежностью и легко, без надежды на какое-либо получение ответа в принятой неравнозначности и асимметричности коммуникации. С некоторых пор мужчины не плачут, подстраивая способы своего горевания под тип шантажа, который своими слезами осуществляют вокруг себя, ведь любовное переживание, по отношению к неподверженному социализации источнику любви, предстает формой мошенничества. Слезы – послание тела, следствие работы желания, где влечение формируется в теле вне зависимости от внешнего объекта, а секс – способ угасания сексуального напряжения, торможения желания. Флегма, которую предполагает желание аналитика, возвращает желание на свое место. Подобным образом садист всегда является мазохистом и наоборот: перверсия всегда сопровождается своей инверсивной парой, содержащей симптом в качестве транскрипции. Что же является удовлетворительным эквивалентом сексуального наслаждения? Влюбленный гонится за признанием как маньяк за своей жертвой, расчеловечивая ее в порядке символического преобразования. Не случайно гормон testosterone, эволюционно призванный обеспечить коитальную связь, вызывает вместе с тем желание все уничтожить и поэтому используется в военной фармакологии. Если любовь случается, субъект, как правило, мучительно не понимает сути произошедшего, как и аналитик не контролирует анализ, отдавая себе отчет в том, что анализ может и не случиться в его присутствии, лишь в отсроченных эффектах сотворяя целые миры.
Ошибка восприятия чувственного опыта может выступать как особая форма познания. Любовь нема, как считал Новалис, и говорить ее заставляет лишь поэзия. Песнь о любви ничего не значит – в этом очевидно, что она даруется без пользы и смысла, как горсть песка, протягиваемая ребенком своей матери, как его протянутые к ней руки, как приносимая котом издыхающая мышь в знак подтверждения верности своему хозяину. Поэзия является насилием над языком, особенно если дело доходит до вопросов любви. Ненависть, отчаяние и сопротивление языка служат бессознательными опорами любовного переживания с его двойными значениями и структурой сигнифицированного узла, завязанного топологическим взаимодействием двух субъектов (!). Этот узел дает возможность наслаждаться чистым присутствием, пустым смыслом, коим наполнена пылкая речь любящего, в отличие от его желания. Субъект, как спустившийся с небес ангел, задыхается под давлением чудовищно довлеющего дискурса любви: он хочет вписать нечто определенное в каждого из тех, кто его желает, – произвести то, что в математике именуется катастрофой означающего, расстройством одной системы под действием влияния другой. В игре с присвоением стула, когда стульев на один меньше, чем играющих, они водят хоровод и как только пианист останавливается, каждый бросается к своему стулу, занимая его – кроме наименее быстрого, настойчивого и удачливого, который растерянно выбывает из игры. В этой ипостаси выступает любящий субъект, отказываясь от смелости и от морали, выбывая из довлеющего дискурса в область применения игры с имплицитными правилами.
В мужчине, говорящем о разлуке, в слезах горевания и его страдании, проявляется женское начало. Он незримо феминизируется не извращением, а любовью, бессознательным обретением качеств любимой во имя единения с ней. Их разлучение вызывает эмоциональную асфиксию, восстанавливает истину неуступчивости любви и такому типу реакций, несомненно, принадлежит будущее! Пруст неслучайно задается вопросом в A la recherche du temps perdu: «Откуда у нас смелость, желание жить, как мы можем совершить движение, спасающее нас от смерти в мире, где любовь побуждается ложью и заключается единственно в необходимости утоления наших страданий тем, что заставило нас страдать?» Жизнь, которая следует принципу придворной церемониальности любовного переживания, и произведения, которые дали возможность любовного переживания, взаимопроницаемы. Речь начинает действовать в изобретении новых форм на уровне культуры, где бесконтрольно размножаются смыслы и в основу которых положена ностальгия, нехватка, обвал воспоминаний. Направление мысли против любимого объекта и против себя – неотъемлемая составляющая любовного опыта. Существует такая благородная порода лошадей, которые прокусывают себе вену, чтобы им было легче дышать, когда их чрезмерно загоняют наездники. Героический персонаж реален в своем претерпевание трудностей, поскольку его образ соткан из проективной материи, в которой он созерцает и пересобирает себя, т. к. ему необходимо самоповреждение страданием. Причем то, что Шопенгауэр называет состраданием, более точно можно назвать единением в страдании, единством страдания. Страдание (психоанализ делает его условным как уголовное наказание применяется в области применения права) и боль возникают в пункте нехватки бытия. Тело страдает, когда перед ним стоит задача, которую оно не может разрешить средствами, имеющимися в его распоряжении. Искренне идентифицируясь со страданием другого, субъект сознает, что оно протекает без его участия и несчастлив тот оказался сам по себе, а следовательно, не он причина, он не в счет. Как же общество защищается от иррационального пафоса любовных страданий? Субъект, застигнув себя врасплох, идет к свету, чтобы сиять, видеть вещи в другом свете, – свете иного мира, который уже в нем и наделяет его новым качеством и новой плотностью бытия. Каждое новое означающее, симптоматически проявленное на уровне тела, напоминает сотрясение мозга. Непрочность и предубеждение против себя родом из детства, и это нечто большее, чем жизнь. Растроганность чувствами, как желудочки сердца или эрегированный фаллос наполняющиеся кровью, удерживают субъекта поле Воображаемого. Любопытно и то, как прекращает свое действие любовное переживание. Несомненно, потребность в трагедии есть в субъекте с самого начала. Развязавшийся психоз, как мы знаем, лишь уберегает от встречи с Реальным. Окончившаяся любовь удаляется в другой мир наподобие космического корабля, перестающего подавать радиосигналы и происходит это всегда не так, как ожидалось.
Распределение речевых благ сходно с перверсивным наслаждением в поле любовного опыта: сцена как способ предаваться наслаждению без риска рождения детей, но при участии взглядов других. Влюбленный отказывается выступать героем своей речи и подчиняться языку внушаемого всеобщего невроза, т. к. в любви он неизбежно изобретает свой неинклюзивный язык. Несходство в любви запускается как механизм извращенного оргазма, не расставляющего ничего на свои места. Свобода другого быть собой переживается как его малодушное упрямство, а осознание инаковости застает врасплох, подобно ребенку, разбирающему будильник с целью познания природы времени. Влюбленный реализуется в том, в чем он отклоняется от общепринятой нормы и объект не есть цель или предел для него! Объект реферирует то, на что направлено желание. Любящий, как и психотик, живет в боязни уже случившегося крушения (разнообразные формы психоза служат лишь средствами прикрытия, защиты от него), в страхе потери уже потерянного. В любовной тревоге всегда есть скорбь с момента восхищения. Великодушным решением влюбленный субъект водружает вполне бесцветный объект в центр своего обожания и совершает вокруг него свой, не всегда поддающийся интерпретации в существующей системе значений, ритуальный танец. Он стремится упразднить, покинуть объект и связанное с ним страдание, упрекая себя в этом и вынуждая к новым страданиям. Ведь сила любви заключена в самом языке. Встреча с объектом ослепляет, воодушевляет безудержную проекцию счастливого будущего, всему сущему говорящую «да», и меланхолическую страсть, полную зачарованной неподатливостью жертвы. Так ослепляет красота воплощением страха перед смертью, поэтому-то она всегда несовершенна, осушена страхом и желанием вооружиться в доспехи или стать оружием. Не существует способа заново открыть смысл любовного переживания (!) – но монологично, маниакально, субверсивно, а речь гетерологична и полна перверсивных изводов. Слово в любовной речи принадлежит к тем объектам, которые странным образом обладают существованием только исчезнув. Образ уставшего влюбленного, рассуждающего о своем положении, наполнен разрывающей двусмысленностью, неспособностью прочесть свое переживание и желанием укрыться от взглядов! Для природы мыслить неестественно; в наибольшей степени мыслить свойственно человеку, который любит, что делает его обладателем своей уникальной судьбы. Влюбленный в определенном смысле желает гибели всем тем, кто наиболее дорог его любимому существу, не загоняя его при этом в синтаксис, в предикативную конструкцию, признаваясь в любви таким образом, при котором не передается смысл, но это определенно привязано к предельной ситуации, где субъект замирает в зеркальном отношении к другому. Это и есть отголоски того Holophrasis, что позволяет, видя себя любящим в антураже всего того, что было прошлым, сформировать новую версию себя.
Мозг запрограммирован думать о социуме и месте субъекта в нем. Страх публичного выступления, как показывают исследования Либермана, пугает человека гораздо сильнее страха смерти. Боль выступает механизмом выживания, но боль сломанной руки и боль брошенного влюбленного далеко не эквивалентны. Становиться собой для человека вообще крайне болезненно, а подростковое отчаяние, неизменно сопряженное с любовным переживанием (у подростка нет опыта отношений любви во взрослом состоянии), в котором все рушится и все причиняет непримиримую боль, указывая путь бессознательного желания. Ребенок – это результат привязанности других и без других он не имеет шансов выжить. Его нейросеть синхронизируется в процессе коммуникации взрослого и ребенка во время игры – образуется своего рода межличностная нейронная связь. В классическом понимании первичное согласие ребенка должно быть отвергнуто, чтобы возник доступ к бессознательному. Социальная боль, посредством которой субъект пытается привлечь к себе внимание, отражает боль существования в мире. Крик детеныша, выпадающего из родительского гнезда, порой служит не требованием еды, а приглашением к обеду для охотников. Ведь не субъект решает, что и когда сказать, а его бессознательное желание, его субъект бессознательного. Резонирует именно то в другом, что узнается через свое собственное тело и когда вдвоем становится более свободно, чем поодиночке. Итак, научная мысль склонна, как и любовное переживание, к параноидному психозу, к отказу признавать свой исток, чем пылающий в ночи костер смысла призывает хайдеггерианский восход бытия. Научная мысль зиждется на возможности коммуникации, всеобщего согласия и свидетельства, – она связывает субъекта с человечеством в этом пресловутом жонглерском круговороте Реального, Воображаемого и Символического.
Для любви необходимо расстройство всех чувств. Идеализация объекта любви отсылает к своего рода регрессивному механизму защиты от стихийных разрушительных послесловий для Я, к частичному проецированию первичного нарциссизма на объект. Субъект лишается тем самым собственного нарциссизма, возможности наслаждаться бытием, т. к. единственным герметизированным предметом желания субъекта является не он сам, а его желание как иллюзия. Решением становится формирование нового амбивалентного отношения к объекту, в условиях вторжения Реального с определенным упразднением идеализации. Воображение делает другого в любви волнующим, уникальным и опасным, т. к. отныне жизнь в большей мере зависит от отношений с ним и с его слабостями, с помещением (и немедленным возращением) в него всего того, что представляет для Я ценность. Субъект отходит от себя, создавая определенную дистанцию, создавая условия для собственного расширения (освоения неведомого) инвертированием (важно, чтобы оно не было тотальным) своего аутоэротического влечения в объект любви. Субъект неосознанно становится агентом под прикрытием разрушающих его сил, ухитряясь бессознательно отточить и увековечить перенесенную в раннем опыте боль, вызвавшую впоследствии необходимость горевания. Он не дает себе стать победителем (!), страшась сокрушающего его успеха, совершает преступления для того, чтобы быть пойманным и наказанным за основное воображаемое преступление, последствием которого становится порожденная Сверх-Я, полная болезненных реакций, зависимость от другого.
Ничего однозначного в любовном опыте не обнаруживается. Первичная форма желания предстает как желание расставаться, а непосредственно разлучает недостаточная проявленность желания. Когда объект желания – продукт тревоги, характер объекта делает возможной определенного рода уступку. Ведь человеческое существо получает желание, уже несущее в себе неизвестную ему опасность, имеющую несводимый остаток символизации в месте Другого. Человеческая судьба не комична по своей природе, а трагична и это связано с тем, как стала возможной сама культура, и поэтому, в значительной степени: любить – значит умирать вместе. Очевидно, что желание ослабевает тогда, когда его Идеал оказывается сокрушен, поколеблен, а идеализация не становится верным признаком несостоятельности. На пьедестал утраченного объекта водружается следующий объект, возникает некая вереница, поскольку объект оказывается не распознан в выходе за свои пределы и воссоединении со своей причиной. Вереница на месте объекта желания прекрасно иллюстрируется метафорой женской красоты: девушка отражает красоту, не принадлежащую ей, как стекла домов отражают рассвет или закат солнца, а потом солнце перемещается уже на другие стекла и его отражают уже другие дома, другие поверхности. Другой выступает в облике другого субъекта, тогда как объект желания остается для субъекта неузнаваемым. Причем, доступ субъекта к желанию открывается тогда, когда он подменяет собой одного из собственных двойников, какой бы загадочной читающему эти строки данная формулировка не показалась. Логичным ответом на утрату объекта становится тревога. Утраченный объект располагается в сердцевине Другого, к которому субъект обращается со своим требованием любви и утрата становится ценой, выплачиваемой субъектом за то, чтобы оставаться живым. Если не удастся уничтожить объект, значит он есть – принцип, который носит характер психической защиты. Где, то надтреснутое дно Другого, его провал, на уровне которого возможным становится функционирование, не искаженное физиологией или внутренним давлением, Сверх-Я? Где неконтролируем процесс вторжения одной части Я в другую и где для любви другой не нужен. Призыв Христа быть не от мира сего и превозмочь его, оставаясь в нем (Иоанн 14:27), – по сути есть призыв убить в себе желание выжить, обретя взамен безудержную и неутолимую жажду жизни. Трудно не признать, что библейские сюжеты подтверждают нечто такое, чему более нигде подтверждения не находится. Религия возвращает доступ к сексуальности в ее неовеществленной форме, но совсем не к инфантильному взаимодействию на генитальном уровне. Изначально желание Бога лежит в основе картины мира у психотика и в некотором смысле задает рамку осознания у невротика через вхождение в язык. Собственно, поэтому перенос не отличен от любви, в том смысле, что Другой стоит между мужчиной и женщиной, как меч между Тристаном и Изольдой, следуя своей куртуазной функции. Дети не приходят в мир от родителей, даже не из древнего рода, не рождаются из первичных органических цепочек – это не начало, но скорее некий рубеж, представляющий собой понимание того, что происхождение не укладывается в существование на материальном уровне. Влечение к смерти частично отражает стремление вернуться к исходной форме желания, находящей себе прибежище в детских впечатлениях, мечтах, первой любви. Отношение к знанию не случайно столь эротизировано, а природа накопления знания предстает чем-то сродни оргазму: субъект неизбежно, вновь оказывается в прежней точке, как и в развертке любовных отношений.
Промежуточным звеном между желанием и наслаждением выступает тревога, поскольку желание формируется лишь тогда, когда фаза тревоги оказывается пройдена. Тревога, в свою очередь, отсылает не только к реализации желания, но и к негативной функции, принимающей на уровне субъекта форму невосполнимой утраты. Опыт любви предполагает сублимацию желания в культурных координатах. Предъявлять себя в качестве желающего (в качестве нехватки) субъекту весьма рискованно, но именно этот пассаж открывает возможность наслаждения собственным бытием. Риск оказаться любимым создает нарциссическую конструкцию, в которой что-то неизбежно оказывается упущенную. Другой питается этим упущением (символической кастрацией), учитывая тот почерпнутый из данных наблюдений факт, что любовью тревога отнюдь не преодолевается. В любви требуется отдать другому свое бытие, что недвусмысленно отсылает к кастрации. Женский мазохизм является продуктом мужского фантазма, в котором женщина находит поддержку своему наслаждению, задействуя тревогу. Не случайно в христианской этике женщина является производным мужчины, сфабрикованным из того, что было им в виде ребра утрачено. Желание всегда скрывает собой тревогу, а мужчина являет собой не что иное, как фантазию женщины. В мужском царстве дело никогда не обходится без самозванного царя, поскольку то, чем женщина в сексуальном смысле распоряжается, у нее есть, тогда как для мужчины продемонстрировать свое желание – значит обнажить то, чего у него нет. Образ самозванного царя в царстве Отца, обращает к сложным отношениям субъекта со своим желанием, с абсолютным объектом, который оказывается размыт в момент восхождения на трон самозванца. Когда женщина чувствует обращенное на нее желание, чувствует себя привилегированным объектом этого желания, бегство – единственная стратегия, которую она неизменно избирает. Фундаментальный миф, уходящий корнями в глубокую традицию первичного желания – миф о Сете и Осирисе, утратившем свой детородный орган, что, впрочем, не сделало его менее привлекательным для женщин. Напротив, это привнесло определенный порядок, став своего рода игрой в поддавки. Сет и Гор мифологически объединены в Херуифи – единое двухголовое божество, покровительствующее чужестранцам. В кастрации можно усмотреть контекст праздника, ритуала освящения, инициации, отправного пункта оформления желания и ориентирование субъекта по отношению к нему. Именно в этом ноэтическом, аполлоническом поле отношений с желанием возникает нулевой уровень напряжения (принцип нирваны), лежащий в основе созерцания и упразднения центра Я размещением объекта желания на нулевом уровне. Нулевой уровень напряжения достигается перенапряжением, как Новое в любом случае начинается с нуля: когда субъект спит, за него не спит его бессознательное. Желание иллюзорно в силу остатка, образовавшегося в отношениях субъекта с Другими, которые оно собой подменяет, как иллюзорен всемогущий, всегда призванный быть устойчивым и непоколебимым фаллос. Все здесь строится на обмане и признании изначальной ограниченности. К примеру, в ходе процесса эволюции глаз появляется на уровне организмов, не имеющих с человеком ничего общего. Именно поэтому с самого начала в функции взгляда ключевая роль принадлежит иллюзии, обману, – первичному по отношению к обнаруживающему его зрению. Мы видим мир глазами, но глаз, в сущности, является зеркалом. На этом основано и эстетическое восприятие пространства как некой окончательной данности и восприятие любимого объекта как данности, не ставящейся под сомнение. Ближе всего к реальности желания удалось приблизиться мистикам, которым свойственно помещать функцию желания в зрительное поле и рассматривать его иллюзорный характер как последнее слово опыта, в котором желание и тревога определенно совпадают, синхронизируются.
Стоит задуматься о том, к чему отсылает тревога, связанная с кастрацией, учитывая, что фаллос функционирует в качестве посредника, избегая фаллической стадии. Требование сокрушается удовлетворением потребности, поскольку соитие предстает как нечто трансцендентное, потустороннее индивидуальному существованию. Нельзя обойти вниманием строгое соответствие между проявлением разделения на два пола и возникновением функции, заложенной в событии индивидуальной смерти (!). Субъект требует удовлетворения, которое имеет отношение к смерти и требование это является по природе своей ограниченным, не заходящим слишком далеко. Любовь находится в прочной связи со смертью и с измерением комического постольку, поскольку возникновение тревоги при некоторых способах достижения оргазма обусловлено тем, что тревога возникает по мере отдаления оргазма от содержания требования (!), обращенного к Другому. Тревога перед лицом смерти, локализованная в страхе кастрации как сигнал об опасности для Я, близко соприкасается с областью, в которой смерть прочно увязана с обновлением жизни (!) и явно выходит здесь за свои пределы. Поддержание обновления жизни способно бесконечно следовать зову наслаждения до предела, всегда по своей сути имеющего трагическую природу. Как только субъекту надлежит быть принесенным в жертву, он обнаруживается там, где уже сошел со сцены, устроенной по законам объектных отношений, к отношениям совсем иного уровня. Причем, женское наслаждение никогда пика мужского желания не достигает, обеспечивая тем самым отсутствие органических пересечений: дефолт мужского желания обеспечивает женщине обладание фаллосом, который, становясь местом общей тревоги, позволяет мужскому и женскому желанию соприкоснуться ценой собственного исчезновения (местом объединения мужского и женского желания выступает влагалище). Фаллический символ, собственно, и функционирует для того, чтобы не возникала тревога, являясь посредником между мужским и женским желанием и обнаруживаясь как нехватка, недостача. Непонимание этого обыкновенно дает повод прийти к самым многочисленным недоразумениям. В ходе анализа женщина так или иначе обретает фаллос как объект притязаний, способный поддержать желание в своей приверженности к атрибутам мужского всемогущества. Субъект принимает на себя ответственность за неудачу Другого в своей генитальной реализации, которая и выводит из тупика желания (безысходной позиции искупительной жертвы), образуя окольными путями тревогу как неминуемый момент разрешения отношений субъекта с Другим.
Любовь позволяет получить опыт следования своему желанию, подобно комете на небосклоне, которой не должно быть среди светил со своей заданной траекторией. Субъект реален постольку, поскольку он желает и желание его бесконечно, неисчерпаемо: оно не затихает, не теряет силу, вечно экспансируется, расширяет пределы возможного. За желанным объектом всегда стоит тот, кто его желает, и это ослепительное, одухотворяющее желание является действенным признаком жизни как таковой. Вселенная саморасширяется силой желания, хотя сама материя и связанная с ней устоявшаяся система, противится пробуждению неконтролируемой мощи желания. Мертвая рыба способна плыть только по течению, а живая может отважиться плыть против течения. Руководствуясь стыдом, взрощенным на почве семейной истории, отвращением и законом, субъект научается умерщвлять собственное желание в целях выживания, следствием чего становится раскол желания, сжавшегося до потребности, причем иррациональная часть отчуждается вовне, став объектом, который вызывает соответствующие стыд и отвращение, – одномерным, лишенным опасности объектом, непосредственно включенным в отношения социального господства. Возвращение силы желания неизменно предполагает возвращение отвратительных объектов и интеграцию их маргинального значения в Я. Любовь отражает таким образом стремление к тому, чего нельзя достичь! Ничего однозначного в любви нет, особенно у субъекта, благодаря особенностям переживания атопичного своему социуму. Доказательство любви что-то необратимо разрушает в ее структуре. Имеет место определенного рода уступка (!), связанная с особенностями функционирования сексуальных отношений. Любовь возникает из родства, особенно если это героическая, самоотверженная форма любви, учитывая тот факт, что воспоминания служат ей твердой основой. В любви Я подвергается сверхдетерминированному расщеплению, т. к. реальность претерпевает определенным образом сформированное отклонение. Ведь личность размещается снаружи, являясь частью сложной структуры отношений, берущих начало в Я. Так обнаруживается структурная потеря себя в Другом, т. к. вхождение в язык эквивалентно потере субъектом значительной части себя (…). Желание, которое не решается себя назвать, вызывает к жизни отнюдь не неполнота или пробел в опыте восприятия другого, а когда-то утраченный объект, поверхность, воображаемый фаллос матери, возможность видеть то, чего субъект желает, не оглядываясь на возможность получить запретный плод, возможность иного пути, фантазм, с его конкретными означающими и не менее конкретным желанием Другого.
Субъект признает, что не знает истину, которая является истиной Реального. Он признает истину неполноты, логически сочленяя означающее с возвращением истины, поврежденной и скомпрометированной, вторичной по своему происхождению. Отстаивая истину, которой не владеет, он встает насмерть, сознавая всю невозможность одержать верх в регистре господской позиции. Фаллический компонент, питающий это доблестное восстание, выступает объединяющим началом любви и истины неполноты. Здесь есть снования говорить о слове, предшествующем субъекту, которое воссоздает его из пустоты пространства и оставляет травматичные следы на телесном уровне, по которым циркулирует желание. Отдельная черта не отсылает к чему-то единому, а строго логически предшествует субъекту. Именно сублимация запускается единичной чертой, предшествующей идентификации! Понимание, состоящее в том, что вначале было нерасчлененное единство, противоречит принципу движущейся гармонии мифа как стихийному и чувственному выражению бесконечности. Означающие же, с которыми идентифицируется субъект в ходе развития, впоследствии служат его метафорой. Фаллическое означающее представляет собой незаполнимую дыру и любопытно то, что физическая гравитационная модель описывает тело именно как набор дыр, по кромке которых перемещается субъект без возможности смены точки своего мысленного взора. Субъект не совпадет с высказанным им содержанием, т. к. он являет собой нечто, скрытое за фаллическим означающим. Топологическое преобразование пространства вокруг пустот, логика расщепления, добавляющая край, здесь дает возможность последующих склеиваний и рассечений. Если разрез отсылает к кастрации, то процедуру склеивания можно отнести к функции последующих монтажных идентификаций. Это можно без труда проиллюстрировать в метафоре диффузии камней и костей животных предков в толще почвы. Кроме того, чистота желания достигается опустошением: чем интенсивнее влечение к объекту, тем меньше его объектное содержание. Лишь бегство от признания маленьких других становится достаточным доказательством чистоты мотива с этической точки зрения. Неразрешенная, но уже случившаяся, безответная любовь оборачивается субъектом на себя, благодаря чему он укореняется в символическом порядке в череде идентификаций, образующих психическую реальность. Любой путь лишен смысла, кроме пути следования любви. Психическая реальность обретает фундамент и ренулируется в отрицании, в многообразии высших форм культуры и именно поэтому в бессознательном потеря одного объекта чревата обретением множества. Настоящая любовь одна – она, будучи неанаклитичной, необратима и неисследима (!). Ощущение боли безответной любви остается неосознанным переживанием, формирующим удвоение реальности, в которой боль смешивается со всеми базовыми переживаниями. Она включается, когда происходит контакт с внутренней моделью устройства реальности, хотя на уровне Воображаемого она воспринимается частью этого мира, т. к. ее функция заключается в суммировании опыта восприятия окружающего мира и приближении Реального в конкретной репрезентации. Любящий знает о своем незнании, предлагая его другому! Психотерапия, никогда не имевшая достаточных теоретических оснований, предстает как абсурд, заключающий в себе игру одного шизофреника с другим при помощи диссоциирующего их языка и на основании того, что можно соотнести с любовным опытом. Шизофрения структурно близка к любви в символическом порядке разлада с собой и страха распада рядовой конфигурации значений. Любовь подталкивает к невозможному, лишенному воображаемого смысла. Реальное, невозможное без разрыва внешнего порядка, напротив, не зная насыщения, подпитывается вещами, имеющими смысл (les choses sensees), и действиями, производимыми с этими вещами. Происходит переворот в изобретении способа чтения знаков. Мотив любовного переживания состоит не в удовлетворении, которое приносит знание, а в наслаждении, которое неизменно доставляет сама речь. Объект желания никогда не является окончательным, удваиваясь тем обстоятельством, что олицетворяет принципиально разрушительный для субьекта распад, с которым он не находит сил объединиться, – найти скрепы, объединяющие его с реальностью, и не допускающие при этом пленения собственным образом. Чистота мотива достигается и уходом от признания со стороны ближних, при сохранении неизбывного стремления к признанию Другим. Поэтому любовный опыт порой оказывается несовместим с жизнью, т. к. подобного рода борьба за внимание выходит далеко за пределы всякого гомеостаза.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































