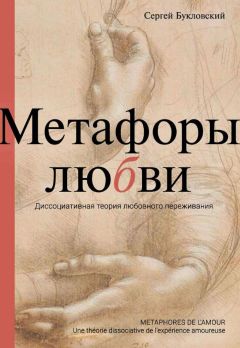
Автор книги: Сергей Букловский
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Проявляя требовательность к строгости собственных формулировок, которые призваны сгущать смысл, приглашать к раскрытию мысли и внушать порой интеллектуальное опасение, по отношению к которому субъект является не господином, а жертвой, можно с уверенностью констатировать: экзистенциальной и неотменимо амбициозной перспективой является внесение духа романтизма в современный психоаналитический дискурс. Необходимость этого так же очевидна, как необходимость логоса получить власть над животным в одержимой идеей чуждого закона и невротизированной, глубоко противоестественной человеческой истории. Вывести закон – означает вывести лишенную значения формулу, и чем меньше она означает, тем более она оказывается подходящей. Именно поэтому так зачаровывает своим романтическим отсутствием значения теория относительности, ведь она представляет собой чистой воды означающее. Благодаря этому мы видим мир, лежащий перед нами целостно, и чем более означающее ничего не значит, тем неразрушимее его основание внутри большой теории и различных способов группировки значений. В анализе постигается преждевременное знание смерти, при котором содержание разрывает форму, образуя фрейм метафоры, переводя симптом в вид дискурсивного множества – метафора производит новый объект, образуя ресурс субъекта, его мерность и глубину! Происходит возникновение желания в речи, в метонимическом скольжении от одного слова к другому, от означающего к другому означающему, от значения к значению, от одного имени к другому. Аналитик обращается к бессознательному, а точнее к тому, чего нет на уровне слов, – к отсутствию, лежащему в сердцевине субъекта. Означающее, по сути, представляет собой инструмент, которым заявляет о себе исчезнувшее означаемое. Означающее не зависит от значения, а, как известно, является его источником, поскольку реальность субъекта – это реальность традиции, переданная и унаследованная посредством той речи, которая звучит вокруг субъекта с первых дней его жизни. След бессознательного в речи несет в себе знак отсутствия: любая интерпретация бессильна связать его с прошлым субъекта. Современный анализ не соразмерен утонченному человеку, который по определению атопичен своему социуму, – он усматривает в духе романтизма то, что представляется якобы знающим венцом творения. Вотчина его практики пролегает между реалистической традицией мысли и традицией греческой трагедии, где субъект пленен, терзаем глубинной структурой языка. В противостоянии тяжелой власти земли, нетрудно представить себе личностные черты как неких существ, совокупляющихся и сопрягающихся между собой в различных комбинациях, образуя множества и древний род, история которого полна череды убийств, кровосмесительных связей, эпических падений, инфернальных пророчеств, преступлений, перверсий, прочих метаморфоз логического и этического порядка. Вопрошание и становление, в определенном смысле, противоположны друг другу, а процесс анализа недвусмысленно подрывает цели лечения, восполнения функций психического, компенсации утраченного здоровья. Для анализа, как и для любви, необходимо расстройство всех чувств. Система представлений воспроизводит себя внутри себя же самой в необычайных, устрашающих формах, как и странность самого объекта исследования в психоанализе «не перестает не писаться» в силу своих впечатляющих смысловых резонансов, которые дают возможность перестройки всей структуры социальной связи. Одному Богу известно, ценой каких взаимоисключающих формул собственной жизни удается субъекту из тупика рациональной интерпретации выбраться, ступая на героический путь борьбы за возможность собственного бессознательного становления. Анализ у каждого свой – это и есть практика различия. Именно поэтому в момент, когда двери кабинета закрываются, ни о какой теории уже не может идти речь, и теряется возможность передать происходящее на уровне слов. Аналитический опыт в известном смысле представляет собой непристойную связь, покоящуюся на воображаемом присвоении объекта, выделенного из фантазмов. Большая теория всегда застенчива, поскольку за всем, что происходит, стоит нечто большее. Субъект расщеплен на то, что он о себе знает, и то, чего он о себе не знает: – на то, что вытесняется, и то, что идеализируется! Мир субъекта – его собственная галлюцинация, в пиковых точках предполагающая столь вожделенный огненный поток интуиции. Его Я вечно ускользает, а мировые сумерки, закат и упадок, дезорганизация и путаница в восприятии реальности наступают в силу того, что миру субъекта предстоит быть сотворенным заново! Существует выраженный дисбаланс между акцентом психоанализа на желании и его подрывным потенциалом, который сейчас притуплен как современным карикатурным индивидуализмом в отношении любви, так и тем, что происходит в самом психоаналитическом сообществе, препятствуя возвращению духа пробуждения. Любящий остается в одиночестве, и это дает ему полную свободу, какую открывает для себя мыслящий субъект благодаря заражению психоаналитической логикой. Нам остаются лишь попытки, в которых психоанализ начинает заново обретать тело большой теории. Сегодняшний взаимно резкий тон является отражением превращенной формой тревоги, связанной с предчувствуемым исчерпанием возможностей повестки, которая их сформировала. Авторский аналитический стиль продиктован необходимостью и паразитирует на субъекте в форме прерванных императивов Сверх-Я. У психологии и психоанализа еще не было случая сущностно сблизить свои позиции: в основе этого сближения могла бы лежать способность к разработке гениальных форм анализа как открытой системы, подобно заражению чумой, – ничего не исключая в своем становлении и минуя страсть к сосредоточению внимания на конвенциональных узлах теоретического устройства.
I. Амбивалентность любовного переживания. Ноэтические основания переноса
Мысль о любви упирается в строго субъективный опыт – как пожар в прериях, который виден лишь одному субъекту, – в то, как его любимая проводит рукой по волосам, смотрит на него или играет со своим котом. Но тот, кто занят субъективным, всегда создает собственную теорию любви, превращая чувство в мысль. Научность психоанализа объяснима преимущественно в том смысле, в котором он является наукой о любви. Вдохновляет не то, что мы знаем о любви, а то, что любовь знает о нас как заданный Идеалом Я объективный всеохватывающий процесс, протекающий сквозь сердцевину ядра субъекта и тем самым делающий его уникальным. Процесс считается объективным потому, что в основе переживания лежит совокупность процессов: работа нейросетей мозга, предыдущий опыт, гормональный фон, культурные детерминанты, бессознательные процессы, особенности коммуникации, уровень энергии и т. д. Поэтому столь важно выделить в работе с сопротивлением именно то, что идет непосредственно от самого Я. Именно в любви происходит столкновение с бытием как таковым, поскольку именно в любви субъект встает на ноги, обнаруживает свое место. В этом смысле, только параноик может любить по-настоящему и более-менее представляет как обстоит дело на самом деле, хотя именно параноидальность, наплодившая бесконечное множество недоразумений в осмыслении желания, затерявшегося в биологических координатах и, несомненно, имеющее «кровавое прошлое», представляет собой пункт снятия возможности забывать. А возможность забывать размещает субъекта в Символическом посредством эффекта пропущенного начала. В основе лежит инерция как идеальная форма существования отклонения, образующая поверхность реальность мазками так, чтобы неутешительный ответ на вопрос «почему же ничего не происходит?» был найден не на уровне театрализации постыдной семейной истории, а на уровне определяющего для любовного переживания логического разрыва. Психоанализ позволят получить представление о том, что заставляет субъекта любить и что побуждает его желать, распознать неслучайные сходства, устанавливаемые непосредственно на уровне языка, расшифровать базовые образы и символические артикуляции, а также установить логические связи в отношениях. Порой любовь вспыхивает как раскат грома, как маньяк, появившийся в темном переулке. Образ любимого объекта – способ обладания фрагментом реальности между субъектом и объектом, носящая экспериментальный характер манифестация психического в акте восприятия. Влечения вступают в отношения с образом, представляющим собой отражение образа собственного тела, поскольку Я первично структурируется и впоследствии пересобирается исключительно как интерпретация Идеала Я. Именно поэтому любящий переносит свой аффект на неведомый ему объект желания в качестве образа другого, а сам Идеал образуется как след пережитого желания, объектом которого субъект являлся изначально! Субъект, расщепленный уже своим пребыванием во вселенной языка (планом содержания и планом выражения), подвержен актуальной истериоризации, отказываясь от идентификации с объектом и неустанно ставя под сомнение свое существование в модусе наслаждения, он хочет знать о том, кто он и каким путем ему предстоит пройти через горнило своего желанию. Чем ближе мы приближаемся к истокам психического переживания, тем больше оказываемся перед лицом чего-то критического, сфабрикованного, довлеющего, – того, что компенсирует различие отклонением. Так субъект, затронув нечто принципиальное, отходит в сторону и определенным образом раздваивается. Желание и бессознательное желание принципиально не пересекаются в субъекте, поэтому он мечется в расщеплении между желанием и желанием остаться кем-то конкретным, превращая опыт в ресурс, а любимый объект во внешнюю (вынесенную вовне) часть себя. Эта амбивалентность, заключенная в любви, однозначно получает в развитии теории наибольший резонанс.
Не бывает идеального входа в анализ, как не бывает идеального любовного опыта, т. к. дискурс прерывается, порождая эффект диссоциации. Любовный опыт, как и опыт научного открытия, требует признания невозможного, выносимой встречи с Реальным в другом, образующей заузливание на уровне тел. Переживание, избегая интеллектуализации, меняет логическую модальность в регистре отношения к смерти, – в регистре, где всегда что-то не клеится, и где субъект полон решимости отрицать все, кроме любви, зримо меняющей его природу. Длительность аналитической сессии в этом смысле метафорична любовному переживанию. Способность к любовному переживанию не является характеристикой человеческого порядка, но, скорее, инициацией. Любое вовлечение в переживание опирается на предыдущий опыт переживания. Именно поэтому уважение к бессмысленному ритуалу, обряду или таинству в любви, как и флер, образованный вокруг психоаналитической практики, приносит свои плоды, скрепляя весь социальный уклад. Сама жизнь – это единственная и неповторимая попытка создания любовной связи, задействующая непостижимый опыт прикосновения к Реальному и фундаментальное осознание важности связей, причем непостижимость здесь служит фундаментальным основанием глубоко человеческого переживания. Двойник субъекта, содержащий объект желания, вызывает, классическим образом понимаемое, влечение к смерти в качестве защиты от конечности непредсказуемого, при помощи логических инструментов и открытия доступа к измерению Реального. Аватарами спасительно выпадающего объекта желания выступает голос, взгляд, грудь, воображаемый фаллос, экскременты, поток мочи, фонема и ничто (Lacan; Écrits, р. 817). Объект одновременно и умерщвляет, и предстает средоточием жизни. Фаллический объект неминуемо терпит крах на фоне величия, бросая тень на главенство означающего при удержании сцепок реальности, в силу того что измерение сексуальности изначально ознаменовано неудачей, промахом, несклеивающимся тревожным содержанием. Само устройство психики является преградой и одновременно возможностью для любовного переживания. Эту возможность, избегающую отбрасывания как страсти невежества (особой формы знания), питает упорная решимость к познанию своей вытесненной природы и природы другого, во всей ее изначальной сфальсифицированности. Желание любить – желание огромной силы, рождается в преодолении рабства вытеснения расширением условий любви – повышением градуса в отношении страха смерти, притормаживанием моментальной разрядки как эволюционно сложившейся системы безопасности и выживания.
Содержание переживания относится к символическому регистру, эффекту метафоры – эффекту замены одного означающего другим, двигающемуся по бороздам дискурса. Ведь сексуальность одна, учитывая особенности диспозитива наслаждения. Наслаждение связанно с запретом и содержит несимволизируемое начало – невыразимое, не поддающееся пониманию, бесконечное, бьющее как горный родник в событии тела. Запись любовного опыта в психическом, который станет впоследствии бессознательным знанием, прочно увязана с первичными браздами символического порядка на плоти, метками прочерчивания пунктирными линиям означающего порядка Другого. Сам опыт служит дешифратором в поле обнажения фантазма, в поле соприкосновения бессознательного знания двух субъектов за пределами их отношений. Субъекту жизненно необходимо внести что-что свое, отмеченное измерением невозможности, от первого лица, своего рода бред, порождающий устойчивое непроницаемое знание. Именно поэтому бред, привнесенный писателями и художниками (достаточно прочесть сказки Гофмана или Андерсена), доставляет такое неизгладимое удовольствие. Субъект в ходе становления оставляет не принадлежащие ему символические следы, интересующие аналитика в первую очередь. Отклик другого предполагает взаимное наложение разнородных измерений и соподчиненных уровней, составляющих основу сценического понимания (Lorenzer). Кроме того, знание это постоянно перезаписывается, и перезапись эта производится силой желания. Любовный опыт предполагает блуждания и встречу с означающим у кромки эрогенной зоны, следствием чего становится шрам кастрации. Таким образом наслаждение трансформируется из аутоэротического в фаллическое (временно прекращающееся оргиастический разрядкой), а наслаждающееся тело расходится с опытом любви, не имея возможности сочленения. Субъект потрясен в своих основаниях содержанием любовного опыта, где отчетливо проступает Реальное! Любовь непредсказуемым образом уберегает его от того, присутствия чего он не в силах вынести. Причем, чем больше переживание приносит наслаждения, тем меньше ориентировано оно на обретение смысла.
В сердцевине любовного переживания лежит установка на ее противоположность: на отсутствие чувств. Субъекту свойственно принимать ответственность за любовь к себе, за патологическую близость к миру любящего его существа, которое обещает исполнить ожидания высшего порядка и лишает одиночества. Субъект исполняет роль пришельца, который подсмотрел, как чувствуют другие, но у которого нет своей планеты во вселенной, на которую он мог бы вернуться. Это происходит вместе с моментом разочарования в обещаниях любви, прикрывающих всегда присутствующее отсутствие! Психоанализ предлагает немыслимо бесстыдным образом говорить буквально все, минуя уровень идеального как тайну происхождения жизни, которую и призван сообщить голос любимого! Сексуальность в данном случае является вымыслом, принимающим форму вторжения, углубляющего различие. Можно уверенно говорить о затушевывании догадки о то, что «все сексуально» в моменте первоначального экзистенциального ответа на требование, в момент перехода к инаугурационному одиночеству, ведь наслаждение отпечатывается на теле как отсутствие смысла (ab-sens) или свойственное еще римлянам отсутствие инцестуозного события. Отсутствие ответа (пустота) предстает как асоциальная модуляция свободы, как возведение спекулятивной границы, как реакция на невозможность и структурный провал в знании. Любовь возникает из внезапного возникшего изъяна в логике мироздания! Интерпретация игры желания производится нейтральным образом, исходя из сексуальной ответственности, смягчающей возможный драматизм эротического напряжения, его неизбежный эксцесс.
В любовном переживании ничто не ускользает от всеобъемлющей необходимости, поскольку на нем лежит неизгладимая печать неудовлетворенного желания. Субъект причудливым образом извлекает себя из общего течения времени, погружаясь в ничем не ограниченную длительность, которой отмечено его переживание времени. Конструкция, возведенная вокруг этого, разрушается, и экстатическая утрата связности, оставшаяся постфактум, вливается в поток живых воспоминаний, погружая в антураж прошлого. Здесь аналитический опыт может оказаться плодотворным в том случае, если он проверяет рабочую гипотезу, а объект желания, имеющий отчетливо воображаемую природу и сознающий власть своего обаяния, появляется во всей своей сложности как объект, прямо подчиненный закону Другого! Попав в сети желания другого, вновь и вновь скрытым образом переживая его надежду, субъект чувствует, как возобновляется его собственное желание и особого рода неудовлетворенность (преждевременно пробужденное желание, незамедлительно удовлетворенное, будет нести на себе печать нереализованности больше, чем любое другое). Тот, кто желает обрести любимый объект, стремится, в свою очередь, быть центральным объектом его фантазий, движимый страстью быть любимым, изолирующей реальность и потакающей самым экстравагантным капризам, благодаря которым субъект оказывается любимым сверх всякой меры. В истории обсессивного субъекта происходит расслоение влечения, находит подтверждение преждевременное удовлетворение, которое блокирует контур требования и в рациональной поддержке которого проблескивает влечение смерти. Именно по структурным причинам желание отмечено отклонением и расслоением, которым оно обязано фантазму и тому, что оно играет роль метафоры/метонимии в отношениях субъекта с бытием, призыв к которому осуществлен именно тем, что его недостает в переживании, оно призывает получить завершение только постольку, поскольку субъект устраняется. Переживание активирует весь пул эмоций, что помимо прочего говорит о том, что нерасчленимость объекта является мифом в чистом виде. Желание никогда не действует напрямую, действуя таким образом, в котором субъекту только предстоит распознать себя в антураже всего того, что было его прошлым, беря за горло собственную судьбу. Фрейдовское унижение любовной жизни – лишь отражение острой нехватки, непреодолимого предела, с которым встречается субъект, обреченный на погружение в язык. И в том момент, когда субъект достигает возможности свободно говорить с любимым о себе, отношения приобретают не найденное, а привнесенное значение своего уникального решения вне всякой стандартизации! Причем, чем меньше возможность установления связи, тем больше содержания передается по этому каналу. Связь – это компенсированное одиночество, порождающее свою реальность! Под установленной в действительности связью следует понимать калейдоскопичным образом возникшие воображаемые созвучия собственного «санскрита» – придуманные звуки и значения, поддерживающие сверхстихийное чувство сопричастности и оставляющие органический след. В любви субъект получает рискованную возможность инвестировать свое самое сокровенное содержание и это может оказаться жестокой ловушкой. Событие встречи с любимым объектом (tomber amoureux) предстает событием того же порядка, что и значимое научное открытие, распахивающее двери расстройству привычного и выносимого понимания порядка устройства субъекта. Точнее, событие встречи производит разрыв в представлениях субъекта о себе, избавляющий его от принадлежности в отношениях с истиной различия, – разрыв определяет различие в качестве фундаментального различия. Субъект не случайно достигает максимума сексуального удовольствия на пике тревоги и стремится воспроизвести эти обстоятельства вновь и вновь. Там, где в культуре отсутствует нехватка, профанация и невозможность эроса гарантированы. При любом вмешательстве в перенос один субъект никогда не уравновешивает другого – каждый из них просчитывается, т. к. оказывается по ту сторону желания, а желание, как известно, не имеет к объекту любви никакого отношения – выбор объекта не мотивирован ничем. Принципиально то, что толкает на поиск объекта, в привязке к изначальной утрате, которая и делает возможным любовное переживание, движимое нехваткой! Объект лишен реальной субстанции в силу своей исключительно символической нагрузки. Это вопрос пространства любовного переживания, исключенного из пространства между двумя субъектами. Происходит недвусмысленное изъятие любовного опыта из структуры воображаемых (нарциссических) отношений. В аффекте любовного переживания субъект охвачен истиной преждевременной конечности (!), определяющей разделение его следствия. Обладать нехваткой невозможно, но можно предаться ее действию (для чего субъекту требуется «не быть») по ту сторону воображаемого регистра. Ведь несовершенство в поле любовного опыта выше любого совершенства, и то, чего не хватает одному субъекту, совсем не является тем, чего не хватает другому. Любящие образуют особого рода общность, избыточную по отношению к каждому из них и не предполагающую обладания в пределах человечности. В конечном счете, смерть от любви – не самое абсурдное явление. Метафора любви представляется специфической операцией прекращения невозможности установления связи на уровне синтома, принятием реальности любовного переживания, первично объясненного случайностью! Переживание черпает силы поддержки из нарциссической фантазии на уровне бессознательного знания, минующей Имя Отца, а потребность во взаимном признании отступает благодаря новым формам и эффектам дискурса. Это влечет за собой и невосприимчивость к языку другого, и раскол любовного переживания, и соотнесенный с означающим аффективный сигнал, входящий в резонанс с бессознательным знанием. Прочерчивается непрерывно меняющаяся и трансформирующаяся, в высшей степени любопытная и неустойчивая структура, где поэты и художники всегда оказываются в арьергарде. Любовное переживание – это по сути своей эффект структуры (!), в которой принятие субъектом подлинности своего переживания является аналитической целью. Желание конституируется дискурсом и его эффектами, где еще до встречи в реальном присутствии вносится измерение диалектических отношений.
Любовь возникает в ответ на то, что содержится в любимом объекте; она сообщает любимому то травматическое содержание, о котором он узнает, идя навстречу своей судьбе. Она затухает, если акцент переносится с платы за наслаждение на удовлетворение. Само Я ориентировано на желание Другого. Желание не является в чистом виде желанием любви, поскольку образовано между расщеплением артикуляции требования на уровне содержания (цепь означающих) и акта высказывания (абсолютного требования любви). Расщепление помогает субъекту выйти из-под власти слепого подчинения существующему порядку при самовоспроизведении смысла! В ряде случаев, вместо того чтобы признать собственную уязвимость и агрессивность, субъект стремится избежать столкновения с опытом переживания. Любовь всегда предполагает поэзию, меняя весь мир субъекта в зависимости от его воли к свободе и позволяя избежать пассивного малодушия не пережитого. Понимание свободы здесь принципиально, поскольку оно прямо соотносится с зависимостью от непереработанного и в силу этого вечно возвращающегося опыта. Любящему не нужно объяснять, что есть храбрость дистанцирования от обычаев, норм и правил сообщества. Неосознанные переживания проецируются на любимый объект в романтическом ключе (субъект стремится полюбить катастрофически отсутствующие части себя), но другой бунтует и не хочет соответствовать направленным на него проекциям. Переживание симптоматически отражает работу бессознательного перед встречей лицом к лицу с безграничным миром и бесконечным диалогом, который представляет собой отношения любящих. В некотором смысле отношения всегда приоткрывают завесу. Любить можно только утратив первичный объект (если он не становится продолжением Я, как в случае психоза), отношения с которым окрашены нарциссическим всемогуществом и деструктивным импульсом ненависти в рождении которого имеет шансы быть переработанным в волю к жизни. Хрупкий объект непременно разрушится по действием деструктивного импульса. Нельзя потерять объект, не идентифицировавшись с тем, что в его лице было потеряно – субъект есть то, что он теряет и чем неотменимо делает его бессознательное (!). Если же аффекты, связанные с ненавистью, начинают превалировать, то у субъекта возникает желание отмены: желание все переживания немедленно скомкать и выбросить. Нарциссические отношения такого порядка своим естественным следствием имеют депрессию, переживание которой экспортируется вовне. Таким образом страдание причиняет уже другой; оно становится делегированным и объяснимым, что необходимо, поскольку наслаждение разрушением нуждается в очищении страданием. В отношениях оживают исторические сюжеты и ситуации, которые были восприняты субъектом, – отношения выполняют функцию кислородной маски с точки с зрения отношений с бессознательным, прорывающимся в содержание отношений. Что вызывает желание инвестировать либидо в объект, принадлежащий окружающему миру и отражающий чье-то другое желание быть желанным? Объект разрушает целостность внутреннего мира, штурмует внутренние горизонты и восполняет утрату целостности фикцией автаркии переживания. Знак любви, выпадающий за пределы идентификации, обнаруживает потребность в образовании человеческих отношений, всегда обращает к ничто, к чему-то сподвигнет неизмеримый и дисгармоничный потенциал бессмысленного. Желание стяжает измерение тайны (субъект держится невероятного), определяющей сбой в сексуальных отношениях тем, что субъект не может довольствоваться ролью объекта любви. Что остается от исчерпанной любви, как ни тайна пустоты, избежать заполняющей бессознательной мести за которую редко кому удается. Ярость такого рода отмщения – уже подобие любви и она, будучи слишком человеческой, несущей отреагирование пафоса бытия, по сути, неудовлетворима. Чем больше такой субъект пытается полюбить другого, привнеся в его жизнь максимум блага, тем больше оказывается замкнут на себя вследствие психического устройства, т. к. переработать или воспользоваться обретенным в отношениях благом не в состоянии. Таким образом включается парадоксальная направленность: желание ярких чувств при осуществлении своего (всегда неполного) проекта бытия с другим, установление контакта с вытесненным и защита, уберегающая от сильных чувств, от интеграции с плодами детских впечатлений. Опыт причиненных жизнью ран накладывает ограничения десубъективированного стиля, не позволяя избежать немыслимых, затапливающих чувств. Развитие ума идет в ущерб аффективному развитию, конституируясь расщеплением (психическое пространство множится на два), способностью устремляться в область нехватки (потерять – значит найти) и закрепившимся умением переживать чувственные потери.
Суть любовного переживания выражается в желании немедленно прикоснуться к другому (к миру другого) без всякого опосредования между двумя желаниями: бессознательное сподвигает к переживанию присутствия любимого объекта как самого себя – тот, кто любит, становится другим, и это перенос в действии, но перенос оказывается структурно сложнее идентификации. Зачастую, анализант в первые пять минут сессии сообщает что-то вроде: «Я не могу говорить, у меня прямо душа горит». А потом в ходе анализа обнаруживается воспоминание о пожаре в детстве, который вызвал сильные, инкапсулировавшиеся впоследствии чувства. Такого рода немедленные касания напоминают спонтанные уличные фото – они показывают субъекта таким, каков он есть в данный момент в конкретной и неповторимой конфигурации света, проходящих людей, атмосферы, настроения и т. п. Этому моменту, который может быть рукотворно вырван из социального контекста позволяет случиться присутствие другого – к примеру, Иосиф Бродский жил в советском обществе, но очевидным образом не был вписан в его контекстуальность, имея пространство для маневра экстравагантности и разрушая предложенную языковыми средствами грамматическую архитектуру. Понятность и непотревоженность в такой момент немедленного касания – худшее, что может случиться со становлением субъекта. Эротический потенциал переживания распространяется через экстаз, вырвавшийся из репродуктивного цикла и в этой метаморфозе разум становится главным органом любви, раскрывающим одного субъекта для другого в переносе, что явственно напоминает эндосимбиотическую способность клетки ассимилировать внутри себя чужеродное тело. Наслаждение выплескивается за пределы тела, и эта экстернализация приводит к новому, застающему врасплох образованию. Контроль ожидаемо теряется вторжением в пределы тела и открывает доступ к тому, что превосходит все ожидания, нарушает все договоры и не может быть исчерпано на уровне различения вещей, имеющих значение!
Отношения тела ребенка с матерью несут элемент дозволенного эротизированного удовольствия; его можно проигнорировать, но он образует фундамент телесного якорения любви, – любви, которую провозглашают и которая получает возможность сценической драматизации. Контакт с телом, которое тронуло, трогает собственное тело, запечатлеваясь в нем. Опыт удовольствия порождает лишь одно требование: чтобы ничего не менялось, тогда как опыт страдания модифицирует, мгновенно пересобирает, как касание пальцем только что вскипевшей кофейной турки. В том, что происходит с телом, субъект расшифровывает направленное на него желание и расшифровывает собственное желание. Модифицировать себя, чтобы откликаться на желание другого – это означает сделать свой опыт переживания авторским. Образ детского тела, история которого предоставляет свидетельство адресованной ему любви, того признания и утверждения его сексуальной идентичности, его неповторимости, желания видеть как оно меняется и становится автономным которого можно желать и которое усваивает глухоту матери к его страданию как собственную. Эмоции матери и эротизированное удовольствие дают почву для соматического якорения любви, которая определяет важность прошлой истории, спроецированной еще до рождения ребенка в его предвосхищаемое Я, его инфантильную сексуальность и соматический статус. Для развития способностей в широком смысле имеет принципиальное значение качество того совместного удовольствия, которое сопровождало ранние психические события слияния.









































