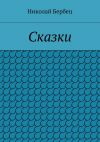Текст книги "Костровище"

Автор книги: Сергей Кузнечихин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«Ты будешь долго ждать звонка…»
Ты будешь долго ждать звонка,
Ревнуя к тем, кто помоложе.
Десятки раз твоя рука
Поднимет трубку и положит.
Начнешь скрываться от друзей.
Суббот и праздников бояться,
Изучишь пригород, музей,
Подумаешь о диссертации.
Бумагами завалишь стол,
Очков стесняться перестанешь.
Потом решишь, что все не то,
Из-за стола со злостью встанешь
И занавеску отведешь.
А там, где много светлых окон,
Услышишь равнодушный дождь,
И станет страшно одиноко.
Пора листопада
Полыхают среди стола
(Пусть с базара, а не из сада)
Помидоры с гостев кулак,
А кулак у гостя – что надо.
Ветер чуть дребезжит стеклом.
И в неясной для гостя муке,
Кружат, мечутся над столом
Суетливой хозяйки руки.
Серый день
День, как большой домашний пес,
Разлегся сыто и лениво.
Семейство сереньких берез
Расположилось у залива.
Во мгле туманной пелены
Темнеет ствол трубы фабричной.
И мы
Так тихо влюблены
И так обыденно-привычны,
Спокойные, как этот день,
Мы кажемся сестрой и братом,
И некуда нам руки деть,
Как перед фотоаппаратом.
«Я могу не прощаться…»
Я могу не прощаться —
Просто взять и уйти,
Если чье-нибудь счастье
Это может спасти.
Осушу свою чарку
И бесшумно, как зверь,
Проскользну на площадку
В приоткрытую дверь,
Провожаемый всхлипом
Неуклюжей петли.
А потом уже лифтом
Вниз. До самой земли.
Упаду, словно с неба,
В придорожный сугроб,
Горстью колкого снега
Остужу хмурый лоб.
Ну а дальше все просто
И понятно уже,
Что игры в благородство
Не бывает без жертв.
С этим надо смириться,
Как в индийском кино.
Только б не возвратиться —
То-то будет смешно.
«Только грустно немного…»
Только грустно немного
И немного смешно.
Предложили дорогу —
Отказаться грешно.
Значит есть еще порох
И надежда жива.
Значит, может быть, скоро
Делом станут слова.
И осветит удача
Изнурительный быт.
Только женщина плачет?
Впрочем – все может быть.
Усталая душа
А с нею по-хорошему,
Над нею чуть дыша…
Принцесса на горошине —
Усталая душа.
Все угодить стараются,
Все няньки сбились с ног,
Дрожит и озирается
Израненный комок.
Любую цацку сделают,
Лишь только пожелай,
Ну, а она, несмелая,
Пуста и тяжела.
Затравленность звериная
Жестока и жалка…
И пусть гора перинная
Почти до потолка —
Улечься не отважится
И мнится ей одно,
Что вдруг не пух окажется,
А стекловолокно.
Слепа и перепугана
Шарахается прочь,
Туда, где перепутана
С дождем глухая ночь.
«На длинной дистанции спринтерский бег…»
На длинной дистанции спринтерский бег,
И рухнул тяжелый большой человек,
Легко одолев половину пути,
Минуя подножки, сумев обойти…
Судьба обещала так много удач,
Но что же тогда заикается врач?
Судьба торопила, судьба обещала.
И вот уже поздно начать все с начала.
И место свободно в больничной палате.
Вдове так идет ее черное платье,
Что даже на улице некто Смирнова
Попросит улыбчиво адрес портного.
«Смотри, какая радуга…»
Смотри, какая радуга —
Цветы, а не цвета,
За грозы все в награду нам —
Такая красота.
Теперь давай зажмуримся,
Авось и перейдем
Через пустую улицу,
Размытую дождем.
«Жирный кот лежал на одеяле…»
Жирный кот лежал на одеяле
В час послеобеденного сна.
Старшая играла на рояле,
Младшая курила у окна.
Справочников строй на полке ровен,
На стене портрет кинозвезды.
Чересчур классический Бетховен,
Элегантный сигаретный дым.
Портупея и папаха папы,
Мамино манто, бабулин сак.
Четкая резьба на дверцах шкапа,
Под окошком яблоневый сад.
Розовый, как утреннее небо,
Яблонь цвет под аккомпанемент
Осыпался, в чем, конечно, не был
Виноват старинный инструмент —
Гордость дома, да и дом когда-то
Тешил гордость матери с отцом…
Отгорали зори и закаты,
Оседало, горбилось крыльцо.
Кот жирел, с гулянками покончил.
Сад заполонил лихой пырей.
Становилась музыка все громче,
А спина у младшей все прямей.
Яблони старели, вырождались.
Захромала ножка у стола.
У окна, где никого не ждали,
Музыка для музыки плыла.
Соблюдая очередь, сменяли
Лето – осень, а зиму – весна.
Старшая играла на рояле,
Младшая курила у окна.
Дом
«Мир – дом мужчины…»
Вдогонку кричали, но он не услышал,
Удобней поправив заплечный мешок.
Дружок позавидовал: «На люди вышел».
А дед осердился: «Из дома ушел».
Один, без наставников нудных и строгих,
Способных мечту просмеять, словно блажь,
Имея лишь смелость – незнанья дороги,
Да не удручающий душу багаж.
И солнце его не палило, а грело,
Ручьи, не чинясь, приносили воды,
И небо высокою птахою пело,
И люди ему не желали беды.
Шагал он, веселого взгляда не пряча,
Грозясь, как синицу, комету поймать,
Гулящая девка по кличке Удача
В дороге его опекала, как мать.
Она приносила – он брал, не считая,
И щедро ломал от лихого куска,
Когда же она приходила пустая,
Смущенно глаза перед ней опускал.
Не нужно быть мудрым,
Не нужно быть грубым,
Чтоб доли положенной не упустить —
Нужны человеку хорошие зубы,
Чтоб мясо жевать и улыбкой светить.
Зубов белизну и уступчивость взгляда
Природа и мать подарили ему,
А что же еще для веселого надо,
Чтоб не запрягаясь постыдно в суму,
Как должное брать, что ему подавали.
Все время с людьми и все время – один,
Как званый входил, куда вовсе не звали,
И так же беспечно потом уходил.
А плакали вслед или злобно свистели,
Он не возвращался ни думой, ни сном,
И к тем, кто ласкал его в чистой постели,
И к тем, кто по-братски делился вином.
Случайной любовью питаясь и греясь,
Шагал он покуда Удача вела.
И первый раз в жизни почувствовал ревность,
Когда она, с ним не простившись, ушла.
И первый раз в жизни почувствовал холод
От лая собак на закрытых дворах.
И первый раз в жизни почувствовал голод,
И первый раз в жизни почувствовал страх.
И в луже, где мокли окурки и листья,
Когда пересохло от страха во рту,
Увидел лицо свое с кожей землистой
И черные зубы, и глаз пустоту.
И он не узнал себя,
Он оглянулся —
На тополе птица скликала птенцов,
И вздрогнул он, словно от крика проснулся,
И плюнул он луже в рябое лицо.
Все было так страшно и так незнакомо,
С надеждой хоть что-нибудь в жизни вернуть,
Свой страх объяснил он тоскою по дому,
И тронулся в дальний безрадостный путь.
Следы или путались, или терялись,
И с неба текло, как с худого ведра.
Попутки неслись, только грязью швырялись,
Хозяйки боялись, чтоб не обокрал.
Он плелся, держась осторожно обочин,
Хромал, отдыхая на каждой версте.
Пришел и увидел, что дом заколочен,
На что воробьи – улетели и те.
И долго стоял он не в силах поверить:
Пускай где угодно, но только не здесь —
Забитые окна, забитые двери
И бурые пятна ржавевших гвоздей.
«Любимым нисколько не лучше, чем любящим…»
Любимым нисколько не лучше, чем любящим —
И верность, и ревность – их плен воспален.
Но вдруг угодишь на случайное гульбище.
Один. Не любим. И – увы – не влюблен.
Случайно. Случилось. У честного случая,
Наверное, даже в грехе чистота.
А то, что недобрано, недополучено
То ищется вовсе не так…
И не там.
Служащий
Вроде удобно в креслице,
Да над тобою – кресло.
Вверх по служебной лестнице
Сколько упрямых лезло!
Вышарканные сколькими
С думою: «или – или»,
Эти ступеньки скользкие
Не одного сгубили.
Благо, если окажется
Дяденька или случай,
Ну а когда на каждую, —
Маясь, потея, мучаясь…
Выше – сплошные ребусы.
Рядом – и то загадки.
А восхожденье требует
Выверенной закалки.
Перекалил – сломается.
Недокалил – согнется.
С нужными – как полагается.
С собою – уж как придется.
Как балерине пирожное
Снится и снится сладко, —
Слово неосторожное,
Хлесткая правда-матка.
Где уж там, не до сладости.
В чем только не откажешь…
Каждый имеет слабости,
Сдерживает их не каждый.
И обижаться нечего,
Если распух от лени,
И не достиг намеченной
Цели или ступени.
Вот уж когда все выставил,
Нервы тянул, как вожжи —
И победил. И выстоял.
Только не для того же,
Чтобы однажды в ужасе
Понять, что твой хлеб не сладок,
И сам ты
Лишь мелкий служащий,
Пусть и с большим окладом.
«Как осложненье после гриппа…»
Как осложненье после гриппа:
То звон в ушах, то свет черней.
Изба вдруг заболела скрипом,
Как разобрали дочерей.
Пока сама тайком гадала
На даму или короля,
Покуда сам ворчал устало,
Не зло, а так порядку для.
Покуда с песней шили дочки
И со слезой порола мать,
Узнав, что люди зубы точат,
Уставши языки чесать.
Пока бранила и жалела.
Веревка сколько ни вилась…
И ту, что рано повзрослела,
И ту, что в девках заждалась —
Свели и ахнуть не успела.
Оно б и ладно, если впрок.
Да вдруг калитка заскрипела,
А за калиткою – порог.
И вот уже самой не спится,
И сам почто-то не храпит,
И до утра то половица,
А то вдруг форточка скрипит.
Горелово
«Снаряд не попадет в воронку».
(примета)
Деревня Горка – на горе.
Заречье – за речною поймой.
Но чтобы кто-нибудь горел
В Горелове —
Никто не помнит.
Вот она, хитрость мужика:
Оставив где-то пепелище,
Пришел сюда издалека,
Построить новое жилище,
И может быть судьбе назло,
А может, от дурного глазу,
Назвал Гореловым село
И больше не горел ни разу.
Уха
В. Леоновичу
Махну рукой большому городу
И на порожистой речушке
Свою купеческую бороду
В азарте изведу на «мушки».
И будут хариусы черные,
Голубогривые красавцы,
Моей обманкой увлеченные
Из пены на нее бросаться.
Взлетать…
А дальше, как получится.
А дальше —
кто кого хитрее.
Пока научишься – намучишься,
От гнуса жадного зверея.
Но в тот момент, когда удилище,
(По тамошнему – удилище),
Согнет в дугу с нерыбьей силищей
Невидимый упрямый хищник…
Вот уж когда оно запрыгает,
Сердечко,
Вот уж где – заскачет…
Уха – не просто блюда рыбное,
Скорее – пир после удачи.
А может – час восстановления
Мужчин в былых правах и званиях,
Растерянных за поколение
В очередях и на собраниях.
Дальневосточник на Чулыме
По ухе из аухи тоскует товарищ,
Он глядит на улов и с ухмылкою едкой
Говорит:
«Разве нечто приличное сваришь
Из таких вот,
Прости меня,
Щучьих объедков?
Это что же за рыба?
Какого семейства?
Ах, елец!
Сразу видно из высшего круга,
Если в честь его
Город на карте имеется.
Но и в нашем Амуре
Есть рыба
Калуга.
Нас мальчишек,
Старухи ей в детстве пугали,
Мол, утащит.
А как-то под осень попалась —
Чтобы вытащить —
Трактор на помощь впрягали…
А потом до весны вся деревня
Питалась.
В ней икрины
Размером с яйцо из-под куры.
Вот такого «ельца»
Не грешно забояться.
Кстати, слышал,
Есть вид ангелочков – амуры?
Эти тоже у нас лишь,
В низовьях, гнездятся…»
Он вздохнул, закурил. Над рекою светало.
В котелке ароматно дымилась ушица.
Не к его ли словам в этот вечер летала
И кричала навзрыд долгоносая птица?
Перстень
Этот перстень тяжелый нелеп, даже груб,
По сравнению с тем, что явила природа.
Твои руки достойны не золота – губ.
Дорогие одежды – наряд на урода.
Я прекраснее раньше не видел руки.
И, уверен, не встречу до самого ада.
Как поют легких пальцев твоих ручейки!
Как нежна этих пальцев святая прохлада!
К ним губами припасть, чтобы пить их и пить,
Словно воду живую, врачуя печали.
Что там золото? Золото можно купить,
Но оно не всегда, не всегда выручает…
Но прошло десять лет,
И влюбленный поэт,
Сочинявший
О святости женской руки,
Поостыв,
Изменил две последних строки.
…К ним губами припасть, чтобы пить их и пить,
Словно воду живую, врачуя печали…
Ну а ты прицепилась: купи, да купи!
Ты же знаешь сама, сколько я получаю.
Еще раз о слове
Вроде не готовился заранее,
Так случилось, что знакомый мой
Взял однажды слово на собрании
И унес его к себе домой.
Прихватил, поскольку больше нечего
Для семьи со службы унести.
И хищенье не было замечено —
Столько слов, попробуй все учти.
Слово было не совсем изысканно,
Огранено не под тем углом,
Но зато с каким он чувством высказал
Это слово дома за столом.
И в дальнейшем, наслаждаясь отпуском
На курорте славном Карасук,
Целый месяц он жене и отпрыскам
Взятым словом отравлял досуг.
Так что сразу после возвращения
Верная, но честная жена
Отнесла большое заявление
В профсоюз на мужа-несуна.
«Зимою, как собака, зябнешь…»
Зимою, как собака, зябнешь.
Дождешься лета – душит зной.
На мизере приходят взятки,
Не взятые на восьмерной.
На гору тащишься с одышкой.
С горы, как заяц, – кувырком.
Начальству кажешься мальчишкой,
Соседке Тане – стариком.
То свет в глаза, то мало света.
Ругаешь – зависть, хвалишь – лесть…
И так всегда, не то, так это,
И в том и в этом что-то есть.
«Признаться, устаю…»
Признаться, устаю
От бытовых проблем.
С одними только пью,
С другими только ем.
И не сказать, что юн
И в меру бесшабашен,
Но с теми, с кем я пью,
Увы, не сваришь каши,
А с теми, с кем я ем,
Там полон стол закуски,
Но те не пьют совсем,
А пьют, так не по-русски.
Не знаю, как и быть,
Хожу в заботах весь.
И трудно бросить пить,
И надо что-то есть.
«Свободное паденье тела…»
Свободное паденье тела —
Я физику давно забыл —
И все ж кому какое дело,
Кем стану я и кем я был.
Уверен – рядовой бездельник
Не понимает вкус паденья.
Нерядовой святоша —
Тоже.
Я с ними спорить не хочу,
Поскольку, падая – лечу.
Однако, сам не удивлюсь,
Когда вдруг насмерть приземлюсь.
«Слепые случаи – слепы…»
Слепые случаи – слепы.
Их растопыренные пальцы
Отыскивают средь толпы
Затерянного постояльца.
Блуждает вещая рука,
Нащупывая тайны сходства
Или с наитьем дурака,
Или с жестокостью уродца,
Раздавит глаз великий перст,
А может за ухо – и в люди.
Ну а в толпе свободных мест
И не бывало, и не будет.
«Все как-то походя решалось…»
Все как-то походя решалось
Без пота и душевных ран,
Но даже маленькая шалость
Была на зависть мастерам.
Вела веселая смекалка
Такие дебри покорять…
И было ничего не жалко
Ни подарить, ни потерять.
Я вел и не было ведомых,
Чтобы не верили в меня.
И каждый дом моим был домом,
И каждый встречный был родня.
И женщина меня любила,
Гналась, меняя города…
Но вот, когда все это было?
И, право, было ли когда?
Последний дождь
Он сед был и нетороплив,
С замашками любимца власти,
Наипервейший гость земли,
Вдруг превратившийся в ненастье.
И от обиды обозлясь,
Не зная перед кем излиться,
Он плелся, оставляя грязь,
И все не мог остановиться.
Две жажды
Он подставлял вторую щеку.
Хлестали
Со всего плеча.
А в благодарность за учебу,
Он улыбался и молчал.
Так повторялось не однажды,
Чтобы уроки не забыть.
И утолялись обе жажды:
Одна – терпеть,
Вторая – бить.
«Я соврал бы, конечно…»
Я соврал бы, конечно,
Не тревожа страстишки —
Было смутное нечто
В том глухом городишке.
Да какое там – город,
Так, с натяжкой на древность.
Избы в черных заборах
Беспросветных, как ревность.
От заборов высоких
Голова идет кругом,
И в толпе одиноких
Все знакомы друг с другом.
Ивы, клумбы в цветочках,
Пять минут до работы…
И не ясно, но точно
Не хватает чего-то.
Может быть, очень душно.
Может быть, очень сыто.
Может быть, очень скучно.
Может, очень закрыто.
Но пришла горожанка,
И ее было жалко,
И тебя было жалко,
И себя было жалко.
Ведь не ради забавы…
Ну, скажи, поняла ты?
Среди вечно неправых —
Столько невиноватых.
Это, в общем, несложно
Обойтись без укоров.
Понимаю, что можно
Наплести целый короб:
Мол, прости ты нас, грешных,
Будь умнее и выше…
Я соврал бы, конечно,
Да, как видишь, не вышло.
Камень
К ночи отяжелевшими руками
Отец точил косу о крепкий камень.
И лег…
И встал до утренней зари,
И сына, отправляя в косари,
Сказал ему:
«Поторопись, сынок,
Там в стороне от выбитых дорог
Растет трава сочнее небылицы».
И снова попросил поторопиться.
И сонный сын, запнувшись на пороге,
Пошел по серой выбитой дороге,
И повернул, где надо, за рекой,
И начал дело легкою рукой…
Коса валки тяжелые вела,
Пока в траве на камень не нашла,
И сын, кляня косу, на землю плюнул,
А камень тот за пазуху засунул.
И не теряя утреннего следа,
Он возвратился к дому до обеда.
Отца увидел около крыльца
И бросил камень в голову отца.
А тот безмолвно камень подобрал
И снова, поспевая до утра,
Ему косу о крепкий камень правил,
А утром сына в косари отправил.
Стихи о поэтическом возрасте
Поэт, которому за тридцать,
Успевший из двухсот стихотворений
Случайно напечатать десять штук,
От силы – двадцать (но никак не больше),
В газетах неприметных городов,
Где мыкался он в поисках участья, —
Похож на женщину почти таких же лет,
Которой так и не досталось мужа.
Он на вопрос:
«Печатаетесь вы?»
Ответит:
«Нет. И вовсе не желаю»,
И на вопрос:
«А замужем ли вы?»
Она ответит:
«Нет. И не желаю».
Хотя случается и скажут:
«Да»,
Но сразу сменят тему разговора.
Среди своих ровесников они
Приятелей давно уже не ищут —
Они там не уверены в себе,
И тянутся к тому, кто помоложе,
Кто не дозрел еще до горьких дум
О даре творческом и мнимости свободы,
Кто может по наивности принять
Потери за великую удачу.
Другая крайность – это старики
С рассеянным и равнодушным взглядом.
Они ленивой завистью своей
Иллюзию порою согревают
О юности наполненной надеждой.
Ну, а ровесники – те ходят не в чести.
Они их даже, якобы, жалеют.
Всего, что те смогли уже достичь,
Они бы тоже без труда достигли,
Но скромность, гордость, честность —
Им мешали.
Поэтому им остается ждать.
И ждут,
Тем затаенным ожиданьем,
Которое бросается в глаза.
Но ждут они и верят, что придет,
Настанет удивительное утро,
Которое изменит все, все, все…
Проза о ювелире
Он верил, что не Бог, а ювелир
Способен изменить наш грешный мир.
Он сам любил об этом говорить.
Но я – не он.
Красивые слова
Меня и раньше редко убеждали,
ну а теперь, когда пришла пора,
спокойно разобраться в нашем деле, —
красивых слов святая пустота
нам будет самой главною помехой.
Оставим их для мастеров пера,
а здесь – без рифм и прочих побрякушек.
Без украшений,
Но о красоте.
Итак, он верил,
Но не верю я,
его соратник, если вам угодно,
(рифмуется, что были мы…), но нет,
Не стану врать, мы не были друзьями.
Ровесниками – были. И еще
мы родом деревенские, и вместе
учились ремеслу в те дни, пока
считались мы и были молодыми.
Ах, времена!
Я был тогда влюблен
в циркачку. А учитель хмурый
влюблен в меня, вернее, не в меня,
а в мои руки. Сколько бранных слов
я выслушал, хотя я их не слушал,
за то, что тратил зря и так легко
разбрасывал, проматывал наследство,
не ясно – чье.
Учитель был ворчун.
А я был мот до времени. С годами
все стало на места само собой.
Я классный ювелир. И в этом деле
я знаю толк. И знаю: видят толк
ценители во мне. И я доволен,
Что делаю для наших милых дам
красивые игрушки украшений.
Случается, заказывает знать,
но сам я не ищу таких заказов,
не потому, что я святой простак.
Но знатным я предпочитаю милых —
спокойнее.
И более того
наш труд на дорогом материале
не так заметен. Золото в цене
и без меня и без моей работы.
Все о себе.
Увы.
А как же тот,
который был уверен, что сумеет
мир изменить?
Да так себе, потел
под глупым грузом самоизъеданья.
Нелепый груз, как, впрочем, и спина,
подставленная под него, нелепа.
Несовершенны все. Но он решил,
что это одному ему известно.
Каков мудрец! Поди, не обошлось
без зависти решение такое.
И поделом. Чтоб лысину прикрыть —
монашеский колпак надежней шляпы.
Надел, ну и носи. Но утверждать,
что грех – в кудрях! Не в этом ли разгадка
монашества и святости иных
воинствующих мучеников дела?
Еще он пил. Я тоже не был свят,
но – весело. А он чумел вглухую
темно и зло, а во хмелю орал,
доказывал, что все мы крохоборы,
и драться лез. Я точно не скажу,
но, кажется, свои его не били —
был чересчур плюгав. И кое-кто
считал его действительно великим —
и все прощалось. Трудно их понять,
но находили блеклые кликуши
в его проклятьях и его щипках
какую-то особенную сладость.
Терпели и кричали:
«Наш кумир
собрался сделать то, что не под силу
всем вам. Он изменяет мир,
а вы вгоняете его в могилу…»
Ну, кто вгонял – еще как посмотреть.
А вот что делал, или, если трезво,
пытался делать? Бред его имел
какой-то смысл. Хотя иные снобы
из тех, что знают все и обо всем,
а сами ничегошеньки не могут
кричали, что идея не нова.
Пусть даже так. Но кое-что мерцало
в его задумке наглой – сотворить
такую композицию, в которой
предстанет перед миром человек
в своей неведомой доселе сути.
И цель была – не просто напугать,
а напугав, задуматься заставить.
Он долго подбирал материал
и выбрал кость – какой наивный символ.
Потом, когда вплотную приступил
к своей работе и, уж как ведется
при гениальных замыслах, попал
под жернова – «желаю» и «умею», —
он не остыл.
Но пережив удар,
мне кажется, он потерял рассудок.
Иначе бы знакомого врача
не стал он уговаривать отрезать
свою же ногу, потому что так
потребовало дело – воплощенья
своих идей на собственных костях.
Врач был добряк…
Но был учитель строг.
Сперва не замечал его, а после,
узнав, что нерадивый ученик
все силы отдает резьбе по кости,
рассержен был. Он не терпел, когда
древнейшее искусство превращали
в мужицкую забаву. Наш бедняк
ему чего-то доказать пытался.
И пуще рассердил. После чего
был отлучен, как объяснил учитель.
А проще – выгнан. Пробовали мы
помочь ему, но страшная гордыня,
кликушами раскормленная в нем,
нас охладила.
Вскоре он уехал.
Сначала говорили, будто он
скитается по Северу, а после
болтали, что его увлек буддизм
и он живет в Бурятии. И все же
он никуда не ездил. Потому
что он был слаб и, хуже, слишком вздорен
для жизни средь кочующих людей.
Он жил в деревне, и его кормила
старуха-мать, пока не умерла.
И он сорокалетним сиротою,
не знающим крестьянского труда,
был вынужден уехать снова в город,
где начинал. Где, может, и не все,
но кто-то и любил.
Его забыли.
Да, вопреки всему, он был забыт.
Тот свод людей, казался сводом братьев
лишь в юности. Все наше ремесло,
оно зазвало и собрало вместе,
оно и развело нас, растрясло
изрядно перессорив на прощанье.
Всяк сам себе. Но вот пошел слушок,
что тот, который некогда смешил нас
прожектами, чего-то там вершит
особо гениальное, а следом —
наверно, шизофреник, дилетант.
Обычные, казалось, разговоры.
И вдруг…
Убит.
Не кто-нибудь, а он.
Все сразу вспомнили, что собирался
он мир менять, и анекдот с врачом,
и чад загулов. Весь набор чудачеств,
дурных и милых, выплыл и потек
из уст в уста. Но все же самым ярким
был сказ о смерти.
Дело было так.
Он трудно жил последние полгода.
Творил, но не работал, и вдова,
которая вначале приютила,
гнала его из дома. Он терпел.
Он к этому привык, не сомневаясь,
что и она обязана терпеть
и, наконец, понять его работу,
творимую для всех и для нее,
для темной. А она не понимала
и все пилила. У вдовы был пес,
огромный мрачный зверь мышиной масти,
привыкший охранять ее покой.
И пес возненавидел ювелира.
А ювелир возненавидел пса.
Потом уже рассказывали, будто
он хвастался, что выдумал себе
простую, но веселую забаву.
С утра, послушав разговор вдовы
и мирно проводив ее на службу,
он брал ухват и выходил во двор,
а пес уже летел, клыки оскалив,
с разбегу прыгал, позабыв про цепь,
и падал, опрокидываясь навзничь,
крутился на спине, железо грыз
и выл, и снова, обезумев, прыгал,
а цепь опять рвала его назад,
или ухват, подставленный под горло,
бросал на землю.
Этот странный бой
так возбуждал беднягу ювелира,
что он не мог уже, не посмотрев,
как на цепи исходит злобой псина,
за дело сесть.
А дело, вроде, шло,
с трудом, но выбиралось на дорогу.
И вдруг кольцо, что сдерживало цепь,
не выдержало, а простой ухват
не испугал озлобленного зверя.
В том декабре
мороз был очень лют,
аж слезы вышибал. Без музыкантов
процессия на кладбище брела.
Но наш недружный цех, пусть на минуту,
а шапки снял. И было мало слов.
Лишь мерзлая земля на крышке гроба
плясала жуткий танец.
Все слова
пришли потом. Поток. Обвал. Лавина
трескучих слов, красивых умных фраз.
Могучий хор. В котором наш учитель
солировал, по старости забыв,
как сам вещал,
что слов для ювелира
быть не должно, что древний наш язык
не знает перевода. Грех великий
пытаться толковать творенье рук,
а всяк сие толкующий – расстрига
или бездарность.
Не пойму, зачем
он влился в хор и клятыми когда-то
словами попытался завершить
работу, недоделанную сталью
непонятого им ученика.
Я в позднее прозрение не верю.
Тем более, что ювелира труд
не завершен.
Гадать – удел гадалок,
удел толпы кликуш и прощелыг,
друзей, так называемых, которых
он никогда не помнил имена,
а лица путал. Стало много проще
гадать им без него о том, что он
хотел, но не успел. Они гадают.
А те, кто понимает в ремесле,
в особенности в ремесле собрата, —
для них смешно: хотел, но не успел.
Хотел, но не сумел – другое дело.
Естественно – такое не для всех,
в зауженном кругу, а принародно
они, как хор, а чаще вразнобой
бездумно произносят слово «гений»
перед незвучным именем его.
И спорят, как ценили и любили,
кто больше.
Все не так.
Все ложь.
Он был в быту воинственно несносен,
какое там любить его, терпеть
и то не каждый мог себя заставить.
Удобнее любить издалека.
Вот если так – тогда его любили.
На всякий случай, без душевных трат
чего б не полюбить.
Любви не жалко.
А что до гениальности его
угаданной, когда нам было двадцать.
И я был гением, а за стеной
там целых три, с трудом, но умещались.
Но я, пожалуй, гениальней был.
Ведь сам учитель говорил, что руки
мои от Бога.
Хватит.
Бога нет.
От юности осталась только память,
в которой жив ровесник, ювелир,
и вместе с ним жива его загадка —
незавершенный труд, Он не сумел
найти ответ. Я это твердо знаю.
Но разве это может утешать?
Мне тоже не найти и не закончить
несделанное им.
И потому
я продолжаю делать украшенья.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?