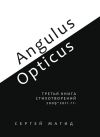Автор книги: Сергей Магид
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Больше «недовольных» не было, – за вражеское выступление на дискуссии о счастье меня никто не наказал.
Что говорить, Святая Русь, как это ей и положено, обладает женским характером, – одного швыряет в ссылку за безобидные частные стихи, другого не трогает даже за публичное антисоветское выступление.
Зато через восемь лет, в 1972 г. (когда бессмертный Чак Берри спел свою песню You Never Can Tell), реакция была уже по полной программе, – на этот раз меня выкинули из университета без малейшего промедления, – и за гораздо меньший грех, чем неверие в счастье строительства коммунизма.
Правда, и русская геологическая эпоха была уже не та: 1966-й был годом ссылки Бродского (как-никак, а всё же дома), а 1972-й – уже годом его высылки в никуда (и не давать ему дома ни огня, ни пищи, ни воды, ни крова, ни железа, ни жизни).
Кстати об эпохе.
Сейчас сложилось такое представление, что суд над тунеядцем Бродским был центральным событием русской жизни середины 1960-х гг.
Однако, например, ни мои одноклассники (11-й класс, вполне взрослые люди), ни я об этом процессе почти ничего не слышали.
Правда, моя матушка что-то там трендела за воскресным обедом о каком-то позорище с каким-то тунеядцем, но только в том смысле, что тунеядец этот был некоренной национальности и мог, таким образом, вызвать репрессии против остальных представителей этой же национальности (к 1965 г. уже всем в нашем доме, а не только мне, было наконец ясно, какой мы «национальности», поэтому о ней молчали ещё круче), так что трендение это постепенно, как, впрочем, бывало и всегда, превращалось в очередной предлог устроить «нашему дураку» превентивную взбучку, чтобы не трепал в школе языком, не болтал лишнего и вообще не высовывался.
Поскольку в советских газетах я читал тогда только сообщения о хоккее, никакой другой информации о гонениях на гениального поэта у меня не было и я даже не предствлял, что живу в одном городе с естественным кандидатом на Нобелевку.
Однако стихи Бродского уже сидели в сознании, хотя я еще и не знал, что это стихи Бродского.
Уже осенью 1965 г. Клячкин пел на порванной в трех местах пленке моей «Астры»:
«Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечны они и горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета…».
Этого было вполне достаточно, чтобы понять, что неизвестный автор этих стихов – гений (я сначала думал, что это сам Клячкин). Пилигримы, естественно, эти были мы. Это наши глаза были полны заката, а сердца полны рассвета. С этого мы начинали. С «вельтшмерц», с мировой скорби, с вселенского пессимизма.
И потом еще вот это, в кайф одиночеству:
«Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой, недалеко, за цинковой рекой, ах, улыбнись в оставленных домах, я различу на улицах твой взмах…».
Цинковая река была рядом, – Обводный канал у Каменного моста через Лиговку, у женского сумасшедшего дома, выкрашенного в желтый цвет, у послевоенных домов с выбитыми стеклами, с зияющими впадинами окон.
«Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой, когда на миг все люди замолчат, недалеко за цинковой рекой, твои шаги на целый мир звучат…»
Это мои шаги звучали на весь мир. Это вокруг меня молчали все люди. По обе стороны канала, вправо – к огромной краснокирпичной резиновой фабрике, влево – к железной дороге и песчаным карьерам с нефтяными озёрами за Московской товарной. «А я ваш брат, я человек…»
Живого поэта я увидел только на переломе 1969/1970 гг., а до этого общался лишь с мёртвыми. Общение с мёртвыми вообще интимнее, чем общение с живыми. Мёртвые это замечательная, неприхотливая компания и мне всегда было с ними легко. А с живыми – трудно.
С живыми было так трудно, что постепенно я начал воспринимать их как неживых, особенно в коридорах Ленинградского университета имени А. А. Жданова, сильно подозревая, что настоящие живые находятся где-то совсем в другом месте.
Это другое место я определил для себя в армии, в армии как таковой, не суть, как она называлась тогда и там, – US Navy, Deutsche Wehrmacht, Royal Air Force, ЦАХАЛ или Советская, она же просто русская. Речь шла о том, чтобы найти чистый экзистенциальный полигон для испытаний. Для испытания, во-первых, самого себя, а во-вторых, – на себе самом, – базовых положений немецкой, французской, русской, испанской и итальянской экзистенциальной философии.
Перед окончанием второго семестра 1966 г., – думая, что навсегда, – я оставил дом имени эпилептика Жданова А. А. и в сентябре того же года был естественным путём взят в Ракетные войска.
Правда, в связи с нестандартным ростом, мне светили тесные и сумрачные отсеки Подводного флота на четыре года; но я не прошел по зрению, – очкариков на желтые подводные лодки на брали.
Фашисты, ревизионисты и белогвардецы Хайдеггер, Сартр, Шестов, сами того не подозревая, отправились вместе со мной. Нам предстоял длинный-длинный наряд вне очереди.
Я и понятия не имел, что в том же 1966 г., когда я бросился, как в омут с головой, в Советскую Армию – искать покой и волю, а также собственную поэзию, – Ян Сатуновский уже написал свой текст номер 436, в котором были такие замечательные смыслы:
Ммм, мммм, мммм-м,
ммм-ммм, мммм, мммм-м,
ммм-ммм, ммм, мммммм-м…
К подобной простоте и полноте мне было ещё шагать и шагать. По плацу и в марш-бросках.
III. Стропило
Для бешеной собаки три версты не крюк.
Русская пословица
Русская армия полностью оправдала мои надежды как в качестве «места силы» (the place of power), так и в качестве «места без жалости» (the place of no pity), хотя в 1966–1969 гг. эти термины, введенные в культурный обиход Карлосом К., были мне, конечно, неизвестны. Дрессировку Дона Хуана Матуса в пустыне Сонора я, таким образом, проходил досрочно, самостоятельно и в теплой домашней обстановке Святой Руси.
Русская армия как хорошо продуманная система «мест без жалости» была набита «крупными, средними, малыми, мелкими и мельчайшими тиранами», и передвижение в этих местах требовало совершенного владения умением сталкинга. Я это понял довольно быстро, чуть ли не на второй день, хотя само слово «сталкинг» было мне тогда неизвестно. Но что для того, чтобы выжить, мне придется делать нечто отвратительное, – это я понял, и решил сразу, что делать этого не буду. Т. е. не буду стараться выжить любой ценой. А только той, которую сам изначально для себя установлю, а выше которой – пусть решает АК-47.
В армии я написал два своих главных юношеских текста: «Суд» и «Пятый легион». «Суд» подытоживал моё окончательное отношение к практике строительства коммунизма, а «Пятый легион» решал на тот период проблему самоидентификации.
Что касается «коммунизма», то именно в русской армии я окончательно понял, что идея замечательна, но воплотить ее в одной отдельно взятой стране нельзя, а можно только надорваться и угробить при этом уйму народа.

1966 г. Стропило клянется защищать завоевания социализма

1968 г. Стропило с коллегами защищает завоевания социализма
Об этом своём открытии я сообщил замполиту ракетной бригады подполковнику Червогоненко по кличке Баба Настя, когда подполковник пришел измерять уровень идейной подготовки молодого бойца. После этого молодым бойцом незамедлительно занялся первый отдел и началась рутина: меня под конвоем сопроводили в штаб, там на партсобрании офицерского корпуса бригады я был публично заклеймён как «враг народа» (напомню читателю – не в 1937, а в 1967 г.!) и затем отправлен на губу «пожизненно» – ожидать передачи в руки гражданского суда для помещения в гражданскую тюрьму (а, собственно, за что? официального обвинения – как, впрочем, и официальной реабилитации – нет до сих пор).
Но командир бригады, полковник Батыев по кличке Ну́кер, решил спасти жизнь «запутавшемуся интеллигенту», и я был отдан в распоряжение подполковника Кабанюка по кличке Хряк. Хряк, зам. комбрига по тылу, без промедления послал меня в бригадный свинарник кормить животных. Чем я и занялся, стараясь применить к делу наставления Камю о Сизифе и Сартра о тошноте. На этом наша теоретическая дискуссия о возможности построения коммунизма закончилась, перейдя в практический аспект.
Что же касается самоидентификации, то именно в русской армии 1966–1969 гг., где одни офицеры говорили, что «Гитлер был добрый, потому что еще не всех вас…», другие спрашивали, что такое этот «антисимизм», а третьи приказывали первым и вторым прекратить в вверенной им воинской части всякие разговорчики на национальную тему, иначе «вы у меня положите партбилет на стол» (и те, и другие, и третьи, естественно, были членами партии, ведущей всё население страны, без различия национальностей, к Царствию Небесному). В этой армии, насквозь пропитанной скрытой ненавистью фоняков к хохлам, хохлов и фоняков к чуркам, чурок, фоняков, хохлов и бульбаков к литвакам, чухне и гансам, гансов, чухны, бульбаков, хохлов, литваков и чурок к фонякам и, наконец, всех их вместе взятых, – к жидове, – именно в этой армии я понял, что первобытная этношизофрения, первобытная тотемная этнокультура в один воистину прекрасный день разорвет эту страну на сто несоставных частей, и ни с одной из них идентифицировать себя я не смогу да и не захочу.
В армии я продолжил, по мере сил, попытки прозы. Этими попытками я занимался с пяти лет, начиная всегда одинаково: Том первый, Книга первая, Часть первая, Глава первая, Лениздат, Госиздат, Детгиз. Но в этот раз я отверг подобные излишества и занялся производством коротких физиологических зарисовок из жизни русско-советского армейского быта.
Попытки мои были пресечены очень быстро. Капитан Жемчужный по кличке Абзец, получавший зарплату за отслеживание таких вот «писателей» в пределах дислокации гарнизона, регулярно устраивал шмон в моём скудном армейском имуществе, с торжеством швыряя очередную обнаруженную тетрадь с крамолой на пол и припечатывая ее сапогом и матом.
Но в один прекрасный день господину гауптштурмфюреру всё это надоело и он отдал мне замечательный приказ, который я потом в своей жизни слышал не однажды, но в завуалированной форме, да слышу, собственно говоря, и теперь: «Я вам запрещаю писать, рядовой, – запрещаю раз и навсегда!»

1967 г., армия, гарнизонная гауптвахта. Автор в качестве заключенного (в центре, с мундштуком)
Много лет спустя, во время горбачевских блужданий в лабиринте, Ленинград осчастливил своим возникновением клуб «Перестройка», где собралась советская служилая интеллигенция, взывавшая к обнаружению и сохранению «здоровых сил в Партии». На одно из собраний этого клуба были приглашены представители демократических групп города, в том числе ребята из «Демсоюза», а также Борис Иванов и я за Клуб-81. К тому времени я пришел к выводу о необходимости ликвидации и запрещения партии-государства, изначально являвшейся бандой экспроприаторов, осуществлявшей террор против собственного народа, и не скрывал своих взглядов. Сейчас я нахожу этот подход несколько радикальным, но для того времени он был совершенно естественным убеждением каждого порядочного человека, если он не совсем ещё обезумел за годы советской власти. В коридоре огромного здания на Петроградской стороне, где заседала «Перестройка», меня остановил ручной еврей Рамм из правления клуба и стал зловещим шепотом внушать истины гауптштурмфюрера Жемчужного, только употребляя другую лексику: «Какое несчастье, что вы вообще пишете! Перестанете вы наконец писать?! Вы же разлагаете своими писаниями наше движение!»
Дон Хуан Матус, встретив на какой-нибудь мексиканской асьенде капитана Жемчужного или образованца Рамма в качестве «тираните минималито», был бы рад как ребёнок… Не могу теперь вспомнить, был ли я тогда тоже рад как ребёнок, но приказ вышестоящего начальника, как и просьбу брата-интеллигента, я не выполнил.
* * *
Однако главные события моих полевых тренировок в русской армии были совсем другие, и было их тоже два, как и в НИИ, где я познакомился с бессмысленностью жизни и способом противостояния этой бессмысленности.
Первым событием было обретение ощущения полной обнаженности личного бытия. Это было ощущение приблизительно того, чему Джорджо Агамбен позднее дал строго философское определение «la nuda vita» – голая жизнь. Можно сказать и иначе – это было моё первое ощущение стояния перед Богом. Но я тогда этого не знал.
Сначала инстинктивно я почувствовал, а потом осознанно понял, что не располагаю ничем, кроме кожи и мозга. Что здесь проходит граница между мной и миром. Что я сам и есть эта граница. Что кроме кожи и мозга у меня нет больше ничего, что я мог бы назвать своим.
Это понимание и ощущение себя как абсолютно голого не только в физиологическом, но и в метафизическом плане, – а метафизически голый не может потерпеть никакого ущерба, поскольку не владеет ничем и не зависит ни от чего, – привело меня в состояние изумленной радости и полного внутреннего покоя.
С любовью и состраданием к кускам и спиногрызам я выполнял самые садистские их приказы, веселясь о том, что мучая меня, – думая, что мучая меня! – они находили для себя смысл существования.
В конечном счете они заметили, что что-то здесь не так, что салабон непрерывно весел, но не услужлив, работящ, но не заискивает, охотно драит очки, но ничего не боится, заботится о казённом, но думает, кажется, только о своём, и не прошло и трех месяцев, как меня раз и навсегда оставили в покое, а я продолжал жить так же, как жил, – радостно и думая о своём. Пока с целины не вернулся товарищ старший сержант.
Возвращение старшего сержанта стало вторым базовым событием, раз и навсегда переменившим моё сознание.
Вовк
Старший сержант Вовк был призван на действительную службу не в 19 лет, как все нормальные люди, а в 27, на самом пределе срока. Дома он оставил жену и был страшен. И, конечно, не Баба Настя и Хряк, и не гауптштурмфюрер Абзец, а спиногрыз Вовк был истинным тираном, согласно учению Дона Хуана Матуса, и абсолютным повелителем батареи связи, в которой я служил радистом.
Вовк был двухметров, лыс и носил галифе в обтяжку, так что ни у кого не было сомнений в том, что его жена с ним бесконечно счастлива и с нетерпением ждёт его после дембеля.
В отдельно взятой казарме 1133-й ракетной бригады Сухопутных войск СССР вовк царил точно так же, как на всей остальной территории Святой Руси – кафка, которую надо было, как известно, сделать былью.
Я всерьез готовился к испытаниям.
В личное время продолжал читать Камю и Сартра из своего уже зачитанного Краткого курса истории экзистенциализма.
Пока человек жив, для него ничего не потеряно, он есть свободное незавершённое существование.
Укреплял себя Хайдеггером.
Жизнь есть бытие-к-смерти, всё остальное – Sorge[6]6
Sorge (нем.) – (зд. ненужная) забота.
[Закрыть].
В карауле, стоя на вышке 6-го поста у самой кромки девственного партизанского леса, будил спящие хвойные дебри, распевая афоризмы из «Заратустры» («Заратустру» купил в 1965 г. в букинистическом на Литейном за пять рублей). Афоризмы помнил наизусть.
Поистине, человек – это грязный поток.
Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.
Как же хотел бы ты возродиться, не обратившись сперва в пепел.
И т. д.
И поскольку моё дело вовсе не литература, а проблема Grenzsituation[7]7
Grenzsituation (нем.) – пограничная ситуация.
[Закрыть], и по призванию я экзистенциолог, т. е. наблюдатель человека, как он есть сам перед собой внутри своей единственной жизни, переходящей в смерть, и поскольку только это и достойно изображения, я расскажу о вещах так, как они стали.
Марций
Дерусь с одним тобой. Ты ненавистней
Мне, чем клятвопреступник.
Авфидий
Ты мне – также.
Гнусней мне ты, и злость твоя, и слава,
Чем африканский гад. Готовься к бою!
Марций
Пусть тот, кто дрогнет первым, будет проклят
И станет победителю рабом.
Авфидий Коль побегу, трави меня, как зайца.
(В. Шекспир. Кориолан. Акт I, Сцена 8 Перевод Ю. Корнеева)
«После ужина ко мне в каптерку», спокойно так, без всякой интонации.
«Есть, товарищ старший сержант!», отвечаю в той же манере.
Вопросы давно не задаю. Вопросы вслух задаёт только самоубийца. Солж, он когда описывал эти свои правила на зоне, все эти детские считалочки типа «не верь, не бойся, не проси» и тому подобное, не сказал о самом главном, а самое главное, не знаю, как на зоне, а в войсках, – не попадайся на глаза.
Первое правило устава: ни о чем не спрашивай.
Не спрашивай, когда что начнется или когда что кончится, не спрашивай, какой рубон сегодня дадут и дадут ли его вообще, ни в коем случае не спрашивай, что тебе делать и куда копать, а если скажут, куда, не спрашивай как, а если скажут, как, не спрашивай, чем, словом, не привлекай внимание к своей заднице.
А только смотри и слушай.
Поэтому ни о чём Вовка не спрашиваю, проявляю полное равнодушие к судьбе и в то же время полную к ней готовность. Т. е. действую в рамках amor fati[8]8
Amor fati (лат.) – любовь к (своей) судьбе.
[Закрыть].
Это его задевает, по глазам вижу. Ведь каждого вовка видишь насквозь.
Взгляд у Вовка меняется. Становится ненавидящим. И моё «я» выигрывает. Потому что мой взгляд вовку в глаза остается никаким.
После ужина стучусь в каптерку. Сидит за столом, пишет рапорт, лысина блестит.
«В ваше распоряжение прибыл, товарищ старший сержант!»
«Натрёте помещение».
«Есть, товарищ старший сержант!»
Сегодня наша батарея не дежурит по отсеку и наряд вне очереди мне не объявлен. Но не спрашиваю, за что мне это. И так понятно: за то, что присутствую в наличии. А это значит, что действительно присутствую в наличии. И это славно. Присутствовать.
Поэтому с готовностью иду к шкафчику со швабрами, мётлами, тёрками, щётками, вёдрами и прочей мурой для уборщиц, т. е. нас же самих, и выбираю себе по ноге щётку с ремнем. Щётка на прямоугольной деревянной подошве, волосья у нее пучковатые, тугие и тёмно-красные как засохшая кровь. Закрываю шкафчик. Надеваю щётку на сапог, просовывая носок под ремень, двигаю там ногой, устраивая её поудобней, так, чтобы ремень не очень жал, но чтобы и не слетал каждые две минуты, встаю в стойку лыжника, делающего первый шаг, выдвигаю вперед левую ногу, ту, которая без щётки, и – правой – пошёл.
«Чтоб пол блестел как котовы яйца».
«Есть, товарищ старший сержант!»
«Как котовы яйца блестят, знаете?»
«Так точно, товарищ старший сержант!»
«Посмотрим».
«Так точно, товарищ старший сержант!»
Тру.
Так.
Что по этому поводу говорит нам синьор Никола Аббаньяно[9]9
Аббаньяно, Никола (1901, Салерно – 1990, Милан), итальянский философ-экзистенциалист
[Закрыть]?
Во-первых синьор говорит, что у человека всегда есть возможность возможности.
Т. е. всегда есть выбор существования на основе какой-то почвы.
Всё равно какой, но выбор есть.
Вот как скажешь «почва», так тут же выскакивает Шестов[10]10
Шестов, Лев (1866, Киев – 1938, Париж), русский философ-экзистенциалист. Главный труд Шестова – медитативный трактат «Апофеоз беспочвенности».
[Закрыть].
А что Шестов, что Шестов?
А Шестову папаша не давал заниматься философией и гнал его в торгаши, как меня дед – в юристы, так что Шестов стал шизиком с раздвоением личности, одна его нога стояла на твёдой земле, а другая проваливалась в никуда, это гораздо хуже, чем до блеска котовых яиц натирать дощатый пол в каптерке ракетной бригады русской армии, это гораздо, гораздо, гораздо хуже.
«Что там бормочете?»
«Ничего, товарищ старший сержант!»
«Чтоб я ни звука не слышал».
«Есть, товарищ старший сержант!»
Ладно.
Но выбор всё равно есть.
Должен быть.
Должен же быть какой-то выбор?
Аббаньяно говорит, что вот эта неясность, какой сделать выбор, это и есть наша свобода, в этом-то все мы и одинаковы, на этой неясности выбора и держится наше сосуществование.
Так он говорит, со-существование.
Солидарность на основе неопределенности всего и именно поэтому.
Но со-существовать можно только с живой экзистенцией, т. е. с живым иным существованием в образе человека.
Вот тут-то и встаёт вопрос: вовк это живая экзистенция или неодушевленная эссенция?
Можно с ним со-существовать или надо к нему относиться как к ничто?
Конкретному временному ничто и всеобщему постоянному?
Подъём ноги уже болит. Быстро же тело начинает отказывать. Гораздо быстрее, чем душа или что там внутри. Ну это так всегда в начале.
«Под шкафом тоже. Под этим и под тем».
«Есть, товарищ старший сержант!».
С наслаждением скидываю щётку с ноющей ноги и хватаюсь за шкаф, чтоб отодвинуть его с дороги.
«Щётку надеть».
«Есть, товарищ старший сержант!»
Так.
Ладно.
Надеваю.
Ну как тут со-существовать, синьор Аббаньяно?
Отодвигаю шкаф.
Тру белый квадрат под ним.
До блеска котовых яиц.
Но блестит он слабо.
«Вяло трёте. Больше энергии».
Потом, уже в другой жизни, точно так же будет говорить Господин Третий Год из ленинградской тусовки поэтов, только глагол там будет другой: не «вяло трёте», а «вяло пишете». А в остальном будет та же каптёрка шесть на шесть и дрочка пола под шкафом. Но это потом.
Ладно.
Тру.
Ну что же там Аббаньяно?
Вот он считает, что самое главное из всего, в чём живет человек, это время, и что именно благодаря времени у человека появляется множество возможностей, пока в один неожиданный момент время вдруг не иссякает.
Что принесёт нам время, какие возможности, даже ещё сегодня, даже через минуту, неизвестно.
Но это-то и есть самое интересное.
«Добро, двигайте на место. Теперь вон под тем».
«Есть, товарищ старший сержант!»
Уже весь мокрый.
Пот течет по лбу, струится по щекам, как водяные пейсы у какого-нибудь настоящего еврея.
Снимаю зимнюю шапку-ушанку, в которой молодые, – а молодые мы весь первый год – из трех, – обязаны ходить в казарме.
Вытираю лоб рукавом гимнастерки.
«Шапку надеть», без выражения.
«Есть, товарищ старший сержант!»
Нахлобучиваю шапку на макушку, только чтобы не давила на мокрый, раздраженный лоб.
«Шапку надеть по уставу».
Спускаю шапку на лоб.
Мокну.
Теку.
Тру.
Матерюсь.
Ненавижу.
Стоп.
Аббаньяно говорит, что как раз неприятие мира, как он есть, – вот неподлинное существование.
А мир есть только вот этот, такой гнусный, как сейчас. Но надо его принять.
А как его принять?
Что для этого сделать?
Начинаю отодвигать второй шкаф.
Тяжелый, сука.
Но мысль моя должна мне помочь.
Мысль моя должна меня поддержать.
Без мысли моё «я» такой же шкаф.
Без мысли моё «я» вовк.
Моё «я» без мысли – вовк.
Мысль – моя почва. Моя почва – мысль.
Хорошо, двигаю шкаф, но что двигает вовком?
Ведь тоже мысль?
Мысль о чём?
О власти, о превосходстве, о собственном бессмертии?
Но ведь и моя мысль о том же.
Да любому вовку, как и мне, тоже нужен смысл существования.
Любой вовк, как и моё «я», тоже ищет этот смысл.
Но ищет его по другому, иначе, чем моё «я», по-своему.
И ведь, прямо по Аббаньяно, – ищет его через со-существование с другими.
Но как?!
Властвуя над ними, осуществляя по отношению к ним свою волю, подчиняя их, командуя ими.
И находит в этом смысл самого себя, свое предназначение, свою миссию на земле.
Подчинять, руководить, направлять, принуждать, наказывать, учить.
Но ведь и мой смысл в том же – чтобы учить и даже поучать, но только не подчинением и принуждением другого, а отстранением, отчуждением себя.
Мы все просто взаимно учим друг друга.
С большей или меньшей долей любви и ненависти, терпимости и злости.
Так вовк – учитель?!
Вот этот конкретный вовк – он мой учитель?
Мой гуру?
Потом, уже в другой жизни, я наткнулся в одном эссе архиепископа Сергия Пражского на размышление о том же, – что самые неожиданные и повседневные житейские обстоятельства служат нам СТАРЦАМИ, учителями, гуру. Но это потом.
Ставлю на место второй шкаф.
Тяжелый, собака.
Не двигаю его, а кантую, с угла на угол, царапая только что надраенный пол.
Поворачиваюсь и снова тру.
Письменный стол, за которым сидит вовк, уже близко.
«Под столом не натирать».
«Есть, товарищ старший сержант!»
Стол обхожу.
Сбоку и спереди.
Поскольку вовк сидит сразу у стены, к ней спиной, обойти его сзади не могу.
Треснуть его бляхой ремня по лысине не могу.
Схватить его сзади за шею и вдавить ему кадык в горло не могу.
Стратегически он окопался точно.
Подойти к нему можно только с флангов и с фронта.
Но с флангов и с фронта к нему тоже просто так не подойдешь, потому что стол он приказывает обойти и между нами полоса прикрытия.
Ладно, стол обхожу и двигаюсь к входной двери, откуда начал.
Пусть живёт пока.
Вот и дверь.
Уф.
Кончаю елозить ногой по полу, снимаю щётку, поджимая и разжимая пальцы в пропотевшей портянке, сапог давит как каменный.
«Ещё раз».
«Ещё раз?»
«Что не ясно?»
«Всё ясно, товарищ старший сержант!»
«Раз ясно, пошёл!»
Никаких эмоций. Не повышая голоса. Вовк сегодня в ударе. Того и гляди, кончит от наслаждения. Среднестатистический вовк в состоянии оргазма.
Снова иду по прежнему кругу.
Вернее, по прежнему квадрату, поскольку каптёрка наша имеет форму чистого квадрата.
Шесть на шесть на шесть на шесть, значит квадратных тридцать шесть, – без стеллажей и шкафов.
Серо-зелёно-коричневый квадрат.
Что делать с этим Малевичем?
С этой квадратурой вовка?
А ничего.
Расслабиться.
Расслабиться телом, сосредоточиться мыслью.
Собраться.
Сконцентрироваться.
Что главное?
Главное – не растерять энергию.
Не растратить.
Энергию чего?
Пустоты.
Пуст и празден.
На мне и во мне ничего нет, кроме моей кожи и моего мозга.
С моей кожей он не сделает ничего.
Разве что начнет совать её в нужник на пространстве лица.
Ладно, это можно пережить, хотя и не стоит.
Но вот опустить, скажем, он меня не может, потому что хорошо знает, что в следующем карауле я его пристрелю.
Все они это знают.
А до мозгов моих дотянуться ему – слабо.
Так что – что?
Нога поболит и пройдет.
Остальным пусть подавится.
И тру.
Двигаю первый шкаф.
И тру.
Толкаю его на место.
Тру.
Двигаю второй шкаф.
Тру.
Толкаю его на место.
Тру.
Обхожу стол.
Тру к входной двери.
Тру.
Останавливаюсь.
Тпру.
Снимаю шётку.
Правой ноги нет.
Одна боль.
В подъеме, в стопе, в голени.
«Ещё раз».
«Как ещё раз?»
«Что-нибудь не ясно?»
«Всё ясно».
«К кому обращаетесь, рядовой?!»
«Всё ясно, товарищ старший сержант!».
Так.
Всё, действительно, ясно.
Это будет продолжаться до посинения.
До моего, то есть, посинения.
Все аббаньяно, все рассуждения о выборах и возможностях из моей головы постепенно испаряются.
Нет больше никаких выборов и никаких возможностей.
Остается только Sein-zum-Tode.
К моей Tode или к его Tode[11]11
Sein-zum-Tode (нем.) – бытие-к-смерти.
[Закрыть].
Конечно, всегда можно отказаться.
Всегда можно послать Вовка к матери.
Не расстреляет перед строем.
Не война.
Конечно, может сломать пару рёбер, выбить пару зубов, но не больше.
Конечно после этого будет гнобить каждый день.
Самыми разными способами, имя которым легион.
Да что там, каждый день, каждую минуту.
Пока не сгнобит.
Т. е. пока не взмолюсь о пощаде или не упаду без пульса.
Так уже было и в первом дивизионе и в третьем, где свои вовки.
Почему этого не может быть в нашем втором?
Почему это не может быть со мной?
Как раз со мной?
Может.
И даже будет.
Ладно, пусть это будет.
Но…
Что но?
А почему надо обязательно говорить нет?
И во имя чего говорить нет?
Во имя спасения чести?
Но какая честь может быть, если ты пустой и у тебя ничего нет, кроме кожи?
Что спасать?
Ах, у тебя ножка болит!
А что бы у тебя болело в Освенциме?
Это же лишь советская ракетная бригада.
Не лагерь уничтожения.
Ну, в своём роде, конечно, это лагерь уничтожения, – всего, что высовывается, всего, что держит в солдатской тумбочке сборник «Современный экзистенциализм», всего, что считает себя лучше других, умнее других, выше других.
Человек это мост, который надо превозмочь.
Чтобы жил сверхчеловек.
Вовк тебе показывает, кого тут на самом деле надо превозмочь.
Кого тут вообще-то очень легко превозмочь.
Достаточно приказать три раза натереть пол в каптерке шесть на шесть на шесть на шесть.
Всего делов-то.
Доползаю до двери.
Доволакиваюсь.
Сотрясаю чугунную щётку с левой ноги.
«Ещё раз».
Ну нет.
«Что-нибудь не ясно?».
«Да нет…».
«Что да нет? Это что за форма обращения?»
«Ну ясно».
«По полной форме и без ну у меня!»
«Всё ясно, товарищ старший сержант!»
«Если ясно, пошёл без разговоров!».
Иду по четвертому кругу.
То есть квадрату.
Наступает самый опасный миг.
Миг-жажды-крови.
Миг-убью-ненавижу.
Теперь проигрываю, потому что смотрю на него как ядерная бомба на Нагасаки.
А он вообще на меня не смотрит.
Никак.
И только тут догадываюсь: он ждёт.
Он ждёт, когда спрошу у него: «За что?».
И тогда он со всем своим удовольствием, с полным своим удовлетворением, ответит так же, как вслух или про себя отвечают все остальные:
«Не за что, а потому. Вопросы есть, рядовой? Что-нибудь не ясно?».
Всё ясно.
Нет, он не хочет моей смерти.
Он хочет гораздо худшего.
Он хочет, чтобы моё «я» перестало быть.
Чтобы моё «я» перестало быть таким, какое есть.
И стало таким, как у всех остальных.
Которые гнутся перед ним.
Которых он ломает.
Вроде Васильева, которому он за его трусость и раболепство выбривает монашескую тонзуру на голове и пускает в таком виде странствовать по казарме.
И Васильев бродит по коридорам, жилым отсекам и ленинским комнатам и весь дивизион потешается над ним и вытирает о него ноги четверо суток.
И все ржут и надрывают животики, так всё это смешно, – куски, спиногрызы, старики, зеленя и даже наш собственный комбат по прозвищу Герр фон Триппербах, страдающий эпилептическими припадками, смущенно хихикает в рукав кителя, утирая заодно рот от слюны.
Вот это вовк!
Васильев бы должен убить старшего сержанта или самого себя, но не делает ни того, ни другого.
Может, в этом как раз и состоит мудрость – мудрость выживания?
Я тоже сначала думал, что основный вопрос философии в том, что первично: болт или проект болта в голове, только после до меня дошло, что вопрос в другом: какой частью себя можно пожертвовать своему народу, чтобы он оставил тебя в покое, чтобы выжить?
И к чему тогда вообще выживать, если при этом надо жертвовать частью себя?
Разве это имел в виду Аббаньяно, говоря о сосуществовании?
Или вроде Матвеева, который каждое утро лижет ему сапоги до зеркального блеска, а он всё недоволен и снова поплёвывает на носки и голенища и Матвеев растирает эти плевки ладонью, а потом опять лижет.
Или маленький Ахматбаев, которого он решает по-былинному наказать за плохое знание языка Пушкина и Толстого, берёт его одной рукой за мотню слишком широких штанов, другой за воротник грязной гимнастерки с несвежим подворотничком, поднимает в воздух и швыряет об пол, как Илья Муромец Идолище Поганое, и Ахматбаев падает на растопыренные пальцы и ломает их на правой руке сразу три.
Значит всё-таки кожу мою он порушить может.
Да и в мозги может залезть.
Придется мне всё-таки уходить в глухое нет, как в зэковскую несознанку.
Но что это значит, глухое нет?
Как его реализовать?
На последнем издыхании проелозиваю к входной двери и завершаю четвертый квадрат.
Стою.
Молчу.
Жду.
Ноги дрожат.
Щётку с носка не снимаю.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?