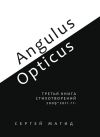Автор книги: Сергей Магид
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Взяли за горло, немного подушили и отпустили.
Подвесили, подержали в петле, а потом вынули.
И отправили в Воронеж.
Мандельштам, между прочим, уже при отправлении в Чердынь понял, что что-то тут не так.
Да и Надежда поняла.
Потому Мандельштам и прыгнул в Чердыни с высокого второго этажа.
Он ведь хотел до конца, всерьез, – а ему устраивали вместо гибели всерьез медленное глумливое издевательство.
Вызова на дуэль безличной власти и – блаародной смерти в поединке – не получилось.
А началось поэтапное садистское удушение.
Игра кошки с мышкой.
Кошка схватит и отпустит.
Схватит и отпустит.
Схватит и отпустит.
Всё больше раздирая мышку когтями.
И долго так кошка веселится.
Пока не схватит и не отпустит.
Но этого ещё дождаться мышке надо.
А Мандельштам ждать не хотел и – прыгнул.
И, прыгнув, всё понял.
«Прыжок – и я в уме».
Что значит – в уме?
А вот это и значит – умным стал, в здравый рассудок вошел, хотя бы внешне отошедши от мудрости, от греха подальше.
Мол, повалял дурака и хватит.
Мандельштам остался жив, преобразившись в результате прыжка из мудрого в здраворассудочного, и поехал в Воронеж.
И вот там, в Воронеже, трагедия противостояния и стала превращаться в трагедию выживания.
Там-то Мандельштам и начал искать компромиссы, чтобы вся эта сволочь кошачья оставила его в покое, отпустила.
Начал искать компромиссы и искать с нею, со сволочью кошачьей, человеческого общения.
Что уже в самих исходных данных своих несёт неразрешимое противоречие – человечьего и кошачьего.
Да плюс к тому, человеческое общение Мандельштам мог осуществлять только через творческое.
Иначе не умел.
Раз женщина – то стих.
А уж если гениальный стих – то только высшая власть в качестве первого слушателя.
Здесь я, конечно, кроме всего прочего, имею в виду знаменитый эпизод с телефонной будкой.
Поскольку разрешенный официоз и его условия, включая и условия разрешенного социального бытования художественного продукта и автора этого продукта, ты отринуть не желаешь, то ты тогда бежишь в воронежскую телефонную будку, то ты тогда звонишь сотруднику НКВД.
Сентябрь 1936 г.: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!»; тут сразу вопрос: как же некому читать, когда рядом стоит Наташа Штемпель?
Разве недостаточно прочесть ей?
Оказывается, недостаточно!
Почему?
Потому что надо прочесть новые стихи не какой-то там Наташе, а гоблину, представителю Саурона, олицетворяющему в Воронеже всё ту же безличную кремлевскую силу, в борьбе с которой уже было написано стихотворение об «осетине» в Фермопилах; вот единственный достойный, аутентичный и адекватный слушатель – Саурон, безличная сила власти, она же у нас всегда сила смерти, как правило, насильственной. И кричишь ему стихи в трубку, говоря тем самым, что вот ты уже собрал свой звездолет из конструктора, так что же никто не смотрит, не замечает, не хвалит?!
А кому хвалить?
В Воронже рядом только охламон (мягко говоря) Сергей Рудаков, вообразивший, что это ОН Осип Мандельштам и что это ОН пишет стихи Осипа Мандельштама, и еще Наташа Штемпель, вряд ли тогда понимавшая, какие стихи пишет семенящий рядом с нею сорокапятилетний старичишка.
Вот как эта «женщина чудной духовной красоты» описывает знаменитый эпизод с воронежской телефонной будкой:
«Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем… гневно закричал… Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен».
Да как же Вы, Наталья Евгеньевна, не могли понять, кому он побежал звонить, кому он вообще мог в Воронеже звонить?
Да что же Вы не бросилась за ним в эту телефонную будку, не вырвали у него трубку из рук, не закричали, чтобы не звонил, не пресмыкался, не унижался, не совершал самоубийство, а прочитал бы новые стихи ей, а еще лучше, если б, взял её тотчас же в этой самой телефонной будке, а Наденьке они ничего не скажут?
И Мандельштам бы засмеялся и бросил бы эту поганую телефонную трубку и потащил бы «светлую» Наташу домой, чтобы тут же рассказать Наденьке, как Наташа хотела ему дать прямо в воронежской телефонной будке, чтобы спасти от общения с НКВД, и Наденька бы, конечно, порадовлась за них обоих и сели бы они втроём пить чай или последнюю бутылку красного.
Но ничего этого не произошло.
Невероятный стресс, который разразился истерикой телефонного звонка в тайную полицию Саурона, не был погашен адекватным по силе выбросом женской интуитивной решимости спасти, защитить и оберечь.
Мандельштам был не просто одинок, он был окружен в Воронеже случайными людьми, он был окружен охламонами, которые, в большинстве своём просто не понимали, что это за существо перед ними и что с этим существом происходит (единственный понимающий друг, Борис Сергеевич Кузин, отбывал в это время ссылку в Казахстане, а Сергей Борисович Рудаков, хотя и понимал, КТО перед ним, но рассматривал этот факт лишь в свете того, как повезло ИМ, Сергею Рудакову и его литературной теории, а вовсе не в свете того, повезло ли с НИМИ, Сергеем Рудаковым и его литературной теорией, поэту Мандельштаму).
Да вот ведь и с Пушкиным выходит у нас та же история.
Пушкин, конечно, пытался игнорировать среду охламонов, которых он называл бессмысленным народом, холодной толпой, подёнщиками, рабами нужды и забот, червями земли, тупой чернью, глупцами и олухами, малодушными, коварными, бесстыдными, злыми, неблагодарными клеветниками и т. п.
Но к суду знающих Пушкин относился вполне адекватно и гордился их вниманием: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил!»
Сам! Державин! Заметил! Нас!
И благословил.
Следуя любимому мной жанру постапокалипсиса, можно, конечно, помещика Пушкина перенести в 1936 г. и посмотреть, стал бы гражданин Пушкин А. С., из бывших, лишенцев и попутчиков, попав в ситуацию гражданина Мандельштама О. Э., звонить в НКВД и читать стихи надзирающему за ним жандарму.
Как мне кажется, – стал бы, сделал бы то же самое.
Несмотря на то, что гордо писал такие, невозможные в мандельштамовской ситуации строки:
Веленью Божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца…
Или:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…
Или:
На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите, вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите – вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете? – Я? Для себя…
Или:
О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и умиленье!
Это всё, конечно, хорошо – теоретически, но читать письма Пушкина последних лет практической жизни – страшно.
Он просит у Бенкендорфа дозволения работать в архивах.
Что такое Бенкендорф?
Что это за автор?
Что он написал?
Как это так, что русский поэт и историк не может с улицы зайти в архив и поработать там, как какой-нибудь Маркс в Библиотеке Британского Музея?
Ах, это архив МВД?
Что, уже и тогда был закрыт для общественности?
Риторические вопросы.
Свои произведения он отдаёт на личную цензуру какому-то местному царю Николаю I.
Что такое местный царь Николай I?
Что это за автор?
Что он написал?
Как это так, что в первой трети XIX в., в стране, считающей себя великой европейской державой, имеет место личная цензура одного царя над творчеством одного писателя?
Кто здесь еще говорит о великой державе, когда речь идет только о первобытном племени с вождем-тотемом во главе, коему представлять обязан для просмотра предсказания свои о дожде единственный в племени на то время гениально функционирующий шаман?
Да чёрт с ними, с текущей женщиной Натальей и проходящим мужчиной Дантесом, да пусть бы спали друг с другом по большой своей страсти, но просить разрешения заниматься историей у шефа жандармов, но проходить цензуру своих стихов у какого-то случайного царя!
На такое, как кажется, открыто согласился потом только Михаил Булгаков со своей пьесой «Батум», которая, в конечном счете, цензуру царя не прошла.
Поразительно, что Булгаков решил перебросить свой «мост» к царю («…Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине…») в том же 1936 г., в котором Мандельштам из воронежской телефонной будки кричал свое стихотворение следователю НКВД.
И вот мы вопим и жалуемся: как же так, великий драматург не мог, понимаешь, поставить свою верноподданную пьесу без разрешения кормчего!
Каков произвол!
А что основатель русской поэзии Пушкин А. С. мог пронести в печать свои произведения, только пройдя через шмон, регулярно производимый в его творческом сидоре лично начальником вахты Романовым Н. А., – это мы, в общем и целом, хаваем, как беспамятный пипл.
Что же Мандельштам?
Мандельштам бы и рад уже был в 1936 г. личной цензуре царя, но никто ему таковую не предложил.
В 1937 г. Мандельштам уже готов не только говорить с кремлевским горцем, но готов уже и извиняться, и не только извиняться готов, но уже и петь…
И к нему – в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел…
(январь 1937)
Когда б я уголь взял для высшей похвалы…
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай…
…
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу его назвать – не Сталин – Джугашвили!…
…
Правдивей правды нет, чем искренность бойца.
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца.
Его мы видели и мы его застали.
(январь-февраль 1937)
И наконец, стихи, с моей точки зрения, абсолютно гениальные и до сих пор не понятые во всей глубине и мощи проникновения интуиции Осипа Мандельштама в сознание своих советских современников и в собственное свое подсознание:
Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери,
И утверждать, что бытие будет
И что народ как судия судит[16]16
Вот где аукнулись строки стихотворения весны 1918 г.:
Прославим, братья, сумерки свободы,Великий сумеречный год!Восходишь ты в глухие годы —О солнце, судия, народ! Некоторые мандельштамоведы полагают, что под сумерками здесь имеется в виду не восход, а закат, вечерний сумрак. Но народ, новое солнце, ведь восходит! Нет, Мандельштам, пожалуй, действительно, хотя и глубоко по-своему, в 1918 г. ждал утра.
[Закрыть];
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И, в легион братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы, —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.
(февраль 1937)
А зачем это всё – Пушкин к Бенкендорфу, Мандельштам – в сердцевину Кремля, Булгаков – на батумский пляж к юному Джугашвили?
Да затем только, чтобы безличная, вечная и бесконечная русская власть (представленная в каждый данный момент тем или иным конкретным племенным тотемом, – царем, генсеком или «президентом» со своим именем, порядковым номером и кликухой) дала официальное разрешение писать, дала легитимное право считаться литератором, разрешила выход в легальную среду воспринимающих на родном языке, с ее океаном издательств, редакторов, типографских машин, рулонов качественной бумаги, книжных лавок, гонораров, рецензий, критиков, периодических изданий, массовых рейтингов, литературных премий, юбилейных вечеров, публичных чтений и конкурсов топ-10 лучших книг каждого года, словом, с ее национальным литературным процессом.
Потому что с этим делом у нас так: кто в этом процессе есть, тот антологически есть, кого в нём нет, того онтологически нет.
Пушкин, Мандельштам, Булгаков в этом процессе хотели быть.
Но не стали.
В чем-чем, а в современном им литературном процессе они не стали.
Вот в бытии остались.
Ну это уже о другом.
К 1937 г. Мандельштам всё пересмотрел в себе, всё вывернул в себе наизнанку, всё перелопатил и без лжи вернулся к себе самому, разночинцу образца 1918 г., – именно для того, чтобы попытаться снова войти в национальный литературный процесс.
Ибо без нацлитпроцесса советский поэт в официальной культуре есть кто?
Правильно – тля безродная.
И напрасно родная вдова этой тли переправляла потом наивно в высоких и благородных целях исторической справедливости последнюю строчку его стихотворения «Если б меня наши враги взяли» с «Будет будить разум и жизнь Сталин» на «Будет губить разум и жизнь Сталин», напрасно Глеб Струве и Борис Филиппов годами издавали за бугром это стихотворение Мандельштама именно в редакции его вдовы, – историческая справедливость восторжествовала, истинный текст был восстановлен и все увидели, что Мандельштам хотел самых обычных вещей, – не борьбы с русской властью, а чтобы она оставила его в покое, один на один с простыми причудами обычного литературного процесса, чтобы она разрешила ему наконец писать и, стало быть, жить.
Но она не разрешила.
* * *
Первое стихотворение, с которого я веду отсчет, я написал весной 1970 г.
Грядущего лик – дик.
Сегодняшний день – пуст.
И жуток порой крик
Молящих конца уст.
И т. п.
Потом я много раз его переделывал, но этот вариант был самым первым и оказался началом прощания с философией экзистенциализма.
Родилось это стихотворение, конечно, из мандельштамовского
Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит…
Впервые я прочел стихи человека по имени О. Э. Мандельштам – в армии, в 1968 г.
Стихи были напечатаны в книге И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», – это была энциклопедия запрещенной культуры, о существовании которой не подозревали ни гауптштурмфюрер Жемчужный, ни я.
Тем не менее я нашел эту книгу как раз в гарнизонной библиотеке и успел проглотить до начала чехословацкой смуты.
Стихи там были прямо дембельные: «я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез, ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир лениградских ночных фонарей и т. д.»
Рыбий жир, – как национальное блюдо «еврейских» детей, – был мне знаком с детства, с эпохи постоянных ангин и невырезанных гланд («детских припухлых желез»), а ленинградские ночные фонари я открыл для себя в четырнадцать лет и… ну, это особого рода свет…
Но Мандельштама как автора целой книги мне подарил Глэд, – по-моему, в самом конце 1969 г., – и тем самым меня погубил.
Мне было 22, я увидел эту книгу и пропал на всю жизнь.
Стихи были на фотобумаге.
Где их Глэд тогда достал, сейчас уже не помню.
Но помню, что на старой дедовой пишущей машинке за несколько ночей я все их перепечатал с этих фотоснимков.
Это был полный «Камень».
Я такого никогда в жизни раньше не видел и не чувствовал.
Я читал эти стихи и дрожал.
Я не мог вынести их чудовищного, нечеловеческого совершенства.
На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.
Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, —
Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.
1909
Несмотря на то, что строка «как на фарфоровой тарелке» имеет вариант «как на фаянсовой тарелке», я предпочитаю фарфор. Он страшно хрупок и он сопровождал меня в детстве. Бледно-голубые тарелки мейсенского фарфора входили в бабушкин сервиз и стояли в буфете. Цвет этот преследовал меня с детства как цвет дома и тоски. Холодное ленинградское апрельское небо бледно-голубого цвета всегда высасывало меня беспричинной печалью, особенно над устьем Невы, над заливом и каналами, оно мучало меня своей бесконечностью и предчувствием одиночества еще когда я был школьником. Незаметно вечереющие березы в скверах и садах на месте разбомбленных угловых домов были так же невыносимо грустны, их черные ветки и веточки, переплетающиеся как тоненькая сетка в узоре отточенном и мелком, в холодном и бледно-голубом месяце апреле были так трогательны в своих надеждах, протягиваясь к небу в немой молитве, так будоражили, так тревожили всё моё существо. И ведь сложнейший рисунок этих веток можно было вычертить метко, художник мог это сделать, он друг наш, он наш брат, он обречён, как и мы, потому он нам мил, близок. Но на хрупкой стеклянной тверди неба, поэзии, жизни и вечности («на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло…») он в состоянии вывести этот меткий рисунок только тогда, когда ему повезет, когда к нему придет вдохновение, когда он получит дар, а потом всё это снова в одно мгновение уйдёт прочь, покинет его, и потому сила его, художника, этого милого, близкого, понятного смертного человека, действительно только минутна, о, Господи, всю жизнь отдать за это сочетание «в сознании минутной силы»! Ведь в эту минуту художник забывает о смерти. В эту минуту он силён, а смерть становится просто печальной, такой же печальной, как бледно-голубое апрельское небо, как рисунок ветвей на его фоне, как печален мир, но не больше. Смерть входит в жизнь, становится ее нормальной, – печальной, – частью. Это был безусловно конец экзистенциализма. Хайдеггер проигрывал Мандельштаму. А Мандельштам объяснял мне, почему я проиграл Вовку. Я проиграл вовку, потому что забыл о своей минутной силе, потому что должен был воспринимать жизнь как художник, потому что я художник, я был им, я должен снова им стать. И всё это, всё-всё, оказывается, можно было уложить в слова, всё это можно было высказать, все эти, скрытые от людей чувства и ощущения, их можно было передать на бумаге, передать – бумаге. А после – всё одно, после будь что будет. Здесь же – было чудо. Мандельштам обращал водопроводную воду жизни в старое вино поэзии, и жизнь, вся, без остатка, включая и свою смерть, тоже становилась вином. Здесь было чудо. Я был его свидетелем. Я видел его, я наблюдал, как оно рождается. Речь шла здесь не о поэзии, не о литературе, не о правилах стихосложения. Речь шла здесь о том, чем жить. После этих слов Мандельштама иначе, чем жизнью Мандельштама, жить уже было нельзя. Но Мандельштам умер, его убили, как я слышал. Что же было делать? Вывод напрашивался только один и был он совершенно естественным, – надо было продолжать за него. И я сказал себе, ничуть не сомневаясь, – я буду писать дальше, я сам стану мандельштамом. Понадобилось очень много внутренних сил, чтобы избавиться от этого ярма. От ярма Мандельштама.
Мэтр и медный чайник
1Прости, я-то думал, что ты – мэтр. А мне сказали, что ты – не мэтр.
Завьялов
Мандельштам спас меня от вовка.
Однако вовк был везде, куда ни глянь.
Он был в самой структуре окружавшего меня общества, в менталитете народа.
Иерархия, подчинение, беспредел.
В любом слое, в любом кружке, в любой субкультуре царил Четвертый Год, господствовал Третий, хитровански выжидал Второй и всеми ими употреблялся Первый.
Армия была первым для меня слепком и срезом Родины, её антропологического и социального строения.
Не сразу я это понял.
Смена поэтических поколений равносильна новому призыву. В литературу приходят «молодые». Не в смысле возраста, а «по рангу», по репутации. Салаги, одним словом (хотя сами они, как правило, считают себя гениальными ветеранами, а не какой-то там «кирзой зелёной», которой еще «служить, как медному чайнику»).
Те же, кто были «молодыми», повышаются в стариковстве, в служилости, становятся дедами. Получают лычки и премии. Господин Третий Год удостаивается звания «русский поэт» за выслугу лет, – за то, что всю жизнь пописывал знакомые всем стишки, подыскивал вежливые рифмы, выдерживал благостный сладкозвучный ритм, привычный народу.
Идёт распределение в национальной табели о рангах, естественный отбор, согласно национальному спросу и его особенностям. Исходя из всего этого, поэты поколения начинают постепенно почковаться, делиться на гениальных, великих, выдающихся, значительных или хотя бы заметных. В общем, от «национального гения» до «заметного представителя». Учителя им всем больше не нужны. Они теперь сами себе учителя. Себе и «молодым».
Всё это в равной степени относится как к «официальным», так и к «неофициальным». Мэтр он везде мэтр, что на нарах в караулке, где он спит всегда внизу у стены рядом с печкой, что в поэтическом цехе, где он бодрствует в своей стеклянной коробке под потолком, не замечая маленьких поэтишек внизу, этих учеников и подмастерьев, ещё только затачивающих болванки собственного производства.
Но есть, есть Страшный Суд! – и над местным мэтром, над Третьим Годом, есть Высшее Существо, оно вздымается над ним и его цехом и критически остро наблюдает за работой фабрики-Руси. Это Четвертый, почти недосягаемый Год поэтической службы. Это не дед, это – годок. Таких годков в стране не больше, чем больших пальцев на одной руке.
* * *
«Мы теперь Господин Третий Год в этой казарме!», кричит гефрайте Егоров вечером 31 декабря 1966 г., – это значит, что только что дембельнулся последний Царь Четвертый Год, чукча-кочегар Иван Иванов.
Царь Четвертый Год есть живой и бессмертный бог, он не делает ничего, кроме перманентного лежания на койке (вспомним ритуальные позы Ахматовой и Кузьминского). Лежание сопровождается ленивой пьянкой, – выпивку Царю приносят как дары тотему на капище и молча оставляют в тумбочке. Пьянка ленива, а не дика, со специальной целью, – выйти на гражданку ещё в какой-никакой форме; для этого же практикуется священный отказ от киселя в обед, исходя из древних слухов о том, что в солдатский кисель подсыпают зелье для ослабления потенции, а это не дай Бог; иногда жизнь Царя окаймляется в качестве узора последним формальным пребыванием на какой-нибудь должности армейского «придурка», скажем, в пожарной центурии или в кочегарке.
Царь Четвертый Год это военнослужащий срочной службы, который по календарю призыва (т. е. от звонка до звонка трехлетней службы в армии СССР, но не по Юлианскому календарю) уже отслужил свои 36 месяцев, но продолжает служить дальше, поскольку непосредственный начальник имеет право держать его в расположении части до 23 ч. 59 м. 31 декабря текущего календарного года.
И тогда оказывается, что безусый вьюнош, призванный 2 января 1963 г. (после «праздников»), может быть демобилизован, – без нарушения закона, – не 2 января 1966 г., т. е. по истечении трех лет со дня призыва, а только «под ёлочку», 31 декабря 1966 г., т. е. по истечении еще одного календарного года, будучи уже заросшим древней щетиной патриархом.
Поскольку вопрос этот отдан на усмотрение начальства конкретной воинской части, сделать из трех лет службы четыре может любой командир полка, и никакой министр обороны и никакой закон страны ему не указ. Господин Третий Год переходит в вечность Царя, в бессмертие Четвертого Года, – на целых двенадцать месяцев. Однако на практике он приобщается, конечно, не к сонму вечно юных олимпийцев, а к кучке зомби, которым всё до фени, к кодлу тех, кого позднее начинают звать «отморозками».
Вот наше Высшее Существо. Вот оно, что у солдат, что у поэтов, – одно, – признанное Четвертым Годом еще при жизни, ставшее кандидатом бессмертия в пределах родной литературной казармы, и как бы уже и не совсем живое, – а национальное. Достояние.
Для чукчи-кочегара Иванова, последнего бессмертного в нашей ракетной бригаде, мы – эмбрионы и насекомые, которых он не замечает.
Когда он бредет, пьяный, в свою кочегарку, встречные офицеры отшатываются на обочину.
А пьяный он всегда.
Ну и топит, естественно, кое-как и чуть-чуть, да и то, покуда не свалится в слюнявый горячечный сон прямо у топки, а мы в это время наверху в казарме превращаемся в сосульки; утром на термометре в жилом отсеке от плюс пяти до плюс девяти, – девять это уже жара.
Честь Иванов никому не отдаёт, по званию не обращается. Его держат в расположении части ровно до 31 декабря 1966 г. и он отслуживает в мирное время 4 года в сухопутных войсках (а 4 года в то время служат на флоте и тоже, конечно, переслуживают, но уже до пяти и более).
Моё изумленное молодое «я» сподобляется однажды стать свидетелем того, как Иван Иванов (а он настоящий чукча, по самоидентификации, а не по прозвищу) беседует с начальником штаба бригады, майором Рановским по кличке Бизань (за худобу и высокий рост).
«Що ж ты, пескоструй» (смысл этого пейоратива мне неясен), говорит, покачиваясь, пьяный чукча Иванов с принятым в Советской Армии украинским акцентом, – это считается особым шиком и удостоверяет принадлежность к истинному коренному народу (что, кстати, гениально заметил поэт Ян Сатуновский, уже написавший к тому времени в одном из своих стихотворений: «он решил быть таким русским, что даже стал украинцем», – конечно, в 1966 г. я еще не имею ни малейшего представления ни о таком поэте, ни об этом его замечании), – «долго ще будешь меня конопатить, пазула?» (смысл этого пейоратива мне неясен).
«Рассмотрим, товарищ рядовой», отвечает, пятясь, Бизань. «В самое ближайшее время, лично обещаю».
«Ты, марамой (смысл этого пейоратива мне неясен), сто херов мне уже наобещал», хмуро наставляет начальника штаба рядовой Иванов, «всё одно остаюся здеся, однако».
Вот от этого «всё одно остаюся здеся, однако», я, рядовой-филолог, прихожу в восторг. Иван Иванов «проговаривается», забывая спьяну про украинскую мову и бессознательно перейдя на аутентичную, хотя и в русском исполнении, «чукчовость». Эта его «чукчовость» меня восхищает. С этнолингвистической точки зрения. Хотя не самом деле никакая это не «чукчовость», а лишь трагический знак принудительной ассимиляции в искаженную «русскость». Но я этого еще не понимаю.
«Обещаю, товарищ рядовой, как коммунист, обещаю», божится майор, отступая всё дальше и чуть ли не творя крестное знамение.
«Ну, гляди», бурчит Иванов, «а то накидаю рожков в топку, запляшете тут!»
Под «рожками» Царь Четвертый Год имеет в виду изогнутые в виде мужских членов в состоянии кривой эрекции длинные магазины для автомата Калашникова, в которые входит по 30 патронов калибра 7,62 мм. Спереть их из пирамиды с оружием, стоящей в углу жилого отсека, а патроны из патронных ящиков в оружейной в коридоре казармы, – раз плюнуть. А в кочегарке набить и – в топку! Ну и мы тогда хорошо попляшем по ночной тревоге: мол, «НАТО напалмом напало, падло!».
Стоит декабрь 1966 г., на дворе жуткий колотун, я дрожу как цуцик в одной гимнастерке на голое тело, брюках и промерзших кирзачах (такой понт у нас, не носить зимой нижнего белья, кроме домашних плавок, даже в карауле на вышке; впрочем Иванов тоже стоит в одной гимнастерке, но он все-таки чукча да еще и пьяный и холода, видимо, не чувствует). Так что, увидев, что меня беседующие не замечают, как порой снисходительный садовник пропускает мимо себя куда-то деловито семенящую тлю, я тоже семеню дальше, в тепло нетопленной казармы, оставляя майора и Царя на переместившемся в вечность босховском натюрморте взаимного прорастания.
А через пару суток – «Мы теперь Господин Третий Год!» кричит ночью гефрайте Егоров.
А за ним и все остальные господа в моей жизни.
Мы – теперь – Господин – Третий – Год!
* * *
Некоторые из них всерьез кричат, что в «терминах казармы» нельзя, кощунственно рассматривать и изображать мир, в том числе и события, изложеные в богодухновенной Библии.
Это от непонимания.
Бог ведь, Он Кто?
Бог – это гениальный спиногрыз.
Т. е. сержант срочной службы (замечательное русское определение миссии Бога-Сына, – «срочная служба»), пасущий и погоняющий своих овечек, спасающий и щадящий их.
Но Бог – Он не только спиногрыз, Он, главное, еще и кусок, т. е. старшина сверхсрочной службы (замечательное русское определение позиции Бога-Отца, – «сверхсрочная служба»), заботящийся о материальном, вещевом и продуктовом довольствии вверенного ему подразделения.
Если кусок большую часть времени пребывает снаружи, в трансцендентальном и метафизическом мире вне физики и физиологии казармы и является, в основном, только на подъем и отбой, на утреннюю и вечернюю поверку, в начале и в конце дня жизни, то спиногрыз (срочник) мотает свой срок с нами, грешными, находится в самой гуще опекаемого им народа, это уполномоченный куска и одновременно один из тех, кто сам находится на довольствии. Истинный спиногрыз всегда готов отдать жизнь свою за други своя, поскольку он за них в ответе. Перед вышестоящим начальством и своей совестью.
Таков Спиногрыз в идеале. Он брат солдату, тогда как идеальный Кусок – отец.
Но есть еще третья ипостась казарменного Пастыря, – это дух казармы. Дух казармы состоит из запаха здорового мужского пота, дешевого шипра, прелых портянок и сдержанного товарищества, причем в последней из перечисленных форм он почти неуловим и ощущается таковым, как правило, лишь в состоянии тихой благодати, вызванной употреблением местного деревенского самогона или, в крайнем случае, тормозной жидкости, где-нибудь в гараже технического парка, вдали от всяческих господств и властей.
Он чист, этот дух, и нет в нем скверны. Как и дух Библии, дух казармы эсхатологичен и весь направлен в будущее, но если в Библии это будущее называется Царством Божиим, то в казарме оно представляется в виде Дембеля нашего, как момента Преображения, за которым закономерно следует Страшный Суд гражданки, её первого дня и последующего развода в караул самостоятельной жизни, без пищевого довольствия и даровых шмоток.
Здесь, на гражданке, дух казармы, Дух Сына-Спиногрыза и Отца-Куска, покидает нас. Здесь мы богооставлены, здесь мы принадлежим только самим себе, и нет здесь того конкретного вовка, которому можно открыто и легко противостоять. Здесь вообще непонятно, чему противостоять, да и надо ли чему-то противостоять. Это очень страшно и потому гражданка куда ужаснее армии.
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух в их «армейском» бытовании и понимании сильно помогают (как Им и положено) в деле интерпретации библейских текстов. Помогают в том плане, что трезво, т. е. через нравы первобытного инициационного сообщества (каким и является армия, пребывающая в своей сакральной казарме-хижине) объясняют необъяснимое и в меру приземляют сверхъестественное, внося в него душу живую и ногу босую, натруженную в твердом как камень, кирзаче, – пошагай-ка в нем сорок лет по пустыне и поймешь тайну Торы, всех её буковок.
Как через идеально вымытое стекло, Библия рельефно и отчетливо просматривается через как будто именно для такого инфракрасного ночного видения созданную, хотя саму в себе и довольно тёмную, армейскую жизнь, её язык и её не прекращающуюся ни минуту, внутреннюю, не видимую миру, войну. Но только через эту войну и можно понять мир, – как этнический, так и метафизический.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?