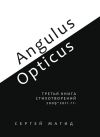Автор книги: Сергей Магид
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Поэту же абсолютно всё равно, каким контекстом пользоваться, главное – делать это хорошо и стоять вне. Не противостоя ничему, кроме собственной бездарности и собственного бессилия.
* * *
Стратановский всё спрашивает меня, когда я брожу по пражским скалам, – точно так, как спрашивал в Питере на углу Загородного и Владимирского: «Перестанешь ты когда-нибудь жить в Апокалипсисе?».
И глухо и протяжно звучит по ночам священная мантра, которую торжественно произносит Бутырин, высоко вознеся стопарь в воздуха, как священник – крест перед язычниками: «А теперь, по хорошей русской традиции, – выпьем по второй!».
В биографии Ходасевича Шубинский совершенно правильно пишет, что для такого человека, как Ходасевич, встреча с живым поэтом, Майковым, была гораздо важнее, скажем, встречи с каким-нибудь Александром III или Иоанном Кронштадтским. Первый живой поэт, которого я в своей жизни увидел, был Стратановский. Кажется, это было весной 1970 г. У Кирилла вроде мы встретились, в доме недалеко от пушкинского Лицея, на веранде или в комнате с высокими окнами во всю стену, и Стратановский там читал свою «Овощебабу». А я – принес свой первый рассказ. Тогдашняя жена Кирилла, красивая и гостеприимная, тут же мои машинописные листочки уволокла в другую комнату, а когда вышла оттуда, сказала только три слова: «Да, это литература» (то есть читать можно, вот это я, конечно, запомнил).

Сергей Стратановский, Сергей Магид. Подвал Клуба-81. Ленинград, ул. Петра Лаврова, д. 5. Начало 1980-х гг. Фото А. Сягина
Скоро я и сам начал писать стихи, о которых, кажется, мог, как Ян Сатуновский, сказать – «считается». Я даже помню, где я такое первое «считающееся» стихотворение написал, – в Инженерном замке, недалеко от комнат, где был убит император Павел I. Там размещался Ленинградский центр научно-технической информации, и весной 1970 г. я служил там в патентном отделе не то техником, не то переводчиком. Блуждая во время многочисленных перекуров в течение восьмичасового рабочего дня по бесконечным коридорам замка, я сочинял стихи, которые потом стал считать «считающимися». Они вошли в первую книгу, которую я составил сам для себя, книгу «Опытов».
Знакомство с Бутыриным и Стратановским состоялось в ту пору, когда я всё ещё привыкал к гражданке и не мог к ней привыкнуть, не зная, как жить дальше среди глупых и инфантильных штатских. Стихи Стратановского пришли после стихов Мандельштама и так же были спасением от послеармейской ночной бессонницы.
Стратановский был старше меня на три года, но казался младше на десять. В поэзии, которую он тогда писал, он был гений (единственный гениальный поэт, которого я видел в своей жизни) и слушать его было счастьем.
Бутырин же был из «взрослых». Когда мне было 22, Бутырину было 29. Я только надеялся, что дух Вовка не имеет двойников.
К Бутырину и Стратановскому мы ездили втроем – Герцог, Глэд и я. По-моему, уже тогда Герцог был знаменит тем, что перевел стихотворение Джона Донна «Посещение». Писал он и своё, например:
Память как робкая школьница
Села ко мне на колени,
Это она виновница
Всех моих треволнений.
Однажды Герцог стал клянчить у нас с Глэдом рупь сорок девять на маленькую. И немедленно, поскольку душа горела. Мы, конечно, были нищи, и рубль был деньгой, но Герцогу нужно было.
«Не требуй, а проси. И на коленях», сказал я, думая его этим отвадить от дурной привычки, да и жестокость Господина Третьего Года была во мне ещё свежа, а презрение к хныкающим штатским вечно. Хотя, возможно, с точки зрения Герцога и Глэда, я так поступил, поскольку был пиявочный еврей. Неважно. Важно, что это было на бульваре посреди улицы Правды, в прошлом Кабинетской, напротив бывшей гимназии Стоюниной, рядом с домом, в котором когда-то жил Николай Лосский, в 1922 г. уехавший в Прагу, где я теперь всё это пишу. Так оно замыкается.
Герцог встал на колени на заплеванный серый асфальт напротив философа Лосского и молитвенно сложил руки.
Бутырин жил тогда в Пушкине. В субботу или в воскресенье мы ездили к нему электричкой с Витебского вокзала. Везли с собой портвейн, иногда водку. Герцог ходил в вечно дырявом на локтях свитере, был долговязым, худым, ироничным и размахивая бутылкой, декламировал, стоя на перроне в ожидании поезда:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…
Поедем в Царское Село!
Герцог был гораздо более, чем мы с Глэдом, продвинут в знании священных затерянных текстов, и это, кажется, от него мы узнали о существовании русской поэзии.
Поезд отходил, и мы все дорогу стояли в тамбуре и рассуждали о высоком в предвкушении встречи с махатмами. До Пушкина езды с полчаса, потом еще на автобусе по городу, а потом мы заходили в старинный особняк, поделенный советской властью на квартирки.
Тогдашняя жена Кирилла накрывала на стол, мы начинали, и тут-то Кирилл и произносил свою фразу о «хорошей русской традиции».
Но чаще мы шли в парк.
Герцог снимал свой драный свитер, заворачивал в него бутылку и саданув донышком о ствол подходящего дерева, высаживал пробку. Мы устраивали «пикник на обочине» и снова говорили о высоком, поддакивая махатмам. Мы обращались к ним, конечно, на «Вы».
Потом начиналось самое главное: Сергей Георгиевич приступал к камланию:
…А там, у жизни на краю
Живет она, овощебаза
За Черной речкой, с небом рядом
Как Афродита с толстым задом
Овощебаба во хмелю
Пророчествовал:
Тысячеустая, пустая
Тыква катится глотая
Людские толпы день за днем…
Шел до таких глубин откровенности, что у меня холодела спина от ужаса:
Страшнее нет – всю жизнь прожить
И на ее краю
Как резкий свет вдруг ощутить
Посредственность свою…
Открывал что-то совершенно невероятное, никогда раньше не только не слышанное, но и не чувствованное:
А Бог – не призрак золотой
Не зверь, не звездный жар
Он только голый шар
Бесполый и пустой…
И вот это:
Тихо, тихо в белой спальной
Белый потолок
С потолка глядит печальный
Без плечей браток…
И ещё вот это:
…Что же ты, головопузый
Все скучаешь и молчишь
Разве только с пьяной Музой
В серой щели переспишь
Ты ее как муху ловишь
Паутинясь целый век
Темнотелыш, темнолобыш
Насекомый человек
И, может быть, самое главное:
…И мнится: я – совсем не я
Среди заводов и больниц
Продмагазинов, скудных лиц
Я стал молчанием и сором бытия
Все эти стихи Стратановского 1968–1970 гг. (потом отредактированные им в 1971–72) мне посчастливилось слышать ещё горяченькими, только что испеченными, с пылу, с жару, если не в момент рождения, то в период первого младенчества. Кирилл устраивал критический разбор, мы поддакивали, Сергей Георгиевич трепетал, заранее соглашаясь со всем, что ему скажут.
Через несколько лет мы перешли со Стратановским на «ты», а с Кириллом больше, чем на «ты», то есть ко взаимной, добросовестно сдерживаемой неприязни, и так это всё и осталось.
Теперь некоторые ранние стихи Стратановского страшно напоминают мне поздние стихи Странника (даже первые четыре буквы их имён совпадают, – знак!), – это поэтический псевдоним архиепископа Сан-Францисского Иоанна Шаховского (1902–1989). Правда, при кажущемся подобии, глубинные смыслы поэтик этих людей совершенно разные. Но интонация – удивительно похожа. А интонация – это весь стих, как он есть, это его нагая плоть без маскирующих или украшающих одежд. Вот Странник:
В лирических бездомностях моих
Нет громких звуков. Зарожденный стих,
То медленной волной, то быстропенной
Течет. А я смотрю недоуменно
На эту совесть мира. Как и я
Она не звук, а шепот бытия.
1970
Однако в те времена я не находил стихам поэта с Обводного канала никаких аналогий.
Тот, молодой Стратановский (в 1970 ему было 26), был поэт от Бога, он был дар сам по себе и был дан нам как дар. Он потряс и поразил меня. Я и представить себе не мог, что по-русски можно так говорить. Я пытался понять, как Стратановский это делает. Как он осмеливается писать так просто, вводить уличную лексику, отказываться от возвышенного, от пафоса, честно излагать историю своих сомнений, поражений, катастроф. Кто дал ему право или скорее, как он сам взял себе право, никого не спрашивая, писать языком Красноармейских улиц и Обводного канала?
При всём при этом, писать так же, как Стратановский, я никогда не пытался. Это было невозможно, и я сразу это понял.
Подражать Стратановскому было нельзя.
Стратановский-поэт был безобразен, он весь был в ухабах и струпьях.
Казалось, что вот так стал бы писать стихи Смердяков, интерпретирующий сам себя как библейского Иова.
Гениальный Смердяков.
Но кто же будет подражать Смердякову?
Тем не менее у Стратановского я нашел три вещи, которые просто не мог не воспринять как интимно свои. Я увидел в них совершенно новые объекты поэтического изображения, понял как гениальное творческое открытие, и взял как собственное «поле деятельности».
Это были: мифологема Обводного канала (Обводный – это естественно, поскольку улица моего рождения прямо в него впадала, в нём я в раннем мальчишестве ловил с ребятами «кобзду» под Каменным мостом), потом мифологема заводской проходной (на заводах я поработал еще перед армией), и к ней – не проспавшийся с похмелья советский рабочий (как символ родной повседневности, всё больше напоминающий какого-нибудь трагического Уголино из дантовского ада).
Вся ностальгия по молодому Стратановскому ушла у меня потом в метафизический текст о пьяном пролетарии в скверике у Мальцевского рынка («Был жуткий дуб в ту мартовскую ночь…») и в цикл монологов персонажа по фамилии «Казаков», жизнь которого проходит на берегах пустынных волн Обводного канала.
Берега эти когда-то не были гранитной набережной. Они были круты и зелены. Репей, ромашка, одуванчик, густые комковатые травы покрывали их. Я сидел в этих мягких комках на крутом откосе и замирал от ужаса, боясь соскользнуть в густую коричневую воду. Откуда меня уже никто никогда не вытащит.
Гений Стратановского Бутырин растил и пестовал на наших с Глэдом глазах. Кирилл Михайлович был совершено беспощаден и критиковал Сергея Георгиевича самым немилосердным образом. Глэд злорадно хихикал, говоря об этом, а я ужасался: как можно так обращаться с гением.
Позже догматизм и даже своего рода фанатизм Кирилла мне пришлось испытать на собственной шкуре. Хотя и в более щадящей форме, но тоже с закапываньем заживо и последующим выбрасываньем на помойку.
Бутырин был, конечно, «авторитет» и диктатор, но был всё же несколько мягче, чем иные паханы русской творческой тусовки, что «официальной», что «неофицальной».
В «официальной» тусовке эталоном такого «крестного отца», неподчинение которому равнялось смерти, – в искусстве, в профессиональной карьере, равнялось уничтожению судьбы, – был для меня Андрей Тарковский. Уже по одному выражению его лица я понял, что это Вовк. Я сильно подозревал, что его творческая жизнь зиждится на костях и крови многочисленных «шестёрок», которых он употребляет, как вор в законе, как маршал Жуков, как русский гений, которому всё позволено, потому что только он «право имеет», а все остальные – лишь «твари дрожащие». Не сразу я об этом узнал, а когда много позже все-таки узнал, – из дневников и воспоминаний, – стало ясно, что первый мой взгляд на его лицо не обманул меня.
Бутырин, слава Богу, был всё же не таков, он всё же учил, а не давил брутально, не изгонял на фиг из литературы и, тем самым, из жизни, не спускал с лестницы, не уничтожал, не вытирал о тебя ноги как о грязную тряпку, хотя, конечно, в меру своих физических сил и своего ума достаточно «творчески» издевался.
Неудивительно поэтому, что при первой же встрече с русскими литераторами я обнаружил в их среде поразительно знакомый стиль взаимоотношений. Матёрая иерархичность, откровенный беспредел, циничное помыкание «молодыми».
В этой системе человеческих контактов Бутырин был – Господин Третий Год, Стратановский – на переходе из Первого во Второй, а я тут же стал салагой из карантина, тем самым «медным чайником, которому ещё служить и служить».
Парадокс заключался в том, что снова стать салагой и чайником я уже никак не мог, ведь я сам был совсем недавно Господин Третий Год. Мне явно не хватало смирения. Покорности. Скромного знания своего места.
Я полагал, что сыт всем этим по горло. Три года в русской армии я, как умел, смирялся и был покорен всяческому неандертальству. Начинать всё это снова я не мог. Я стал брыкаться. Возражать. Остаивать своё.
Однако подобие – не только ленинградского частного литературного сообщества, но и всей жизни на гражданке – нравам, царящим в казарме, нарастало с каждым днём, по мере того, как я уходил всё глубже в штатскую тягомотину.
Речь шла, как я видел, даже не о конкретной политической власти, не о конкретной общественной атмосфере, а об особом способе думать и поступать, который в каждом ином месте, в каждое иное время, с завидным однообразием и повторяемостью проявлял одни и те же свойства и склонности, «мыслил» и «вел себя» по одним и тем же стереотипам. Тем не менее, мне понадобилось еще очень много времени, чтобы осознать эту умственную и эмоциональную взаимосвязь всех со всеми, о которой Пушкин написал в своей сказке: «здесь русский дух», и которая затягивала в себя как зыбучий песок.
Высокая духовность в моей родной стране неразрывно переплеталась с самым примитивным солдафонством, с каким-то тупым и тщеславным каптёрочным старшинством, фельдфебельством, межеумочным унтер-офицерством, вахтёрством, воплощалась в тех же, что и у них, вполне предсказуемых реакциях как на уровне чувств, так и на уровне рассудка.
Ощущение того, что ты всё это знаешь, всё предвидишь, что беспредел достанет тебя повсюду, куда бы ты ни укрылся и как бы ты ни брыкался, и было главным ощущением дома. Более того, – ощущением Родины.
Уйти из этого ощущения постепенно стало некуда. Лишь иногда, когда я оставался один, – в тайном жидомасонском заговоре с лесом, травой, утренним озером или ночным заливом, – оно отпускало меня.
Между тем Бутырин был первым человеком из мира пишущих, который принял участие в моих стихах и нашел в них что-то путное. Через несколько лет он стал помещать некоторые из них в своем журнале «Обводный канал».
Бутырин впервые устроил мой поэтический вечер. К тому времени он переехал в Ленинград, в старинный дом на улице Герцена, между Невским и Исаакием. Там, в его кабинете с высокими потолками, высокими окнами, прикрытыми от улицы тяжелыми портьерами, и высокими книжными шкафами я в первый раз прочел свои стихи незнакомым людям. Это было, кажется, в 1978 г.
Люди были бородатые и загадочные, портвейнов расходовали очень скоренько, но стихи слушали внимательно. Когда я спросил их, не принадлежат ли они к так называемой «внутренней эмиграции» (другого термина я тогда не знал, но что люди это «несоветские», сразу с воодушевлением понял), все они как один очень обиделись, а Кирилл торжественно произнес, что уж кто-кто, а они-то как раз у себя дома.
Наконец, в один действительно прекрасный день Бутырин сказал мне главное: «Пусть твои стихи будут корявыми, главное, чтобы они были твоими».
Я начал пытаться писать именно «корявые» стихи и с этой «корявостью» в пределе пришел к верлибру, – что же еще, полагал я, может быть более далекого от нормативного, классического, полнозвучного, красивого, завораживающего русского традиционного стиха, как не «корявый верлибр».
Но здесь уже восстал против такой экстремистской «корявости» сам Бутырин и эти мои стихи не принял, заподозрив меня в том, что писать классическим стихом я просто боюсь, потому что, с его точки зрения, это гораздо труднее, чем писать верлибр.
Между тем, в 1983–1984 гг. из стихов, написанных верлибром, я составил целую книжку, которая называлась «ниже уровня воздуха».
Но всё, что я тогда делал, уже проходило мимо внимания Кирилла.
Если Мандельштам спас меня от вовка, то Бутырин спас меня от Мандельштама.
Всё же подробнее я стал познавать Мандельштама летом 1970 г., после знакомства с Бутыриным и Стратановским. Это было в Крыму, в археологической экспедиции, под руководством Глэда, который к тому времени стал геофизиком и возглавлял в экспедиции геофизическую группу, т. е. себя и меня.
Там, на долгих и пустых песчаных отмелях Тарханкутского полуострова, в безлюдной бухте Ярылгач, а потом на античных руинах Херсонеса под Севастополем, в перерывах между работой на советскую геофизику, я с головой нырял в недлинные мандельштамовы стишки самиздатского извода.
Ничего прекраснее в моей жизни больше уже никогда и нигде не происходило.
В общем,
Глаз удаленных не потерять мысли:
Ведь моим сердцем твой рот навсегда ал:
Моей взмывает слезой, неисчислим
Колхиды вал.
Иван Аксенов1923
И с тяжким грохотом подходит к изголовью… Не могу спать. «О боги мои, яду мне, яду!..»
В отличие от Стратановского, которой потряс меня, окунув с головой в коричневую и густую жижу Обводного канала, Мандельштам меня обратил лицом к небу и за шкирку вытащил из сточной канавы.
Ходасевич пишет, что первым его стихотворением было стихотворение Майкова, а Берберова первым своим стихотворением считала стихотворение Лермонтова.
Не знаю, чьё стихотворение считал первым своим Стратановский, некоторые говорили, что Случевского, который, мол, так в Стратановском и остался, а вот моими первыми стихами, которые точно во мне остались до сего дня, были вот эти: «Звук осторожный и глухой…», «Дано мне тело, что мне делать с ним…», «На бледно-голубой эмали…» и «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
Эти четыре стихотворения написал, на самом деле, не какой-то там давно умерший русский поэт Осип Мандельштам в начале 1900-х (или, как теперь все чаще слышу, – какой-то русскоязычный имитатор Тютчева, по отчеству Хацкелевич), нет, вовсе не он, а это я их написал, я их написал в начале 1970-х, только никто об этом ничего не знал, включая самого Осипа Мандельштама и его вдову, которая в те времена еще вполне здравствовала. А я понятия об этом не имел, я даже не подозревал, что у меня есть какая-то вдова.
Конечно, в то время, через год после дембеля и выучки вовком, я еще не был осведомлён о том, что между девятьсот десятыми и девятьсот семидесятыми, т. е. между Мандельштамом и мной, в русской поэзии существовали Хлебников, Вагинов, Заболоцкий, Оболдуев, Введенский, Луговской, Слуцкий, Кропивницкий, Сатуновский, Холин или Аронзон. Куда там, русская поэзия началась для меня с Осипа, весь мир сошелся на нём в 1970-м году и я пропал.
Вот тогда-то, пропав, я и сказал себе: «Кто сказал, что я не могу писать так же?»
И я стал писать «так же».
Но ничего, кроме высокопарного виршеплетства у меня не получалось.
Тогда Кирилл спросил меня: «А можешь что-нибудь от себя, изнутри, собственное?»
Я показал ему несколько стихотворений, одно из которых кончалось строфой
Кто ты? Куда ты? Зачем?
Брось, не ершись, дурачок!
Нечего плакать. Ничем
Не выделяйся… молчок…
1973
Кирилл посмотрел и сказал: «Вот единственное твое собственное слово здесь – этот «молчок». Вот так и пиши». И избавил меня от О. Мандельштама. От его ярма.
С тех пор я так и стараюсь писать, как посоветовал Кирилл. Собственными словами. Молчком.
2– Будет ли при коммунизме пятый пункт в паспорте? – Нет, будет шестой: «Был ли евреем при социализме?»
Анекдот 1980-х гг.
Если бы всё так и осталось между нами на уровне стихов, то, может быть, моя жизнь сложилась бы иначе. Но опять в неё вмешалась поганая проблема самоидентификации, навязанная извне. Придуманная проблема. Не экзистенциальная, не настоящая.
Годы шли, и я стал замечать, что отношение Бутырина ко мне меняется. Странно: из первоначально очень теплого, искренне заинтересованного, в чем-то даже отеческого, оно стало превращаться в холодно-абстрактное, в демонстративно не личное.
Если сначала ко мне относились как к конкретному человеку (поэту, филологу, дураку), то по ходу времени стали воспринимать меня как представителя какой-то абстрактной общности, какого-то опять неизвестного мне клана, за все поступки которого (или поступки, приписываемые которому) я – именно я, затаившийся и коварный, – должен был дать ответ. Должен был быть строго спрошен и справедливо осужден.
И Кирилл начал (с) меня строго спрашивать.
Этих строгих вопросов было много и становилось всё больше, и я их приводить здесь не буду, но один из них потряс меня до глубины мозгов, так же как стихи Стратановского и стихи Мандельштама. Потому что это тоже был своего рода гениальный текст, нечто вроде галлюциногенного гриба, – принял его и не знаешь, ты жив или только немёртв?
Однако этому галлюциногенному грибу предшествовало множество других, не менее галлюциногенных.
В выращивании этих дурманных грибов активное участие принимал не только Бутырин, но и мой лучший друг Глэд. Что говорить, одноклассники взрослели и на смену романтике глобуса приходила суровая реальность местного патриотизма. Местный же патриотизм был органически невозможен без козлищ греха, изгоняемых в пустыню или, ещё лучше, сбрасываемых в Геенну огненную. Галлюциногенные грибы местного патриотизма и козломахии и приводили к гениальным русским текстам.
«Вот возьмем Гитлера», задумчиво говорил Глэд. «Вот он ликвидировал шесть миллионов евреев, это так?»
«Это так», радостно соглашался я, умиляясь тому, что вот, мой лучший друг, хоть и преображается постепенно в сугубо местного патриота, всё же признаёт Холокост, а для этого уже бо-о-ольшое внутреннее благородство надо иметь. И я радовался.
«Но как же так», задумчиво продолжал Глэд. «Шесть миллионов! Целых шесть миллионов!»
«Да, да», радостно поддакивал я. «Целых шесть».
«Но разве это можно», скорбно вопрошал Глэд, «вот так, ни за что ни про что уничтожить шесть миллионов человек?»
«Да, да», умилялся я глэдовой скорби, «разве можно?»
«Вот и я говорю», продолжал Глэд, «что нельзя. Ни за что ни при что. Значит за что-то. Значит, было за что».
«То есть, что значит – было за что?», начинал тревожиться глупый я.
«Ну, значит, что-то такое они все сделали, эти евреи, раз Гитлер их уничтожил в таком количестве».
«Как», изумлялся я, «что сделали?»
«Ну, это уж я не знаю», задумчиво тянул Глэд, «что они сделали. Это тебе лучше знать. Но что-то, видимо, сделали. Дыма ведь без огня не бывает. Если уничтожили целых шесть миллионов…»
«Ну да», кричал я, «шесть! шесть миллионов!»
«Значит, было за что», скорбно заканчивал Глэд.
Кирилл, сидя напротив, благостно и тоже скорбно кивал головой. Да, друзья мои, значит было за что. Что-то там такое было с этими евреями. Что-то они, видимо, не то сделали. Что-то, видимо, эдакое. Что и послужило причиной чистки. Стало быть, было от чего очищать. Мы, правда, не знаем точно, что именно они сделали, от чего их очищали, но вот, может быть, ты нам скажешь, милый друг?
Однако сказать я ничего не мог. Никаких аргументов у меня не было. Говорить о том, что это грязная антисемитская казуистика, казалось мне пошлым, недостойным нашего круга и круга наших разговоров о литературе, да и не мог я поверить, что всё это говорится совершенно всерьез, всё мне казалось, что это какой-то такой очень тонкий юмор, розыгрыш, такая высокая духовная ирония, которую я, в силу своей тупости, в силу какой-то своей, видимо, интеллектуальной немощи, просто не в состоянии адекватно воспринять, правильно понять. Ну не могли же мои духовные собратья, мои друзья, так думать взаправду. Это не укладывалось у меня в голове.
Моя беда, проклятье моей жизни вообще состоит в том, что правила этой жизни не укладываются у меня в голове. Наверно, голова маленькая. Не вмещает.
Но всё это были только цветочки. Ягодки начались тогда, когда я увидел, что мои собеседники постепенно перестали вообще всерьез воспринимать мои слова, мои мысли, мои высказывания. То, что исходило из моего рта, было априори ошибочно и скверно. С их точки зрения, это происходило потому, что душа моя была испоганена и искажена различными «комплексами» (Фрейд вообще повлиял на психологию советской интеллигенции тех лет гораздо в большей степени, чем Маркс), особенно комплексом неполноценности, который справедливо должен был нести в себе каждый человек с моей фамилией и с моей рожей лица.
Даже тогда, когда я подкреплял свою мысль ссылками на мировые авторитеты, она всё равно подвергалась сомнению и высмеивалась, а авторитеты тут же объявлялись фальшивыми.
Как-то речь зашла о Православии. Впрочем, речи о Православии и церковной жизни заходили всё чаще, постепенно, но неумолимо вытесняя собой разговоры о поэзии. Причем слово «православие» всё чаще совмещалось в одной фразе со словом «национализм».
«Почему некоторые считают, что национализм это плохо?» строго вопрошал меня Кирилл. «Вот ты как считаешь, русский национализм это плохо или хорошо, скажи-ка нам?»
Так появилась оппозиция «Ты – Нам».
Что ТЫ скажешь НАМ (подразумевалось – «в свое оправдание»).
В свое оправдание я мямлил что-то донельзя банальное и пошлое, вроде того, что национализм естественен, пока он не превращается в шовинизм, что тогда он становится не любовью к своему народу, а ненавистью ко всем остальным народам…
А сам-то не мог понять уже тогда, как вообще можно любить какой-то народ, когда любить можно только любимую девушку, а всё остальное – нужно лишь терпеть…
Но сказать об этом вслух Кириллу я боялся. Ещё обзовёт космополитом, стыда не оберёшься…
Между тем в наших беседах всё больше прояснялась мысль, что настоящий русский национализм, во-первых, должен существовать вопреки врагам, внешним и внутренним, во-вторых, ничего плохого в нём вообще нет, а есть только одно хорошее, и, в-третьих, он должен нести миру православные ценности, потому что Православие (с большой буквы), в отличие от католицизма (с маленькой буквы), всегда было теплым, человеколюбивым, глубоко-духовным, высоко-нравственным, истинно русским и т. п.
И тут чёрт меня дёрнул, пиявочного еврея и паразита, что-то вякнуть по поводу того, что это не совсем так, чтобы были и у Православия свои человеческие слабости и государственные просчеты.
«Как? Что? Например?» и Кирилл тут же становился в эту свою позу оловянного Мефисто, – глаза останавливалсь, лицо застывало, губы вытягивались в жесткую складку, движение руки – и я испепелён.
«Ну, например, Православие тоже устраивало крестовые походы, как и Католицизм», сказал я.
Тогда я думал, что крестовые походы – это вообще что-то очень плохое, теперь я, конечно, так не считаю; это был один из тогдашних способов приучения варваров к цивилизации, причем только редкие одиночки могли тогда сообразить, где, собственно, кончается цивилизация и начинаются варвары; сейчас таких одиночек стало несколько больше.
Моё неосторожное заявление о православных крестовых походах привело Кирилла в состояние благородной и справедливой ярости. Он потребовал доказательств.
Доказательства от меня, в отличие от всех других, спрашивались очень строго: я должен был во всех подробностях указать точный источник своей сомнительной информации. На утверждение без доказательств имел право только Бутырин, даже робкие реплики Стратановского выслушивали с легкой усмешкой на губах, – мол, что возьмешь с поэта, даже гениального.
Я же не был ни гений, ни мэтр, ни местный патриот, – собственно, кем же я тогда был? Тварью дрожащей? Парией?
Что вообще происходило? Почему? Почему моя мысль ничего не стоила – априори?
Тогда я ещё не мог этого понять.
Сам я, конечно, считал себя право имеющим и копьеносным кшатрием. Правда, вслух никому об этом не говорил и порой сильно в этом сомневался.
Пока же, поскольку личность моя была не в счет, поскольку мысль моя в расчет не принималась, поскольку в расчет принимался только авторитет вора в законе, пахана, мэтра, Господина Треьего Года, – мне приходилось постоянно оправдываться. Оправдываться в том, что я вообще что-то про себя думаю и даже осмеливаюсь что-то говорить другим, дерзко отрывая их от их собственных глубоких раздумий. Тогда как сокровенное моё не только ничего не стоило, но даже не имело права быть озвученным.
Всё более оловянными и неподвижными становились глаза нашего Мефисто. Делать было нечего, надо было оправдываться и в этот раз.
Пришлось мне рассказывать Бутырину, что существует такой советский (уже минус!) историк (а кто его признал историком?) Пашуто (фамилия какая-то странная!), что он написал толстенный талмуд под названием «Образование литовского государства» (почему не Русского?) и вот там-то он и пишет о православных крестовых походах (мерзавец!) против языческой жмуди, и я, поскольку сейчас изучаю литовский язык и историю Литвы (зачем? почему не России?), в этой книге всё это и вычитал.
«На какой странице?» спросил Кирилл.
«Да, на какой странице?» спросил Глэд.
На следующий вечер я принёс на улицу Герцена книгу историка Пашуто с закладкой на той странице, где речь шла о православных крестовых походах с целью обращения литовских язычников в правую веру – огнем и мечом.
Страница была представлена, а на ней черные типографские буковки на белой бумаге. Глубже идти за доказательством моей правоты мне было некуда.
Но глубина, оказывается, ещё была. И бездонная. Просто я о ней не подозревал.
«Этот твой историк – сумасшедший ненавистник всего русского», сказал мне мэтр с металлическим лязгом в голосе (термин «русофоб», ныне ставший рутинным, тогда ещё в нашем сознании активно не присутствовал).
«Да этот твой историк – спятивший ненавистник всего русского», сказал Глэд.
«Православие никогда не пользовалось огнем и мечом», сказал мэтр.
«Никогда, понятно?», сказал Глэд.
Так проходили наши дискуссии в конце 1970-х гг.
Историк Пашуто и крестовые походы Православной Церкви – были невозможны ни на какой странице.
Между тем в России активно развивалось религиозное возрождение (героем Кирилла был тогда Владимир Пореш, которого через год или два арестовали и бросили в лагерь), и в связи с этим дискуссии наши становились всё более энергичными и всё более полными двусмысленностей, пока, наконец, Кирилл не накормил меня тем самым своим галлюциногенным грибом, с которого я начал этот рассказ. Сей гриб тоже был исторического характера, но без указания источников и тем более без ссылок на страницы. И задолго до двухсот лет вместе.
«А известен ли тебе такой факт», спросил мэтр своим густым голосом, останавливая глаза и рассматривая меня оловянным взглядом, как средневековый алхимик пиявку, «что на Украине в семнадцатом веке православные должны были платить евреям за доступ в собственную церковь? Что евреи брали с православных налог за вход в православный храм? Что ты нам по этому поводу скажешь?»
«Да», сказал Глэд. «Что ты нам скажешь?»
Я, конечно, мог потребовать у Кирилла ссылку на источник и номер страницы. Так сказать, доказательства на стол! – как обиженно восклицают теперь русские историки, когда им вешают на уши бездоказательную лапшу о каком-то там «пакте Молотова-Риббентропа» или о плане «Гроза», или о «катыньской фальсификации». Но я ничего не воскликнул.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?