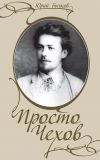Текст книги "Старые дороги"

Автор книги: Сергей Полищук
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Глава V.
Зима – весна шестьдесят первого года. События районного и нерайонного значения. Дело отцеубийцы Адама Зайца.
Зима в Старых Дорогах долгая и безрадостная. Поуезжади. студенты, городок опустел Черные избы «домов» под густым слоем снега (он иногда достигает высоты самого «дома») стоят, вжавшись в землю. Снег покрывает и все надворные строения, и все уменьшающиеся поленницы дров во дворах. Не квохчут куры. Тишина. Местечко засыпает.
По-прежнему, впрочем, активно работает несколько районных учреждений, в том числе суд. Люди судятся, изобличают друг друга делят совместно нажитое имущество («раздел колхозного двора»), обирают или пытаются обобрать друг друга… Живут!…
Произошло несколько событий районного и нерайонного значения. В доме культуры (так именуется теперь районный клуб) недавно назначенный заведующий этим учреждением, бывший учитель истории товарищ Ратнер прочитал лекцию о христианстве, где убедительно и неоспоримо доказал, что «Иисуса Христоса» никогда не было – это солнечный миф. Напился героический гном Фима и окончательно победил всех родственников жены. Фиму на это! раз забрали в милицию, и Пильгунов бегал его оттуда выручать.
И еще нагрянула из Минска жена Узлянера. Обошла все! еврейские дома, всем старым еврейкам рассказала, какой ее муж необыкновенный мерзавец: берет наверное, взятки, дружит с этим подонком-адвокатом и не хочет с ней спать. Перед отъездом она расколотила толстое, в полпальца, стекло на столе прокурора.
Вот, собственно, и все главные события той зимы.
Да, совсем забыл. В доме культуры восьмидесятилетни» сапожник Кустанович, постоянный участник художественной самодеятельности, вместе со своей старухой-женой пел белорусские народные песни, плясал «Павлинку» и все такое. И как Мольер умер на сцене. Мир праху его!
* * *
С наступлением весны ничего вроде бы не изменилось и в моей консультации. По утрам ко мне по-прежнему приходили мои клиентки (приходили очень рано с рассветом, когда открывался маленький местный базарчик, на который им ведь тоже нужно было еще успеть), я выслушивал их бесконечные истории, что-то писал им, потом бежал в суд на зов секретаря Зиночки («Ой, бежите в суд, там сейчас дело будет, и они хотят взять защитника!» – «Хотят пригласить защитника?» – «Да, да, хотят нанять!»).
Или же, наконец, вместе с моими коллегами из суда и прокуратуры и неизменным Фимой (Фима после пребывания в милиции заметно поскучнел), вместе с ними ехал в какую-нибудь деревню, чтобы там (ближе к народу!) выслушать уже в лицах какую-нибудь душераздирающую историю из его (народа) жизни. Сидел обычно чуть ли не до вечера и промерзшем за зиму и всегда полупустом сельском клубе.
В зале чадили керосиновые лампы, на степах, радуя душу, висели транспаранты с призывами и с сообщениями об успехах местных картофелеводов и механизаторов… В колхозе имени Скворцова и Майорова, где недавно побывало областное радио и телевидение и вообще проходило большое партийное шоу (этот колхоз считался лучшим в районе и ему торжественно было присвоено звание колхоза коммунистического труда и быта) мы рассматривали дело о групповом изнасиловании сельской дурочки. Ее изнасиловали в пьяном виде трое парней набравшихся по случаю этого праздника. На вопрос судьи Пильгунова, знает ли она этих парней и может ли их показать здесь, в зале, дурочка довольно осмысленно ответила, что да, может, кривеньким пальчиком указала на всех троих подсудимых, сидевших в углу зала под охраной конвоя, в их числе и на моего подзащитного, а, несколько помедлив и вдруг радостно ослабившись, – и на прокурора Михаила Павловича, словно внезапно вспомнив о чем-то особенно приятном, и на самого Пильгунова…
Впрочем, приблизительно через час после начала процесса все его немногочисленные наблюдатели обычно уже спят, 4 иные из них еще и уютно при этом похрапывают…
А, между тем., если бы они не спали да еще и не похрапывали при этом, если бы могли слушать и понимать, какие удивительные человеческие трагедии иной раз здесь перед ними разворачивались, какой обнаруживался схлест характеров, темпераментов и всего прочего, присущего только настоящей высокой драматургии!
Адам Заяц, девятнадцатилетний паренек, которого я защищал, по свидетельству всех, был самый милый и застенчивый парень, во всей деревне, с какой-то даже женственностью в характере. «Ото ж все равно как девушка, – говорили о нем, – ото ж даже пойдет с девчатами в лес собирать ягоды… Ну, вы знаете, сколько вообще насобирают хлопцы? Вообще ж ничего! А этот, ей-богу, насобирает больше всех девчат вместе!… И вот этот Адам, в жизни своей и мухи не обидевший, убил родного отца, подняв его на вилы. Убил потому, что не мог больше терпеть его каждодневных издевательств над собой и над сестрой, над тяжело больной матерью (мать недели через две после этого скончалась от рака, его постоянных пьяных ночных дебошей с матерщиной, с выталкиванием из дома (и это нередко среди зимы, в самые лютые январские морозы!), с необходимостью неделями потом ютиться по чужим чердакам и чуланам. И когда отец в очередной раз стал их всех троих выгонять на улицу („Вы тут кто? Я тут один хозяин и персональный пенсионер, между прочим!“). когда при этом еще и схватился за вилы и полез на Адама, то Адам вырвал их у пего из рук и сам, словно бы на мгновение обезумев…
А потом он спал. Уснул здесь же, на пороге комнаты, возле трупа отца, и час или два так рядом с трупом и проспал… Потом, проснувшись, аккуратно, как все всегда делал вообще, пришивал к кальсонам оторвавшуюся во время борьбы и драки пуговицу…
Адама Зайца я защищал со всем пылом молодости и со всей симпатией к этому несчастному парню, который, как я уверен и сейчас, был доведен до крайности и совершил преступление в состоянии физиологического аффекта (сильное душевное волнение, снижающее контроль человека над своими поступками), но доказать этого не смог. К восьми годам за совершение умышленного убийства приговорил его Минский областной суд, рассматривавший это дело у нас в районе о выездной сессии. «Сработали» против него и его сон возле трупа отца, и пришиваемая затем пуговица, а, главное, то. что пьяница-отец, как я уже упоминал, был персональным пенсионером и в прошлом – отличником железнодорожного транспорта, а Адам и его сестра, занятые последний год уходом за больной матерью, на колхозные работы вообще не выходили, как указывалось в их характеристиках, и выработали ничтожно малое количество трудодней.
На это последнее обстоятельство более всего и упирал государственный обвинитель – приехавший из Минска, из областной прокуратуры, очень основательный пожилой еврей с круглыми выпученными глазами и бугристым носом. Я сразу же его невзлюбил за его самоуверенность, непререкаемую глупость и еще за то, как ни горько мне было это сознавать, что как боец, как сторона в несостязательном нашел отечественном уголовном процессе он с его набором своих безотказных идеологических штампов был намного сильнее меня…
Значение этих штампов я тогда недооценил, и в этом был мой просчет, больше налегал на психологию. Мать Адама была тоже женщиной деспотичной и вздорной, детей она терроризировала не менее, пожалуй, чем ее муж, но их она брала своими несчастьями, болезнью, и они, особенно бесхарактерный Адам, всегда находились под двойным гнетом. Этот постоянный психический двойной гнет, я убежден, и подготовил почву для трагедии. Но вот с этим-то и не хотел согласиться прокурор, которого устраивала его черно-белая версия, как не может быть лучше вписывавшаяся в формулу обвинения в умышленном убийстве, убийстве, заранее задуманном и прочее.
Было, наконец, и еще одно обстоятельство, делавшее мою позицию небезупречной. Дело в том, что когда утром Адам и ею сестра пришли в сельсовет, чтобы зарегистрировать смерть отца и получить разрешение на его похороны, они сказали, что отец умер от алкогольного отравления – «сгорел от самогона». А поскольку такое здесь не считалось чем-то из ряда вон выходящим, к тому же в деревне старики постоянно видели пьяным, то им поверили, не заставив даже предъявить хоть какое-либо заключение о причине его смерти. Впрочем, ни врача, ни даже фельдшера в деревне, скорее всего, не было.
Итак, обман брата и сестры поначалу ни у кого не вызвал подозрений. Но когда односельчане стали приходить, чтобы проститься с покойным, а были тут большие специалисты по части всего, что связано с самогоном, то они, эти «специалисты», сразу же заподозрили неладное («Немагчыма, как Яков згарэл от самагона!») и вызвал участкового, а уж он до всего доискался в течение нескольких минут. К вопросу о составе преступления (умышленное, намеренное убийство или аффект, где нет такого намерения, а все происходит сиюминутно и притом вызвано какими-то неправомерными действиями самого потерпевшего) все это, конечно, не имело отношения, но на брата и сестру оно набрасывало неприятную тень, и хотя все им в общем сочувствовали, в том числе и председательствующий по делу член областного суда, перевешивающими оказались приведенные негативные обстоятельства. Верховным судом Белорусский приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение (оно слушалось в новом составе суда и даже с новым прокурором, поскольку предыдущий, с бугристым носом, к тому времени успел умереть), но и новый суд, который, хотя и отнесся к моим аргументам более уважительно и даже вписал некоторые из них в свой приговор, в итоге не решился ни на что иное, как повторить выводы предыдущего и все осталось, как было.
В спасители человечества, вытягивающего своих клиентов «с под петли», моя хозяйка определить меня, одним словом, явно поторопилась!
* * *
Итак, на дворе – снова весна. Солнце, гомон ручьев и птиц, сшибки женщин на мокрых узких досточках тротуаров…
Помимо важнейших событий местного, стародорожского, значения, о которых было рассказано в начале этой главы.
– еще два значения всесоюзного. Очень похорошели девушки. Повсюду. В Старых Дорогах их впрочем весной редко увидишь – все они разъехались к началу учебного года и до середины лета их здесь не будет, но я представляю себе, как выглядят они сейчас в Одессе! И второе – «денежная реформа», девальвация.
Тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Поменяли деньги. Их обменяли из расчета десять к одному и почти сразу же везде цены поползли вверх. Неизменными они остались, кажется, только у местного парикмахера Сенкевича, да у меня. Составление искового заявления, например, стоившее до реформы двадцать рублей, теперь стоит два, и мои клиентки, прекрасно знающие эту цифру тем не менее, придя ко мне в консультацию, всякий раз не забывают осведомиться:
– Два – гэта по-новому ти по-старому?
– По-новому конечно, – отвечаю я.
– Да-а?
Глава VI.
Весна, любовь, надежды и исковые заявления
С началом весны шестьдесят первого года в мою маленькую консультацию народ буквально повалил валом. Это было время хрущевской «оттепели». Тысячи несчастных людей, репрессированных в сталинские времена, приобрели возможность добиться реабилитации, получить хоть какую-то материальную компенсацию за свои страдания и свое разоренное хозяйство. И множество людей – чаще всего уже не он и сами, а их вдовы или дети – приходили теперь ко мне каждый день, чтобы рассказать свои ни с чем не сравнимые истории и составить заявления (жалобы?) в некие могущественные учреждения б Москве.
И, Боже мой, каких только историй – местных, стародорожских и совсем далеких от наших Старых Дорог – довелось мне наслушаться в эти весенние солнечные дни, посланные словно бы самим Богом на землю для любви и радости!…
Страшные истории своих скитаний по лагерям и пересыльным тюрьмам рассказывали неторопливый, основательный белорусский крестьянин из Ошмян и еврей-переплетчик из Минска, за год до того, как попасть в сионисты и получить; свои десять лет без права переписки делавший переплет к изданной в пяти экземплярах книге стихов белорусских поэтов в подарок Сталину к его, Сталина, семидесятилетию… И кто-то еще, и еще…
Гале Ураловой из небольшого подмосковного города Ногинска (не помню уж, каким образом попала,она ко мне), когда в тридцать седьмом году арестовали ее отца, главного режиссера и актера тамошнего драматического театра, а семью выбросили на улицу, было всего два «года. „Как волчица с волчонком в зубах“ – афоризм самой Гали, – петляла ее несчастная мать с ней, двухлетней, по дорогам (по железнодорожным шпалам, в том числе) Саратовской области и Сибири, Крыма и Одессы, Брянщины и Белоруссии, там, где ее никто не знал, минуя ловушки и капканы НКВД, чтобы с помощью Божьей остаться по эту сторону лагерей для семей, врагов народа.
Мать, как отец, тоже актриса, но еще по счастью и прекрасная машинистка, печатавшая всеми десятью пальцами вслепую и молниеносно – ее охотно брали на работу в редакции газет, несмотря на некие пробелы в биографии, от начала до конца, конечно, ею выдуманной, и в каждой из них она работала в течение нескольких недель или только дней, когда ее интеллигентность, пугающая ее грамотность да, наверное, самый ее облик начинали вызывать подозрение у сотрудников редакции.
Спали, не раздеваясь и не снимая обуви, на редакционных смолах. Зарплата матери – тридцать рублей в месяц. Минус вычеты, минус Сталинский заем – это вообще голодная смерть И вот пока по вечерам мать в редакции газеты «Сталинский путь» в Феодосии или газеты «Победа» в городе Красный Кут отстукивала на машинке чьи-то хвалебные высокопатриотические статьи, двухлетняя девочка «с мудростью старухи» (выражение опять-таки Гали) с небольшой торбочкой в руках рылась в мусорных ящиках и дворовых помойках, выискивая в них то, что еще могло быть пригодным в качестве пищи.
Голод и страх, рассказывала мне Уралова, – постоянные ощущения всего ее детства… Возвратясь в редакцию, она греет пальцы у остывающей редакционной плиты, мать размачивает в воде принесенные ею сухари и они едят. Едят сосредоточенно и не произнося при этом ни слова. Потом кое-как насытившись, обе устраиваются на ночлег на твердых редакционных столах, застланных разве что кипами газет в качестве изголовий, чтобы среди ночи при первом же подозрительном шорохе, при малейшем предчувствии беды внезапно сорваться с места, покинув и это пристанище, и опять уйти в темноту, в холод и бездорожье, в неизвестность…
Сейчас Уралова живет где-то на небольшой железнодорожной станции вдвоем с психически больной матерью (мать сошла с ума, узнав о посмертной реабилитации мужа, которого, по-видимому, безумно любила, и его полной невиновности). Замуж она так и не вышла, работает на этой же станции в рабочей столовой и… ест.
Ест, ест, ест – не может насытиться… И кормит мать…
И вот – снова о компенсациях, о тех небольших возможностях, которые открылись с весенними хрущевскими веяниями в шестьдесят первом году.
Хотя компенсация эта была ничтожно мала, но и она полагалась далеко не всем, кто ее заслуживал. Например, вовсе не полагалась так называемым раскулаченным и членам их семей. Тогда я должен был объяснять этим людям (опять-таки не им самим – их женам и даже дочерям), почему ее погибший муж (отец) «кулак», хуже обычного, нормального так сказать, «врага народа», а сама она хуже жены или дочери такого «врага», хотя обе они остались в свое время без крова, нищенствовали, обе чаще всего прошли одни и те же ссылки и лагеря.
Они еще постоянно спрашивали: почему? Они продолжали верить в какую-то человеческую справедливость, хотели в нее верить. Тяжкая это была работа отвечать на их вопросы…
Но встречались люди, которые приходили только ради своих детей и ближних, сами же не хотели никакой компенсации, так глубоко сидело в них чувство страха и так велика была их убежденность, что все эти милосердные жесты державы ненадолго, что вот наступит завтрашний день, или уж, во всяком случае, послезавтрашний…
Ко мне пришла молодая девушка из местных поляков, а с ней старуха-тетка. В тридцать седьмом году мужа старухи, кузнеца из города Смолевичи (единственный в городе кузнец, хозяин кузни, и к тому же староста тамошнего костела) по доносу соседей арестовали и расстреляли за контрреволюционную террористическую деятельность – хранение на чердаке пустой пулеметной ленты времен гражданской войны, которую она, жена, использовала для просушивания белья. Тогда же и ее за пособничество врагу народа упрятали на десять лет в лагерь под Могилевом, их детей отправили в детские дома, а в их собственный обширный дом при кузне (двор вымощен брусчаткой, как еще только небольшая площадь перед костелом) въехал сосед по фамилии Пекарский получивший его, как видно, в уплату за донос.
Теперь старуха живет вместе со своими двумя взрослыми уже детьми (ей удалось их разыскать) в каком-то другом белорусском городке, ютится с ними в девятиметровой комнатке в заводском общежитии, где сама работает уборщицей, дети очень больные, у дочери было две операции по поводу опухоли внутренних органов, но о том, чтобы добиться возврата своего дома, она и слышать не хочет. Племянница, чтобы проконсультироваться со мной, буквально силой ее ко мне приволокла. И еще, рассказывая о старухиных заключениях, обе они то и дело переходят на польский язык и старуха в ужасе восклицает:
– Нехцем! Нехцем ни меду, ни смороду!
Или даже так:
– Анелька, варьятка, цо мувишь? Цо ты мувишь, варьятка?
Вероятно, она не исключает, что ее разговорчивую племянницу «пан адвокат», даром, что он выглядит приличным человеком, тут же сдаст в некое учреждение, о котором без ужаса не может и вспомнить.
– Анеля, то забардза! Опоментайся, Анеля!
Об истории злодея-кузнеца из Смолевичей и его семьи, как и об очаровательной молодой диссидентке-племяннице, мне все-таки представляется необходимым рассказать более подробна.
Смолевичи – небольшой городок севернее Минска со смешанным белорусским, польским и еврейским населением. Трудно даже представить себе, каким веселым еще в середине тридцатых годов в дни католических «фест» и ярмарок должен был выглядеть этот городок с его костелом и базарчиком. С возами на Костельной площади, полными всякого деревенского добра, и с лошадьми, в гривы которых вплетены разноцветные ленты, С чинными, нарядно одетыми детьми. С людским гомоном, конским ржанием и колокольным благовестом. С сумасшедшей, наконец, Голдой – едва ли не главной достопримечательностью города, – огромной бритоголовой теткой, бегающей среди всего этого праздничного великолепия и ругающейся отборнейшим русским «матом», одинаково, впрочем, доступном для детей всех трех национальностей и приводящем их всех в превеликую радость…
Вот таким он запомнился, этот городок, моей молодой клиентке, которая еще ребенком не раз приезжала туда с родителями. Таким или примерно таким и был он, возможно, в те годы, когда жила там трудолюбивая семья кузнеца, звон железа весь день звучал в его доме, потому что там же, рядом с домом, находилась и кузня, а потом кузнец оказался врагом народа и все прочее, о чем уже говорилось выше.
Молодая полька, рассказывавшая мне эту историю была очень хороша собой. Особенно красивой она становилась когда начинала сердиться. Тогда вся она словно бы загоралась вспыхивала и глаза ее начинали искриться.
И в такой же мере безобразна была ее несчастная старуха-тетка. Трудно было представить, что и эта женщина с ее почти лысой трясущейся головой и несколькими оставшимися, по-видимому, после цинги зубами к тому же вздрагивающая от страха при каждом слове племянницы, – что она могла когда-то быть чьей-то любимой женой и деятельной хозяйкой («господыней») большого дома, по которому, наверное, с утра до вечера носилась со своими ведрами, горшками и ухватами, что-то стряпала и мастерила, кормила свиней и кур, покрикивала на детей и на нерадивых работников…
Когда началась война, недели буквально через две после ее начала, в лагерь под Могилевом, где находилась моя пожилая клиентка, попала бомба, вся лагерная охрана разбежалась еще до этого, потому что к городу стремительно приближались немцы, и она вместе с другими заключенными бежала из него. Бежала в том, в чем была: в своей полосатой лагерной робе, и пройдя несколько сот километров, добралась до Старых Дорог, где жила ее сестра.
Некоторое время она прожила у сестры, а затем вместе с детьми (их незадолго до войны разыскала сестра) отправилась к себе в Смолевичи, в свой дом, но дома ей немцы не вернули, там расположилась их комендатура и разрешили поселиться в так называемой времянке при огороде.
В этой времянке она и прожила все три года немецкой оккупации, ухаживала за огородом и с него кормилась, а с приближением советских войск, с середины сорок четвертого года, вынуждена была покинуть ее и вновь куда-то бежать. Бежать куда глаза глядят, потому что гнал страх за неотбытый срок в лагере.
– Анелька, пану то не тшеба ведать, опоментайся, Анельца!
А молодая шляхтянка («Мы все – шляхта! У нас у кого и доме больше двух окон – уже „шляхта, так ваши большевики вырешили!“) как бы еще больше раззадориваемая этими замечаниями.старухи, продолжала на меня обрушивать все новые и новые сведения, причем с некоей даже яростью, делавшей ее, как я говорил, вообще уже невообразимо красивой.
Я сказал старухе, что готов ей помочь в ее реабилитации, готов вязаться и за гражданское дело по возврату дома и притом буду делать все это бесплатно, потому что те «бандиты» («бандитами» их, конечно, назвала Анелька), те, которые его у нее отняли, они известны и мне…
Новый поток шипящих звуков заглушил конец этой моей благородной тирады не произведшей, впрочем, на молодую польку никакого впечатления.
– Боится! – сказала она после своей перепалки с теткой.
– А почему бояться? Почему все, все мы всегда должны чего-то бояться и до каких пор это будет?
И тут, кажется, впервые за все время нашего разговора посмотрела на меня с некоторым интересом.
– А вы сами-то не побоитесь?
Я объяснил (ее вопрос я, конечно, игнорировал), что биться чего-либо ее тетке по-моему, не нужно и что добиваться возврата дома буду, хотя сделать это, по-видимому, нелегко. Не могу исключить и некоторых неприятностей…
– Значит, все-таки немножко боитесь? – съехидничала девушка.
Нет, нельзя так со мной разговаривать: я обидчев! И нельзя быть такой фантастически красивой и смотреть на меня такими насмешливыми глазами, которые еще и искрятся!…
– Слушайте, Анеля, не стоит делать из меня дурака или труса! Да, между прочим, и ваша тетя не так уж выжила из ума, как вам кажется. Нет в лагерь ее, конечно, опять не запрут из-за дурацкой пулеметной ленты, не те все-таки времена. Но, когда дело дойдет до дома, негодяи, у которых этот Дом теперь, подбросят нашим уважаемым органам несколько, таких вопросов… Почему, например, немцы пустили вашу тетю и ее детей в ее времянку на огороде?
– Сконд пан ведат? – взметнулась старуха, а племянница опустила глаза. На нее я, однако, старался не смотреть.
– Но и это не все. Они вспомнят про огород: почему немцы разрешили его обрабатывать? Они безусловно станут говорить (и найдут этому десятки свидетелей, готовых подтвердить), что жить во времянке немцы разрешили тете тоже не просто так, а потому что она согласилась мыть за это у них полы и вычищать нужники. Тут ведь не нужно большой догадливости! А это, между прочим, до сих пор называется у нас «сотрудничество с оккупантами»…
– Сконд пан вшистка ведат? – почти стонала теперь старуха. – Сконд пап вшистка…
– Ведаю, потому что обязан ведать, обязан знать, если берусь помогать людям, а люди мне за это, между прочим, деньги платят и не чужие, а свои, кровные… И предупреждаю не потому что боюсь или хочу кого-то напугать. Хочу, наоборот, предупредить, что все это теперь не смертельно! Не вы одна, чтобы спасти детей, немецкие нужники вычищали… Так что ничего, выдержим. Выдержим, Юзефа Францевна?
Юзефа Францевна – это я к пожилой пани, перешедшей теперь от недоверия ко мне к полному, по-моему, обожанию. На Анельку я не смотрел, наказывал ее глубочайшим презрением.
Расставались мы с ней, впрочем, по-дружески.
– Так все-таки чего-нибудь боитесь или совсем ничего?
– Кажется, ничего… Не побоюсь, может быть, даже сделать вам предложение, если, конечно, вам улыбается перспектива стать женой сельского стряпчего с грошовыми заработками и без перспективы сделаться з ближайшее время министром юстиции?
– А что, вдруг я и соглашусь? – заметила она в ответ.
Но еще несколько дней спустя она снова появилась у меня в консультации, без тетки на этот раз и разговор произошел отнюдь не шутливый.
– Мне очень-очень нужно, чтобы вы это сделали и не только для тетки, но и для меня. У меня – жених, – рассказала она. – Ну, жених – не жених, парень, с которым я встречаюсь, он в нашем военном городке служит, офицер, и, конечно, квартиры пока никакой, живет в казарме, в красном уголке. А куда я его к себе возьму, если нас в доме пять человек ютится в двух маленьких комнатенках и отец-инвалид, без обеих ног после войны пришел, а брат душевно больной? Вот и сама пока живу и работаю в своем другом районе, в Мяделе – слышали о таком? – снимаю там частную квартиру, точнее угол, домой к родителям приезжаю почти за триста километров. Одна надежда па тетю и на ее дом: что она и мне какую-нибудь комнатенку там выделит… Хоромы там вообще, будьте уверены, кузнец был не из бедных. Там теперь наверное, вообще какое-нибудь учреждение, потому что вся семья Пекарских во время войны погибла…
Я пообещал ей помочь, но писать пока ничего не стал, нужно было еще уломать тетю. На этом мы пока и расстались.
* * *
Это было вообще какое-то удивительное время. Все вдруг словно бы проснулось и пришло в движение, все сразу заговорили обычными человеческими словами и вроде бы о самых обыкновенных вещах, о том, например, что быть интеллигентным и порядочным человеком – хорошо, а хамом и негодяем – плохо. Это были, повторяю, обыденные вещи, о них знали все с детства от родителей и от своих школьных учителей, из чуть ли не первых своих детских книжек, но теперь, полузабытые, они как бы возвращались из небытия, из какого-то другого, неведомого мира, и появление их на страницах газет и журналов казалось странным и чуть даже опасным…
Газеты пестрели заголовками: «О порядочности, как о норме жизни», «О хамстве», «О мещанстве», а.одна – «Известия», кажется – даже поместила статью под названием «Мурло мещанина». И рассказывалось в этой статье не о пьяном дворнике, который избивает жену, и не о гицеле, отлавливающем бездомных собак, а заодно вырывающем из рук старушки ее любимую собачонку, а об одном весьма важном руководящем товарище, но настолько малосимпатичном, что во хмелю дворик рядом с ним должен был казаться кем-то вроде подгулявшего Деда Мороза, и к нему тянуло с ностальгической нежностью, а с милягой-гицелем так и вовсе хотелось расцеловаться да и разрыдаться на его благородном гицельском плече…
Наезжая время от времени в Минск, я непременно покупал там и привозил домой польскую газету «Шпильки». Кое-как со словарем разбирал текст. Умные и изящные, полные горького сарказма статьи и зарисовки польских писателей и журналистов, рисунки Майи Березовской…
Утро, если, конечно, не было клиентов, начиналось с чтения газет. Я разворачивал «Известия» и оттуда, выражаясь словами немецкого поэта, из развернутых газетных страниц, выскакивало солнце. Оно светило и грело, вселяло надежды, доброе это солнышко, как и то, что было по утрам за моим окном. Но оно и пугало…
Прошла новая большая амнистия, вторая, по-моему, такая после смерти Сталина и на свободу опять вышло много людей, имевших что порассказать о родах, проведенных в лагерях и тюрьмах. Но вместе с ними было и множество таких, для которых тюрьма стала чем-то вроде родного дома. Эти последние, не успев выйти за ее стены, тут же спешили совершить новое преступление, как если бы только к тому и стремились, чтобы снова в нее попасть,
Мне довелось защищать цыгана по фамилии Орлов, плотного седеющего красавца лет сорока пяти, а еще сто двадцать пять лет ему следовало бы прожить, чтобы отсидеть срок, к которому его приговорили по прежним делам, по пяти случаям умышленного убийства. В те времена смертная казнь была отменена, огромнее, до двадцати пяти лет, сроки приплюсовывались друг к другу, и в прошлый раз, когда, имея в перспективе уже сто лет отсидки, он совершил очередное, пятое по счету убийство, в его поведении была даже известная логика: потому что прожить (отсидеть) сто двадцать лет так же, по-видимому, нереально, как и сто.
Итак, рассудив, что лишнее четверть века в его жизни уже никакой роли сыграть не могут, он совершил очередное убийство, в колонии заколол охранника, и получил очередной же срок, но тут (о, непостижимые пассажи отечественной Фемиды!) вышла наша амнистия и освободила его от всех сроков вообще. Чистый, как ангел, возвратился он под родной кров.
Он возвратился к жене и детям, к многочисленным родственникам, которые еще у порога облепили его со всех сторон и громко радовались его возвращению, когда появился еще один родственник. Этот последний имел бестактность спросить. «Рома, а когда ты мне отдашь мои деньги?» – «Никогда!» – лаконично отвечал Рома и, вынув пистолет, выстрелом уложил его на месте.
Так вот, он был очень спокоен, этот человек, которого мне довелось защищать в связи с его последним, шестым по счету, убийством, прямо-таки ангельски спокоен, хотя к этому времени смертная казнь была вновь, введена и ни на что другое, кроме как на нее, он уже явно не мог рассчитывать. На вопросы участников процесса отвечал сдержанно и умно (он был вообще весьма неглупым человеком), но когда кто-то (по-моему, это был сам прокурор области, поддерживавший обвинение по его делу), спросил его, зачем понадобилось ему убавить родственника, в том смысле, что это ведь предполагало смерть и для него самого, он ожег его взглядом, исполненным такого ледяного презрения, что больше уже никаких вопросов ему никто не задавал.
Я очень его хорошо запомнил, этого первого моего подзащитного, получившего высшую меру наказания. Запомнил выражение спокойного презрения на его красивом смуглом лице, на котором за время процесса не дрогнул ни один мускул, и то достоинство, с каким он держался, не раз о нем потом вспоминал и даже не без некоторого огорчения.
Кстати и приговор суда (его приговорили, конечно, к высшей мере) он тоже выслушал с ледяным спокойствием и от подачи кассационной жалобы и ходатайства о помиловании отказался.
* * *
Я написал статью для газеты «Советская Белоруссия» и очень удивился, когда недели через три, не более, увидел ее там напечатанной. Читал ее и перечитывал, смотрел, насколько она внушительна по размеру, и все мне в ней нравилось, в том числе и то, как она расположена на газетной полосе, хотя с одной стороны ее как бы подпирало изображение свиноматки с сельскохозяйственной выставки (замечательная эта свиноматка родила чуть ли не двадцать поросят), а с другой – портрет Леонардо да Винчи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.