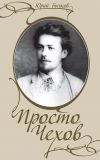Текст книги "Старые дороги"

Автор книги: Сергей Полищук
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Вообще же возникла эта статьи при следующих обстоятельствах. В судах начало практиковаться рассмотрение уголовных дел с участием общественных обвинителей и общественных защитников. Нововведение само по себе вроде бы и неплохое: что же плохого, так я это понимал тогда, если в суд, чтобы рассказать о человеке, о его отношении к работе, привычках и образе жизни, придет представитель коллектива где он трудился? Но только с самого начала все это стало превращаться в лишенную всякого смысла пустую формальность. Начиная с подбора самих этих представителей, никого, кроме себя, чаще всего не представлявших, с натаскиванием их по доводу их предстоящих выступлений в суде и тому подобным.
Поддерживать обвинение со стороны общественности и выразить ее негодование в отношении Адама Зайца из деревни Старые Лески согласился заведующий районного дома культуры, ниспровергатель богов товарищ Ратнер. Ну, зачем понадобилось ему, или, вернее, зачем понадобился он, как выразитель общественного мнения жителей деревни, где, наверное, сроду никогда и не бывал? Зачем еще одна «кукла» в процессе,.спрашивал я в этой статье (спрашивал об этом, впрочем, и себя самого, и своих коллег-юристов); что может рассказать сварщик из промкомбината о работе медсестры, делавшей подпольные аборты и к тому же, если верить Обвинительному заключению по ее делу, вылакавшей в одиночку полтонны медицинского спирта?
Вот я и решил написать обо всем об этом статью и, конечно, отправил ее в свои любимые «Известия», откуда мне очень вежливо просто не ответили. Тогда огорченный длительным «известинским» молчанием («единомышленники, друзья, можно сказать, и так меня не понять, просто-таки пренебречь мною!») я отвез ее в редакцию республиканской газеты «Советская Белоруссия» в Минске и там, как я уже говорил, она была вскоре опубликована, причем не было вычеркнуто ни одного слова, не перервано ни одной фамилии. Словом, я имел все основания быть довольным и собой и редакцией, а вскоре вместе с этим небольшим литературным успехом явились и горькие его плоды.
На меня, встретившись со мной на улице возле здания нашей районной прокуратуры, буквально с кулаками налетел очень уважаемый мною человек, помощник областного прокурора Розов.
– Зачем… зачем вы написали эту… эту статью?! – Чувствовалось, что он хочет сказать: «эту гадость», но сдержался. – Как вы могли ее написать?!
Маленький толстяк Розов тряс маленькими своими кулачками едва ли не у самого моего носа.
– Как вы могли?! И как они могли такое напечатать? Когда людей и так невозможно уговорить пойти в суд… и когда я уже написал об этом совсем другую, статью, хорошую, и опубликовал ее в «Минской прауде»?
Я попытался его успокоить, говорил, что вот, дескать, и хорошо, что будут теперь в двух разных газетах высказаны два разных мнения («Плевать мне на разные мнения! Мнение должно быть одно: политически правильное…), пытался его уверить, что это-то как раз политически неправильно – губить на корню в целом хорошую идею но успокоить не мог.
Но особенно его возмущало, ввергало прямо-таки в негодование, что его статья, хорошая и правильная, в ней обобщался положительный пример нового начинания и читатель призывался к тому, чтобы этому примеру следовать, что она, эта великолепная, хотя и небольшая по размерам статья, всего две маленькие колонки, опубликована в «Минской прауде», газете областной, тогда как моя нехорошая, величиной в целый «подвал» – в газете республиканской.
– Как они могли ее напечатать? Почему со мной не посоветовались?… И зачем, – недоумевал он, – зачем нужна была еще одна статья, когда была уже моя?
Обиделся на меня, как выяснилось, за эту статью и наш прокурор Михаил Павлович, и товарищ Ратнер. Последний, как оказалось, действительно в деревне Большие Лески никогда не был и упоминание об этом в газете воспринял, как партийное указание (все-таки орган ЦК!). В самый день выхода газетного номера с злокозненной статьей он поспешил поэтому посетить названную деревню, так сообщала по крайней мере уже наша районная газета, и прочитал прекрасную лекцию о международном положении тамошним жителям, т. е. по-видимому, тому же, что и на наших судебных представлениях, столетнему старику и глухонемому мальчику, сообщив им подробно о последних происках американского империализма, а заодно и о том, что Христос – солнечный миф.
Оба они, кажется, немного на меня обиделись. Но самое большое огорчение в связи с моей литературной деятельностью принесла мне опять же редакция моей любимой, не смотря ни на что, газеты «Известия». Большую постановочную статью о положении адвоката в советском уголовном процессе, которую я имел глупость туда отправить (имел глупость, прежде всего взяться за такую тему), причем не просто отправил – отвез ее туда самолично, воспользовавшись какой-то командировкой в столицу, там приняли. Приняли неплохо и меня, несмотря на то, что тамошним газетным лордам я должен был казаться кошмарным провинциалом из-за одного хотя бы названия «Старые дороги». Вальяжного вида пожилой заведующий отделом советского строительства краем глаза пробежал текст статьи, затем для чего-то стал мне рассказывать о негодяях, которые пишут и присылают ему не такие вот статьи, а анонимные письма в отношении его жены-актрисы («А она, представляете, в тот вечер совсем не там была, а у подруги и сама мне об этом сказала!»), потом снова посмотрел на статью и даже, как мне показалось, уважительно (не анонимное письмо все же!) и заверил меня, что через два-три месяца я ее увижу на газетной полосе.
И я действительно ее там увидел, случайно на нее там наткнулся, когда уже и не ждал ее опубликования, но, читая, ничего не мог понять. Потому что начиная со второго абзаца и почти до последнего это была моя статья (статью, как и жену нельзя не узнать, даже увидев ее только со стороны левого уха), а остальные три или четыре – уже не мои… И подпись какого-то доктора юридических наук из Ставрополя…
Не знаю уж, как получился этот странный коктейль! скорее всего, огорченный своими семейными неурядицами пожилой зав. отделом что-то напутал (так мне, во всяком случае, хотелось думать), а может быть… «Известий» я после этого выписывать не перестал, но теперь разворачивая очередной номер этой газеты, уже не вспоминал о солнце, которое, по словам Гейне, выскакивало из газетных страниц времен второй французской революции…
Мечта об «Известиях», таким образом, несколько померкла, но и в «Советской Белоруссии», и в «Минской прауде» я стал теперь печататься довольно часто, а за репортаж об одном судебном процессе з маленькой минской газетенке (она издавалась для белорусов зарубежья и называлась «За возвращение на Родину») получил даже премию за лучший материал года. На эту премию – семьсот рублей, деньги по тому времени немалые – плюс еще столько же, гонорар за самое статью и купил, наконец, новый костюм и очень жалел, что этого не произошло до моей поездки в Москву. Как думалось мне, быть может, появись я там в этом прекрасном костюме, я не произвел бы на тамошних снобов такого удручающе-провинциального впечатления и они не решились бы несчастную мою статью так беспардонно перекраивать.
* * *
Неделю я провел в Москве, еще около месяца был на процессе в Гресске, где судили группу бывших полицейских из Гресской зондеркоманды, защищал там некоего Илясова, командира специально созданного для борьбы с партизанами взвода «Яхтцуг», а когда вернулся к себе в Старые Дороги, то узнал, что за это время умерла «старая пани» – так моя хозяйка называла Анелькину тетку, – сама же Анелька.опять уехала в свой Мядель, один из самых дальних районов Северо-Западной Белоруссии. Там, вспоминалось мне, дальше – Литва и, быть может, корчма на Литовской границе, там, не исключено, все еще витает дух бедного сбежавшего инока Гришки Отрепьева…
Мне было жаль Гришку и почему-то немного жаль себя, хотя никакой связи между нами я не усматривал, было немножко досадно, что эта девушка так опять от меня далеко. Незадолго перед моей поездкой в Москву мы с ней опять встретились на улице. Болтали о том и о сем, сидя на скамье в парке, и Анелька, веселая и какая-то особенно красивая в тот день, говорила, что тот «тягар», тот груз (какой груз она не уточняла), который на нее все это время давил, – его больше нет. Она «вольна, як пташка Полесся и хоробра, як войско польске!»
Рассказывала что-то о себе и своих родителях (почему-то о родителях всегда рассказывается что-то смешное) спросила, живы ли мои. И я тоже рассказал ей немного смешную и сентиментальную историю о молодом военном юристе-одессите. Он служил б Тирасполе, небольшом в то время, в начале двадцатых годов, молдавском городке, недалеко от Одессы, недавно лишь закончил (еще при белых, при Деникине) Одесский (Новороссийский) университет, ему было двадцать шесть лет, как мне сейчас, и к нему, очень, конечно, важном в этом городишке лицу, старшему военному следователю корпуса, пришла на прием нищая восемнадцатилетняя дворяночка, сбежавшая из голодного Петрограда. Она пришла, чтобы попытаться устроиться у пего секретаршей, и на ней было платье, сшитое из распоротого мешка, и веревочные туфли на деревянных стуколках…
Рассказывал и о пожилой теперь женщине, учительнице французского языка в Одессе («Очень, наверное, по ней скучаете?») – спросила Анелька. – «Скучаю, конечно». Поеме смерти мужа (он погиб в гетто) она так и не вышла замуж. Живет в полупустой своей комнате в коммунальной квартире, одинокая, плохо приспособленная к жизни и до ужаса наивная. Ни тридцать седьмой под, ни оккупация и гибель мужа, ни послеоккупационное к таким, как она, оскорбительное отношение властей – все это ровно ничему ее не научило. Она до сих пор верит во всякую чушь, если только эта чушь изречена сверху, и плакала, когда умер Сталин.
А еще я рассказал ей, по это уже в порядке курьеза, как несколько лет назад в школе, где она работает, ей поручили провести политинформацию. Она добросовестнейшим образом к пей подготовилась, перечитала все газеты и журналы в школьной библиотеке чуть ли не за год и рассказывала мне потом, как эта политинформация у нее прошла («Очень, очень хорошо прошла, деточка!») и как все были довольны. Все прямо-таки восторгались – и директор школы и завуч и парторг – – п все благодарили ее («Очень, деточка, благодарили!», только от волнения, что ли, допустила одну совсем незначительную ошибку: вместо «ВКП(б) то и дело говорил? „КВП“ (касса взаимопомощи) „КВП пас призывает…“ „КВП мудро нами руководит…“, „КВП и лично товарищ Сталин ведут нас к светлому будущему…“
Она и сейчас, продолжал я, осталась такой же, как в те послевоенные годы. Сейчас ее больше всего волнует здоровье лидеров стран третьего мира, но и за своих, отечественных, она тоже постоянно переживает. И если соседка по кухне мадам Церковер («Мадам Церковер – простая женщина, а простые люди, они же все знают!»), если мадам Церковер ей сообщит, что у того или иного члена политбюро, к пример; па заднице выскочил чирей, или того хуже: разыгрался геморрой, она тут же об этом напишет мне, без тени пропни спрашивая: «Деточка, как же он теперь будет сидеть на заседаниях политбюро, это же, наверное, очень больно?…»
Анелька смеялась так, что из глаз ее, казалось, сыпались уже не искры – раскаленные угли.
– Холера! – говорила она. – Нет, вы все-таки чуточку негодяй, да? Ну, сознайтесь… сознайтесь, что вы все это сами выдумали – – вот сейчас, здесь… Про членов политбюро во всяком случае… Мама вас, конечно, безумно любит? Ну, расскажите, расскажите о ней еще!…
Вот такая эта была ни к чему не обязывающая беседа И вот сейчас Анелька снова в Мяделе за тридевять земель от меня, а там где-то недалеко и знаменитое озеро Нарочь с его курортами, и вообще Бог знает, что еще?… И при мысли обо всем этом мне почему-то становилось неуютно.
Глава VII.
История одной кражи
Я уже упоминал где-то, как меня всегда немного коробило, когда ко мне в консультацию прибегала какая-нибудь из наших судейских женщин и еще не переступив порога, кричала:
– Бежите скорее в суд! Там сейчас будет дело и они хочут нанять защитника.
– Хотят пригласить защитника?
– Ага, ага, нанять…
А ведь в этом-то как раз и проявлялось их, этих женщин, доброе ко мне отношение да и всех остальных работников суда тоже. И дело тут было не столько в моем каком-нибудь особом обаянии или других каких качествах: просто в свое время все они здорово натерпелись от моей предшественницы, женщины малограмотной и вздорной, бывшей прокурорши, которая за недолгое время своей работы в районе в качестве заведующей консультацией сумела вызвать их единодушную ненависть.
О ее безграмотности ходили легенды. Рассказывали, будто однажды, желая подольститься к прокурору (Михаилу Павловичу), с которым.она вместе выступала в процессе и при этом оба они придерживались одной позиции, она радостно сообщала:
– А мы сегодня с товарищем прокурором выступали в унитаз!
Об этом и еще многом другом мне, конечно, было рассказано в самый первый день моего пребывания в районе.
Она же, рассказывали мне, повсюду рассылала жалобы на своих коллег, с истинно прокурорским упорством изобличая каждого из них в нравственном падении, после чего разным комиссиям, сыпавшимся на нас, как горох, приходилось объяснять, почему, например, судебный исполнитель Степан, выписав в леспромхозе для ремонта своего дома одно некондиционнее бревно, в действительности получил бревно самых высоких кондиций, а следователь Евгений Абрамович спит на столе в кабинете, а не в постели с женой. Причем несдержавшийся Евгений Абрамович, рассказывали, пообещали тут же на комиссии, что набьет ей морду, а Степан выкрасил одну из стен отремонтированной избы нежно-зеленой масляной краской (полагаю, этой же краской была им выкрашена потом и моя пишущая машинка), а на вопрос проверяющего: почему именно «нежно-зеленой»; не растерявшись, ответил: «Для нежности!»
И, конечно же, рядом с этой малосимпатичной особой я имел определенные преимущества: хоть не путал «униссон» с «унитазом» и не вынуждал никого окрашивать стены изб масляной краской.
Неплохо складывались мои отношения и с прокуроров
Михаилом Павловичем, хотя понять этого человека до конца я никогда не мог.
Я мог понять следователя Евгения Абрамовича, с которым не всегда и не во всем соглашался. Мог понять непритязательного Павлика Горогулю и грубоватого Васю («Эх, вдав бы Верке по рубцу!»), а вот Михаила Павловича по-настоящему никогда не понимал, да как-то к этому и не стремился, такой невообразимой тоской всегда от него веяло. Его уважали, с ним считались, как с человеком «при власти» и человеком, имеющим на все свое мнение, но недолюбливали. Но могу сказать, чтобы и у меня он вызывал те же чувства – он у меня не вызывал попросту никаких чувств и сам гоже вроде бы ни к кому их не испытывал. Делал всегда только то, что нужно делать, и так, как нужно, говорил правильные, разумные вещи. И был спокоен. Удивительно, неповторимо спокоен, как может быть спокоен лишь человек, убежденный в правильности каждого своего поступка.
Не раз нам приходилось сидеть друг напротив друга не только в зале,суда, но и за одним обеденным столом, когда все мы после наших выездных сессий, усталые, замерзшие и полуживые, оказывались гостями председателя колхоза или директора школы и когда на этом столе появлялась радующая душу бутылочка (первая – с наклейкой, «монополька», вторая и последующие – без наклеек и заткнутые сверху газетным квачом), появлялась и миска с только что сваренной и дымящейся еще картошкой, тарелки с солеными или маринованными грибочками, а с их появлением возникал и какой-нибудь ни к чему не обязывающий общий разговор, шутки.
Люди отмерзали душой, оттаивали. В такие минуты Михаил Павлович мог себе позволить рассказать анекдот о кукурузе, который, по слухам, неделю назад в узком кругу рассказал сам «первый», «хозяин района» (а Михаил Павлович, это знали все, был к нему вхож), или упомянуть,о своих хозяйственных успехах в строительстве нового здания прокуратуры (вот «выбил» столько-то штук силикатного кирпича и достал сорокамиллиметровых досок для пола!) Однажды при этом он упомянул и обо мне (не помню уже, как им это было привязано к доскам и кирпичу): у нас, мол, теперь и адвокат вполне приличный и если он надумает у нас окончательно обосноваться, если создаст семью, мы ему и квартиру дадим – два новых дома вот сдаем, а поселять в них некого, боятся люди без своих огородов остаться – и даже в партию его примем…
И вот вся эта идиллия наших отношений,с Михаилом Павловичем была однажды раз и навсегда разрушена и не кознями моих закоренелых врагов и завистников, не кем-нибудь вообще, а мною самим. Вот как это произошло.
* * *
В тот день – а была уже вторая половина дня, часа три или даже начало четвертого – ко мне в консультацию прибежали две женщины (именно скорее всего, прибежали, а не пришли), две обычные деревенские женщины, похожие друг на друга и на большинство моих клиенток, обе в одинаковых полувыгоревших черно-рыжего цвета плюшевых жакетах и в темно-коричневых платках на голове, с почти одинаковыми лицами, покрытыми специфическим пыльным деревенским загаром, и младшая из них пыталась при этом что-то говорить, но выговаривать ничего не могла: она, как выяснилось, вообще почти не владела речью и была к тому же совершенно глухая; говорила за нее старшая, жена ее отца.
Сбивчиво, через пень колоду, старуха рассказывала, что буквально несколько часов назад у молодой женщины украли ребенка. Украли, обманным путем увезли и все ее достояние, все деньги, вырученное от продажи дома и всего ее имущества, и сделал это никто иной, как бывший ее муж Николай, много лет подряд от нее скрывавшийся и лишь месяц назад опять объявившийся в их деревне.
Вот такова вкратце была эта история, которую рассказала мне старуха (рассказывала, повторяю, сбивчиво, с проклятиями и причитаниями, с этими постоянными «Ой, дардженький!… Дараженький, я ж табе ублагатвару!…»), а молодая, та вообще во время всего ее рассказа только выла белугой, да пялила на меня совершенно страшные глаза – таких глаз я до тех пор и не видел…
Валентину Пухтевич – так звали молодую женщину – когда ей не исполнилось еще и шестнадцати лет, выдали замуж за красивого молодого деревенского прохвоста по прозвищу «Порченый», ее односельчанина. Он только недавно вернулся из армии – ни дома, ни угла, – и на ней, глухонемой, но состоятельной (свой дом), готов был жениться без лишних раздумий. И деревенские мудрецы, видимо, порешили: «а няхай женится!» Опять же и на свадьбе погулять можно будет… «Няхай женится, паразит, а вдруг еще и человеком станет?!»
Но не стал Пухтевич «человеком», даже и попыток такого рода не делал, а где-то полгода спустя, отъевшись и заскучав, оставил свою глухонемую жену беременной и скрылся.
С тех пор он словно бы в воду канул. Его, конечно, разыскивали, о нем пытались навести справки, но где там? Только по прошествии семи лет его наконец удалось найти в маленьком поселке Березовском восточнее Свердловска. Там, за Средним Уралом, он работал в поселковой ремстройконторе, работал до этого, как выяснилось, и во многих других организациях, жил в других местах. Дважды успел побывать в тюрьме. Когда его разыскал исполнительный лист Валентины и когда с него стали удерживать в качестве алиментов половину зарплаты, он не только впервые за эти семь лет напоминал о себе, но прямо-таки забросил жену письмами, Христом-Богом умоляя отозвать лист. Он-де к ней скоро вернется сам или, и того лучше, заберет ее с ребенком, с шестилетней Нюрой, к себе в Березовский. А то ведь ему теперь из-за этого проклятого листа и пары брюк купить не на что! Не может же он без брюк и такое прочее…
А еще некоторое время спустя он действительно вернулся (не растроганная его безбрючным состоянием, Валентина исполнительного листа не отозвала) и действительно якобы для того, чтобы увезти жену и дочь в Березовский. Только для этого нужно продать все ее имущество, уверял он: и дом, и корову, и даже ее нижнее белье, и чулки – таких в городе давно не носят! И тут же с ее согласия сам все это начал прокручивать.
И опять, наверное, по вечерам сидели мудрые деревенские старики, слушая рассказы Пухтевича о его беспечальной жизни в городе и о том, как там вообще живут люди – хорошо живут! А он, Пухтевич, – так и соваєм уже хорошо. А почему? С головой он, вот почему! Человеку с головой везде хорошо, вот даже в тюрьму попадал, так оба раза освобождали досрочно… Рассказывал, а старики, скорее всего, думали: был Порченый деревенский паразит – теперь Паразит городской!… Думали, жалели Валентину, но от стаканчика, поднесенного им Пухтевичем, все же не отказывались:
– Каб жили! Каб были здоровенькие! Каб жонку не забивав! Как усе было добра и яще лепей!…
В тот день, когда произошли все главные события этой истории, когда Валентина с мужем и с ребенком должна была отправляться в Березовский, Николай Пухтевич рано утром на велосипеде тестя уехал с девочкой в соседнюю деревню Большие Усаевичи, чтобы там в сельсовете выписать девочке метрику. Его ждали три часа, ждали четыре. Потом вспомнили, что почему-то он захватил с собой и исполнительный лист, отозванный Валентиной и только накануне вернувшийся из Березовского, и что все деньги, вырученные от продажи дома и имущества, тоже у него. Но это уже потом. А сначала, как я уже говорил, чуть ли не целых четыре часа и Валентина и ее родственники сидели в теперь уже бывшем доме Валентины на узлах, па последней непроданной скамье и ждали.
Когда наконец кто-то из них додумался сам поехать в Большие Исаевичи, там он узнал, что Пухтевич в деревне действительно побывал, но не в сельсовете, а на базаре, где продал велосипед. В последний раз его видели направляющимся вместе с девочкой в сторону железнодорожной станции.
Вот только после этого обе женщины появились у меня в консультации. Приехали на попутной машине или, может быть, даже прибежали, такой у них был вид. Причем снова не могу не вспомнить, как все это происходило. Крики, плач, причитания. Я ничего не могу взять в толк, потому что одна не может высказать своих мыслей членораздельно, а другая почти все время плачет. И кричит что-то добрейшая моя старуха-хозяйка, верещит на русском, белорусском, еврейском языках одновременно. Что-то кричат и другие женщины, оказавшиеся в это время у меня на приеме. Кто-то из них выскакивает на кухню, чтобы принести воды.
А я стою посреди этого всеобщего хаоса и сначала не могу понять, чего они, эти женщины, от меня хотят: я – не прокурор, ни начальник милиции, у меня нет ни власти, ни даже телефона, чтобы кому-нибудь из них сообщить о случившемся. Но в то же время я понимаю, что обязан помочь этим людям и помочь незамедлительно.
Вместо с Пухтевич и Гринченко (это фамилия пожилой) бегу в прокуратуру к Михаилу Павловичу.
* * *
Как и юридическая консультация, прокуратура – это тоже очень небольшая бревенчатая изба и расположены они совсем близко друг от друга, так что упоминавшиеся уже куры моей хозяйки не раз наведывались и туда, для этого им нужно было преодолеть расстояние лишь в каких-нибудь двести – двести пятьдесят метров, пройдя чужими дворами и не выходя даже на улицу.
Вот этими кратчайшими «куримыми» тропами мы все трое и прибегаем в прокуратуру. Входим. В приемной толстая секретарша Катя (кроме секретаря судебных заседание Зиночки, все секретарши у нас в районе почему-то толстые и некрасивые) говорит, что Михаил Павлович у себя, и я прохожу к нему в кабинет. Вхожу(один, женщины пока остаются в приемной.
Конец рабочего дня. Михаил Павлович сидит, но не за своим письменным столом, а за маленьким столиком сбоку от него, с ним секретарь райкома партии (кажется, второй, по идеологии) и они играют в шахматы. Мое появление у себя в кабинете он встречает с явным недоумением, не предлагает мне сесть и не оставляет шахмат, лишь несколько от них отстраняется, вскидывает на меня крайне удивленный взгляд. Почему?
У меня, наверное, очень взъерошенный вид, вот почему он так и удивлен, соображаю я и спешу ему рассказать о причине такого своего неожиданного прихода, но чем дольше он меня слушает, тем большее удивление выражает его лицо, И причина этого, по-моему, совсем не в моем рассказе. В чем же тогда?
Я должен сразу сделать одно небольшое пояснение. Не любят (и имеют, к сожалению, для этого достаточно оснований) многие мои колеги из прокуратуры и из милиции дела семейного характера. В прокуратуру (в милицию) прибегает рыдающая жена и умоляет, чтобы ее мужа поскорее привлекли к ответственности да понадежнее упрятали за решетку: он – и дебошир, и пьяница, он избивает детей и тому подобное. А еще неделю или две спустя она снова прибегает, но уже чтобы его поскорее выпустили. Потому что никакой он, оказывается, не дебошир, ничего она такого не говорила – это ее заставили говорить. И «бумагу» (жалобу) тоже заставили подписать. Против супруга и отца детей, против единственного их кормильца. Кто заставил? Прокурор, начальник милиции. А как же? Он писал, она только подписывала: она ж неграмотная… И последствия для прокурора или начальника милиции бывают самыми неприятными.
И вот Михаил Павлович явно озадачен моим появлением да еще с двумя женщинами, о которых я успел ему рассказать, до сих пор не сообразив предложить мне стула, хотя сам сидит. Сидит настороженный и смотрит на меня так, словно бы ожидает от меня какого-то подвоха. Не могу же я знать – они мне об этом не сказали и не сказала толстая Катя, – что Пухтевич и Гринченко успели уже у него побывать и что это он сам, желая, должно быть, от них избавиться, направил их ко мне. Чтобы написать им исковые заявления в Березовский, по месту жительства ответчика.
– О возрасте ребенка и о возврате денег, – так он это теперь и мне поясняет. И вопросительно на меня смотрит. – А что же еще?
Нет, положение Михаила Павловича, конечно, незавидное. К тому же наш разговор происходит в присутствии райкомовского секретаря. Тот – член бюро, а Михаил Павлович только мечтает таковым стать. Даже его заместитель Павлик Горогуля, курирующий соседний Глусский район, где нет пока собственной прокуратуры, – член тамошнего бюро, а вскоре, как известно всем, станет и тамошним прокурором. И так просто отмахнуться от участия в этом деле Михаил Павлович не может. Он поэтому очень-очень возмущается подлостью негодяя Пухтевича, не жалеет для него никаких красок («Мошенничество ведь? Чистое мошенничество? Статья сто пятидесятая „а“ – так ведь?). Но в то же время явно семейный, гражданский характер этого дела тоже не дает вроде бы ему оснований…
Я не знаю, мне трудно дать название тому, что я испытал, когда все это от него услышал и не сразу, но некоторое время спустя начал понимать суть услышанного. Оно было похоже па физическую боль и такую же боль мне хотелось причинить и ему, всему вообще человечеству… Но я, конечно, никому ничего не причинил, а только говорил, доказывал, быстро исчерпав весь запас слов, которые можно произносить в официальном месте, и продолжал стоять, не зная, что делать дальше. А главное, я понимал, что уходят бесценные минуты, в течение которых можно еще надеяться задержать Пухтевича – с каждой минутой эта надежда улетучивалась, превращалась в дым…
И вот я опять говорил, долдонил одно и то же, повторяя в десятый, может быть, в сотый раз, какой это редкий негодяй, Пухтевич, и как необходимо его задержать, хотя бы ради ребенка, не жалел красок. Михаил Павлович был снова невозмутим, сидел со сложенными перед собой руками и слушал – очень-очень спокойный человек, очень рассудительный, все для себя решивший и не оставивший места ни для каких инотолкований.
Но он был еще и очень непростым человеком, наш Михаил Павлович! Он не так просто сказал свое «нет». Вызвал из приемной Пухтевич и Гринченко и внимательнейшим образом выслушал в моем присутствии и их. Выслушивал как бы даже опять-таки сочувствуя, переживая. А потом позвонил в Минск, в областную прокуратуру, и, изложив все дело так, чтобы и там сказали «нет», снова произнес его как уже окончательное, но идущее не от него самого, а откуда-то оттуда, сверху – разве он волен не подчиняться тому, что решено наверху?
А я смотрел на него, смотрел и на двух женщин, когда
смысл того, что говорил Михаил Павлович, стал им понятен, и опять на него, и тоже, кажется, что-то начинал пони, мать, и с опозданием, с обидным опозданием молодости, которую иногда буквально ненавидишь, вспоминая о том, как часто ты в то время позволял себя морочить…
Уходя, я все же его предупредил – и сказал это уже без всяких эмоций, сухо и по-деловому: сухой деловой разговор двух юристов, – что считаю его действия неправильными и незаконными, а наш спор с ним неоконченным. Он ответил: «Сколько угодно! Можете жаловаться на меня и в областную прокуратуру, и вообще куда захотите!» – Я пообещал, что непременно буду жаловаться. На том мы с ним и расстались.
* * *
Что я мог еще сделать? Продолжать здесь наши словопрения, ставшими совершенно бессмысленными? Ринуться в погоню за преступником? Или же, действительно, как советовал Михаил Павлович, составить исковые заявления в Березовский народный суд Свердловской области и ждать несколько месяцев, может быть, полгода пока их там рассмотрят и пока негодяй Пухтевич пропьет и прогуляет все уворованные им деньги, а ребенка… Кто может знать, что придет в голову такому негодяю в отношении ребенка? Ведь и украл он его у матери с единственной целью избавиться от алиментов…
Вернулся я в консультацию совершенно подавленный. Работать в тот день я уже не мог и отпустил всех, кто меня еще там ждал. Обе женщины тоже приплелись вслед за мной, сидели и плакали. От меня они, похоже, не собирались уходить вообще. Я успокаивал их, пообещал что-нибудь для них сделать: написать, например, в газету. Сказал это просто так, не думая, что напишу, потому что не думал, чтобы в какой-либо солидной газете, той же «Советской Белоруссии», скажем, где меня не так уж и хорошо знают, вот так без проверки, без согласований и обсуждений взяли и напечатали мой материал. Да и когда, помимо всего, они его там напечатают? Заявления в суд я им все-таки написал и тут же послал кого-то из них на почту купит:, марки госпошлины. Потом, когда та вернулась (кажется, это была старуха), опять сказал, что напишу в газету, а она все, что я ей говорил, тут же с помощью жестов и мимики переводила Валентине, которой такой язык был понятнее – смотрела на пальцы старухи, а мне кивала: так, так, дескать, напишите! Обязательно напишите! Я пообещал, что напишу обязательно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.