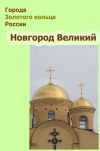Текст книги "История России с древнейших времен. Книга III. 1463–1584"

Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 58 страниц)
На другой день Иоанн призвал всех бояр и начал им говорить, чтоб они присягали сыну его, царевичу Димитрию, и присягали бы в передней избе, потому что он очень болен и приводить их к присяге при себе ему очень тяжело; вместо себя он велел присутствовать при крестном целовании боярам – князьям Мстиславскому и Воротынскому с товарищами; присягнувшим боярам Иоанн сказал: «Вы дали мне и сыну моему душу на том, что будете нам служить, а другие бояре сына моего на государстве не хотят видеть; так если станется надо мною воля божия, умру я, то вы, пожалуйста, не забудьте, на чем мне и сыну моему крест целовали: не дайте боярам сына моего извести, но бегите с ним в чужую землю, куда бог вам укажет; а вы, Захарьины! Чего испугались? Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы; так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». Из последних слов видно, что Захарьины испугались сильного сопротивления враждебной стороны и царь должен был напомнить им, что их судьба тесно связана с судьбою царицы и царевича, что если они поддадутся требованиям противной стороны и признают царем Владимира вместо Димитрия, то и в таком случае пощажены не будут. Слова Иоанна о будущей судьбе своего семейства, когда Владимир сделается царем, испугали бояр, увидавших, какие мысли на душе у больного и к чему могут повести такие мысли, если больной выздоровеет. Испугавшись этих жестких слов, по выражению летописи, бояре пошли в переднюю избу целовать крест. Подошел князь Иван Турунтай-Пронский и, увидавши, что у креста стоит князь Воротынский, не удержался и поспешил выместить на нем то неприятное чувство, с каким давал присягу. «Твой отец, – сказал он Воротынскому, – да и ты сам после великого князя Василия первый изменник, а теперь к кресту приводишь!» Воротынский нашелся, что отвечать: «Я изменник, а тебя привожу к крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и сыну его, царевичу Димитрию; ты прямой человек, а государю и сыну его креста не целуешь и служить им не хочешь». Турунтай смутился, не нашел, что сказать на это, и молча присягнул. После всех присягнули князь Курлятев и казначей Фуников под предлогом болезни; но шли слухи, что они пересылались с князем Владимиром и его матерью, хотели возвести его на престол. Но как некоторые из присягнувших хотели выполнять свою присягу, показал князь Дмитрий Палецкий: присягнувши Димитрию прежде других, вместе с князьями Мстиславским и Воротынским, на лецкий, несмотря на то, послал сказать князю Владимиру Андреевичу и матери его, что если они дадут зятю его, царскому брату князю Юрию (не могшему по состоянию умственных способностей чем-либо управлять), и жене его удел, назначенный в завещании великого князя Василия, то он, Палецкий, не будет противиться возведению князя Владимира на престол и готов ему служить. По известию одной летописи, бояре насильно заставили присягнуть князя Владимира Андреевича, объявивши ему, что иначе не выпустят из дворца; к матери его посылали трижды с требованием, чтоб и она привесила свою печать к крестоприводной записи. «И много она бранных речей говорила. И с тех пор пошла вражда, между боярами смута, а царству во всем скудость», – говорит летопись.
Иоанн выздоровел. Мы видели, какие чувства к боярам вынес он из своего малолетства; эти чувства высказываются ясно везде, при каждом удобном случае: в речи к собору архиерейскому, в речи к народу с Лобного места; сам Иоанн признается, что нерасположение к боярам заставило его приблизить к себе Адашева; Курбский говорит, что на третий день после взятия Казани, рассердившись на одного из воевод, Иоанн сказал: «Теперь оборонил меня господь бог от вас». Понятно, как должно было усилиться это враждебное чувство после болезни. Но всего более должны были поразить Иоанна бездействие, молчаливая присяга Алексея Адашева, явное сопротивление отца его Федора, явное заступничество Сильвестра за князя Владимира, слова, что последний добра хочет государю, подозрительное отсутствие князя Курлятева, самого приближенного к Сильвестру и Адашеву человека. Питая враждебное чувство к вельможам, не доверяя им, Иоанн приблизил к себе двоих людей, обязанных ему всем, на благодарность которых, следовательно, он мог положиться, и, что всего важнее, эти люди овладели его доверенностию не вследствие ласкательств, угождений: он не любил этих людей только как приятных слуг, он уважал их как людей высоконравственных, смотрел на них не как на слуг, но как на друзей, одного считал отцом. И эти-то люди из вражды к жене его и к ее братьям, не желая видеть их господства, соединяются с его врагами, не хотят видеть на престоле сына его, обращаются к удельному князю, двоюродному брату. Но Иоанн очень хорошо знал, какая участь ожидает его семейство при воцарении Владимира, который должен будет смотреть на маленького Димитрия, сына старшего брата и царя, как на самого опасного для себя соперника, а известно было, как московские князья, предки Иоанновы, отделывались от своих опасных соперников, от князей-родичей; у Владимира перед глазами была участь его отца и родного дяди, понятно, следовательно, почему Иоанн умолял верных бояр бежать с его женою и ребенком в чужие земли, Умолял Захарьиных положить головы свои прежде, чем дать жену его на поругание боярам. Понятно, как Иоанн должен был смотреть на людей, ведших семейство его прямо к гибели, а в числе этих людей он видел Сильвестра и Адашева! Летопись справедливо говорит, что с тех пор пошла вражда, но летописец не говорит нам о непосредственном выражении этой вражды, о скорой мести: тяжелые чувства затаились пока на дне души, выздоровление, неожиданное, чудесное избавление от страшной опасности, располагало к чувству иному; радость, благодарность к богу противодействовали чувству мести к людям. С другой стороны, надобно было начать дело тяжелое, порвать все установившиеся уже отношения; тронуть одного значило тронуть всех, тронуть одного из приятелей Сильвестра и Адашева значило тронуть их самих, а это по прежним отношениям было очень трудно, к этому вовсе не были приготовлены; трудно было начать борьбу против вождей многочисленной стороны, обступившей престол, не имея людей, которых можно было бы противопоставить ей, на которых можно было бы опереться; наконец, при явном, решительном действии что можно было выставить против Сильвестра и Адашева? Они не подавали голоса против Димитрия, в пользу Владимира Андреевича.
Иоанн дал обет во время болезни – по выздоровлении ехать на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь и действительно в начале весны отправился в путь вместе с женою и сыном; но малютка на дороге умер. Один из самых значительных членов Сильвестровой стороны, Курбский, оставил нам любопытные известия об этой кирилловской поездке: здесь являются на сцену лица Василиева княжения, является Максим Грек, с одной стороны, и монах Иосифова Волоцкого монастыря – с другой, воскресают прежние отношения, прежняя борьба, ведшая начало от времен Иоанна III и Софии Палеолог. По свидетельству хранителей предания Патрикеевых и Ряполовских, молодой внук Софии для начатия последней кровавой борьбы с ними нуждался в совете ученика Иосифова, тогда как друг Вассиана Косого и жертва сына Софиина, Максим Грек, старался оказать единомышленникам Вассиана последнюю услугу, отвращая Иоанна от поездки в Кириллов монастырь, от свидания с учеником Иосифа Волоцкого. Мы нисколько не ручаемся за достоверность известий князя Курбского, но эти известия драгоценны для нас как выражение сознания современников о живой связи между событиями и лицами.
Мы видели, что Максим Грек из Иосифова Волоцкого монастыря был переведен в Тверской Отроч, где с ним обходились лучше, но все ему, как еретику, не позволяли приобщаться святых таин; князь Петр Иванович Шуйский посетил Максима в его нужде, беседовал с ним; это заставило изгнанника обратиться к нему с письменною просьбою. «Я уже не прошу,писал Максим, – чтоб меня отпустили в честную и всем православным многожелаемую Святую гору: знаю сам, что такое прошение вам нелюбезно; одного прошу, чтоб сподобили меня приобщения святых таин». Потом в этом же послании Максим просит, чтоб ему прислали книг греческих, прибавляя, чтоб исполнили его просьбу для упокоения души великого князя Василия. Просьба эта осталась без исполнения. Максим обратился с нею к митрополиту Макарию; но, прося о святом причастии, Максим просит и о возвращении на Афон. Макарий разрешил ему ходить в церковь и приобщаться святых таин, для чего Максим написал два отвещательпых слова, где очищал себя от обвинений в ереси; в заключение первого слова он говорит: «Если я прав, то покажите мне милость, избавьте от страданий, которые терплю я столько лет, да сподоблюсь молиться о благоверном самодержце великом князе Иване Васильевиче и о всех вас; если же не прав, то отпустите меня на Святую гору». Но на Святую гору его не отпустили, несмотря на просьбы об этом двух патриархов – константинопольского и александрийского. Максим сильно тосковал по духовной своей родине, по Афону: почти везде в сочинениях его, относящихся к этому времени, слышны жалобы на задержку, просьбы о возвращении. В поучении к молодому царю он писал: «Царь есть образ живой и видимый царя небесного; но царь небесный весь естеством благ, весь правда, весь милость, щедр ко всем. Цари греческие унижены были за их преступления, за то, что похищали имения подручников своих… Благовернейший царь! Молю преславную державу благоверия твоего, прости меня, что откровенно говорю полезное к утверждению богохранимой державы твоей и всех твоих светлейших вельмож. Должен я это делать, с одной стороны, боясь участи ленивого раба, скрывшего талант господина своего, с другой – за многие милости и честь, которыми в продолжении 9 лет удостоивал меня, государь мой, приснопамятный отец твой, князь великий и самодержец всея Руси Василий Иванович; он удостоил бы меня и большей чести, если бы, по грехам моим, не поклепали ему меня некоторые небратолюбцы… Приняв слово мое с обычною тихостию твоею, даруй мне, рабу твоему и нищему богомольцу, возвращение на Святую гору!» В другом месте он обращается к Иоанну с такими словами: «Истинный царь и самодержец тот, кто правдою и благозаконием старается устроить житейские дела подручников своих, старается победить бессловесные страсти и похоти души своей, т.е. ярость, гнев напрасный… Разум не велит очи блудно наслаждать чужими красотами и приклонять слух к песням непристойным и к клеветам, по зависти творимым…» Максим уже не говорит против обычая владеть духовенству селами, но вооружается на духовных, которые употребляют свое имение не на прокормление бедных, а на свое довольство и обогащение племянников и сродников; Максим увещевает царя прекратить это; в том же поучении говорит: «Да не прельщаем себя, думая одною долгою молитвою получить свыше помощь». Оканчивает намеком на свою судьбу: «Царь должен быть страннолюбив, заботиться, чтоб иностранцам, приходящим к нему, было хорошо». Беспорядки, бывшие во время малолетства Иоаннова, побудили Максима написать слово о Василии: «Шествуя по пути жестокому и многих бед исполненному, нашел я жену, сидящую при пути, с преклоненною к коленам головою, горько стенящую и плачущую». Эта жена была Василия (власть, царство). «Владеющие мною, – говорила Василия Максиму, – должны быть крепостию и утверждением для сущих под рукою их людей, а не на губою и смятением беспрестанным». И в этом сочинении видим намек на судьбу автора: Максим хвалит Мельхиседека за страннолюбие.
Такова была деятельность Максима при Иоанне: гонения не заставили его переменить характер этой деятельности, скрыть талант господина своего, по его собственным словам, по-прежнему он обличал и поучал. По просьбам троицкого игумена Артемия Максим был переведен из Твери в Троицкий монастырь; здесь нашел его Иоанн, отправляясь на Белоозеро. Максим стал уговаривать его не ездить в такой далекий путь, особенно с женою и новорожденным ребенком: «Если ты и дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтоб подвигнуть святого Кирилла на молитву к богу, то обеты такие с разумом несогласны, и вот почему: во время казанской осады на ло много храбрых воинов христианских; вдовы их, сироты, матери обесчадевшие в слезах и скорби пребывают; так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравши в свой царствующий город, чем исполнить неразумное обещание. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком; также и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, не по доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женою и ребенком». Но Иоанн никак не хотел оставить своего намерения. Тогда Максим чрез четырех приближенных к Иоанну людей, духовника Андрея, князя Ивана Мстиславского, Алексея Адашева и князя Курбского, автора рассказа, велел сказать ему: «Если не послушаешься меня, по боге тебе советующего, забудешь кровь мучеников, избитых погаными за христианство презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на дороге».
Что касается слов Максима Иоанну о путешествии, то надобно заметить, что они вполне согласны со взглядом Максима, выраженным в его сочинениях. Как бы то ни было, Иоанн не послушался: из Троицкого монастыря поехал в Дмитров, а оттуда – в Песношский монастырь, где нашел другого заточенника. Вассиан Топорков, монах Иосифова Волоколамского монастыря, вследствие особенного расположения великого князя Василия к этому монастырю и лично к Вассиану был в 1525 году возведен на коломенскую епископию, оставался верен преданию своего монастыря, действовал заодно с митрополитом Даниилом, возбудил против себя ненависть людей, думавших одинаково с Патрикеевыми и Курбскими, и в 1542 году, тотчас после вторичного торжества Шуйских, должен был оставить епископию и удалиться в Песношский монастырь. Иоанн, помня, что Топорков был любим отцом его, зашел к нему в келью и спросил: «Как я должен царствовать, чтоб вельмож своих держать в послушании?» Вассиан прошептал ему на ухо такой ответ: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех; если так будешь поступать, то будешь тверд на царстве и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе людей умнее себя, то по необходимости будешь послушен им». Царь поцеловал его руку и сказал: «Если бы и отец мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне!» Так, по мнению Курбского с товарищами, должен был говорить монах Иосифова монастыря, любимец великого князя Василия, единомышленник митрополита Даниила; и догадка их могла быть справедлива; говорим – догадка, ибо шепчут на ухо не для того, чтоб другие слышали.
Курбский говорит, что от сатанинского силлогизма Топоркова произошла вся беда, то есть перемена в поведении Иоанна; но мы видим, что летописец более беспристрастный указывает начало беды в событиях, происходивших во время болезни Иоанновой, тогда как Курбский заблагорассудил умолчать об этих событиях. Оба показания, впрочем, могут быть легко соединены: Иоанн под впечатлением событий, происходивших во время болезни его, мог именно желать свидания с Вассианом, приверженцем отца его и противником вельмож, и теперь с особенным удовольствием мог слушать его беседы, которые, конечно, не могли клониться в пользу советников Сильвестровых. Но как бы то ни было, и Курбский не указывает на немедленные следствия совета Вассианова, сам говорит, что Иоанн и после свидания с Вассианом немало лет царствовал хорошо, хотя, с другой стороны, уже в 1554 году мы видим довольно значительное движение недовольных: в числе князей, не хотевших присягать Димитрию, был князь Семен Ростовский; в июле 1554 года побежал в Литву князь Никита Ростовский, был схвачен в Торопце и в допросе показал, что отпустил его в Литву боярин князь Семен Ростовский объявить королю, что он сам едет к нему с братьями и племянниками. Князь Семен был схвачен и показал, что хотел бежать от убожества и малоумства, скуден он разумом и добрыми делами, по-пустому изъедает царское жалованье и отцовское наследство. Люди его, призванные к допросу, показали, что он сносился с литовским послом Довойною, когда тот был в Москве, сам дважды виделся с ним, рассказывал ему, что говорилось в Думе насчет мира с Литвою, поносил государя, уговорился с Довойною и послал человека своего к королю за опасною грамотою. Князь Семен подтвердил все эти показания, утверждая, что все это делал от малоумства и что с ним хотели бежать родственники его, князья Лобановы и Приимковы. Царь с боярами осудили его за дела и слова на смертную казнь и послали на позор вместе с товарищами, но митрополит с владыками и архимандритами отпросили его от смертной казни, и он сослан был на Белоозеро в тюрьму, а людей его распустили. Сам князь Семен извинялся малоумством, летописцы также не говорят о побуждениях его к отъезду, но само правительство объясняет эти причины в наказе послу, отправленному в Литву: «Если станут его спрашивать о деле князя Семена Ростовского, то говорить: пожаловал его государь боярством для отечества, а сам он недороден, в разуме прост и на службу не годится; однако захотел, чтоб государь пожаловал его наравне с дородными; государь его так не пожаловал, а он, рассердившись по малоумству, начал со всякими иноземцами говорить непригожие речи про государя и про землю, чтоб государю досадить; государь вины его сыскал, что он государя с многими землями ссорил, и за то велел его казнить. А станут говорить: с князем Семеном хотели отъехать многие бояре и дворяне? Отвечать: к такому дураку добрый кто пристанет? С ним хотели отъехать только родственники его, такие же дураки».
Иоанн жалуется в письме к Курбскому, что после этого Сильвестр с своими советниками держал князя Семена в великом береженье, помогал ему всякими благами, и не только ему, но и всему роду его. В 1560 году видим удаление Сильвестра и Адашева от двора. И удаление Сильвестра не много более уяснено в памятниках, как и появление его при Иоанне; о последнем свидетельствует Курбский, и свидетельствует, как мы видели, очень неудовлетворительно; о причинах удаления говорит он же и потом сам Иоанн в ответном письме к нему. Мы должны рассмотреть подробно оба эти свидетельства.
Когда царь, говорит Курбский, оборонился храбрыми воеводами своими от врагов окрестных, то платит оборонителям злом за добро. Как же он это начинает? Вот как: прежде всего отгоняет от себя двух преждепоименованных мужей, Сильвестра-пресвитера и Адашева, ни в чем перед ним не виноватых, отворивши оба уха презлым ласкателям своим, шурьям и другим с ними, которые заочно клеветали ему на этих святых мужей. Зачем же они это делали? Затем, да не будет обличена злость их, и да невозбранно будет им всеми нами владеть, суд неправедный судить, посулы брать и другие злости плодить, пожитки свои умножать. Что же они клевещут и шепчут на ухо? Тогда умерла у царя жена; вот они и сказали, что извели ее те мужи, Сильвестр и Адашев. Царь поверил. Услыхав об этом, Сильвестр и Адашев начали умолять то чрез письма, то чрез митрополита, чтобы дана была им очная ставка с клеветниками. «Не отрицаемся, – писали они, – и смерти, если будем обличены; но да будет суд явственный пред тобою и перед всею Думою твоею». Что же умышляют клеветники? Писем не допускают до царя, митрополиту запрещают и грозят, царю говорят: «Если допустишь их к себе на очи, то очаруют они тебя и детей твоих; притом все войско и народ любит их больше, чем тебя самого, побьют тебя и нас камнями. Но если даже этого и не будет, то свяжут тебя опять и покорят себе в неволю. Так они тебя до сих пор держали в оковах, по их приказу ты пил и ел и с женою жил, не давали они тебе ни в чем воли, ни в большом, ни в малом, не давали тебе ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если б не они были при тебе и тебя не держали, как уздою, то ты бы уже мало не всею вселенною обладал. Теперь, когда ты отогнал их от себя, то пришел в свой разум, отворил себе очи, смотришь свободно на все твое царство и сам един управляешь им». Царь хвалит совет, начинает любить советников, связывает себя и их клятвами, вооружаясь, как на врагов, на мужей неповинных и на всех добрых, добра хотящих ему и души за него полагающих. И что ж прежде всего делает? Собирает собор из бояр и духовенства, присоединяет прелукавых некоторых монахов, Мисаила Сукина, издавна знаменитого злобою, Вассиана неистового и других, исполненных лицемерия и бесстыдства, сажает их близ себя, с благодарностию слушает их, клевещущих на святых. Что же делают на этом соборе? Читают вины вышесказанных мужей заочно. Митрополит говорит: «Надобно привести обвиненных сюда, чтоб выслушать, что они будут отвечать на обвинения». Все добрые были согласны с ним, но ласкатели вместе с царем завопили: «Нельзя этого сделать, потому что они ведомые злодеи и волшебники великие, очаруют царя и нас погубят, если придут». Итак, осудили их заочно. Сильвестра заточили на остров, что на Ледовитом море, в монастырь Соловецкий, лежащий на краю Корельского языка, в Лопи дикой. Адашев отгоняется от очей царских без суда в нововзятый город в Ливонии, назначается туда воеводою, но ненадолго: когда враги его услыхали, что и там бог помогает ему, потому что многие города ливонские хотели поддаться ему по причине его доброты, то прилагают клеветы к клеветам, и царь приказывает перевести его в Дерпт и держать под стражею; через два месяца он занемог здесь горячкою и умер; тогда клеветники возопили к царю: «Изменник твой отравился». А Сильвестр-пресвитер еще прежде, чем изгнан был, – увидавши, что царь не по боге всякие вещи начинает, претил ему и наставлял много, но он отнюдь не внимал и к ласкателям ум и уши приклонил; тогда пресвитер, видя, что царь уже отвратил от него свое лицо, отошел в монастырь, во ста милях от Москвы лежащий, и там, постригшись в монахи, провождал чистое житие. Но клеветники, услыхав, что монахи тамошние держат его в чести, из зависти и из боязни, чтоб царь, услыхав об этом, не возвратил его к себе, схвативши его оттуда, завели на Соловки, хвалясь, что собором осудили его.
Итак, по рассказу Курбского, сперва выходит, что дело началось отгнанием Сильвестра и Адашева, что это отгнание последовало по смерти царицы Анастасии вследствие клеветы в отраве; а потом вдруг узнаем, что Сильвестр еще прежде сам удалился и постригся в Кириллове Белозерском монастыре, что враги его потом из зависти и страха составили клевету, осудили заочно и отправили в Соловки; следовательно, дело началось не клеветою в отраве, а прежде: Сильвестр ушел, увидав, что царь отвратил от него лицо свое; что же заставило Иоанна отвратить лицо от Сильвестра, об этом Курбский не говорит и, перемешавши порядок событий как бы намеренно, поставивши позади то, что должно быть напереди, чтоб замять дело, обмануть читателя, удовлетворить его одною причиною, тогда как надобно было выставить две, лишил себя доверенности, показал, что или не умел, или не хотел объяснить причины нерасположения царя к Сильвестру, которое заставило последнего удалиться. Об Адашеве Курбский говорит, что он отгоняется от очей царских без суда, назначается в Феллин воеводою уже после смерти царицы Анастасии; но известно, что Адашев еще в мае 1560 года отправлен был в поход на Ливонию в третьих воеводах в большом полку.
Посмотрим, рассказ царя Иоанна не будет ли удовлетворительнее, причем прежде всего заметим, что царь, оправдывая свои жестокости, никогда не отрицает их; следовательно, мы имеем право полагаться на его слова. Вот что говорит он в письме к Курбскому, перечисляя вины Сильвестра и Адашева: «Видя измены от вельмож, мы взяли вашего начальника, Алексея Адашева, от гноища и сравняли его с вельможами, ожидая от него прямой службы. Какими почестями и богатствами осыпали мы его самого и род его! Потом для духовного совета и спасения души взял я попа Сильвестра, думая, что он, предстоя у престола владычного, побережет души своей; он начал хорошо, и я ему для духовного совета повиновался; но потом он восхитился властию и начал совокупляться в дружбу (составлять себе партию), подобно мирским. Подружился он с Адашевым, и начали советоваться тайком от нас, считая нас слабоумными, мало-помалу начали они всех вас, бояр, в свою волю приводить, снимая с нас власть, частию равняя вас с нами, а молодых детей боярских приравнивая к вам; начали причитать вас к вотчинам, городам и селам, которые по уложению деда нашего отобраны у вас; они это уложение разрушили, чем многих людей к себе привязали. Единомышленника своего, князя Димитрия Курлятева, ввели к нам в синклитию и начали злой совет свой утверждать: ни одной волости не оставили, где бы своих угодников не посадили; втроем с Курлятевым начали решать и местнические дела; не докладывали нам ни о каких делах, как будто бы нас и не было; наши мнения и разумные они отвергали, а их и дурные советы были хороши. Так было во внешних делах; во внутренних же мне не было ни в чем воли: сколько спать, как одеваться – все было ими определено, а я был как младенец. Но разве это противно разуму, что в летах совершенных не захотел я быть младенцем? Потом вошло в обычай: я не смей слова сказать ни одному из самых последних его советников; а советники его могли говорить мне, что им было угодно, обращались со мною не как со владыкою или даже с братом, но как с низшим; кто нас послушается, сделает по-нашему, тому гонение и мука; кто раздражит нас, тому богатство, слава и честь, попробую прекословить – и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство-то разорится. И такое утеснение увеличивалось не день ото дня, но час от часу. Когда мы с христианскою хоругвиею двинулись на безбожный язык Казанский, получили над ним победу и возвращались домой, то какое доброхотство оказали нам люди, которых ты называешь мучениками? Как пленника, посадивши в судно, везли с малым числом людей сквозь безбожную и неверную землю! Когда по возвращении в Москву я занемог, то доброхоты эти восшатались, как пьяные, с Сильвестром и Адашевым, думая, что нас уже нет, забыв благодеяния наши и свои души, потому что отцу нашему целовали крест и нам, что, кроме наших детей, другого государя себе не искать; хотели воцарить далекого от нас в колене князя Владимира, а младенца нашего погубить, воцарив князя Владимира. Если при жизни нашей мы от своих подвластных насладились такого доброхотства, то что будет после нас? Когда мы выздоровели, Сильвестр и Адашев не переменили своего поведения: на доброжелателей наших под разными видами умышляли гонения, князю Владимиру во всем потакали, на царицу нашу Анастасию сильную ненависть воздвигли, уподобляя ее всем нечестивым царицам, а про детей наших тяжело им было и вспомянуть. Когда князь Семен Ростовский изменил и мы наказали его с милостию, то Сильвестр с вами, злыми советниками своими, начал его держать в великом бережении и помогать ему всяким добром, и не только ему, но и всему роду его. Таким образом, изменникам нашим было хорошо, а мы терпели притеснение; в одном из этих притеснений и ты участвовал: известно, что вы хотели судить нас с Курлятевым за Сицкого. Началась война с ливонцами; Сильвестр с вами, своими советниками, жестоко на нас за нее восставал: заболею ли я, или царица, или дети – все это, по вашим словам, было наказание божие за наше непослушание к вам. Как вспомню этот тяжкий обратный путь из Можайска с больною царицею Анастасиею? Единого ради малого слова непотребна. Молитвы, путешествия по святым местам, приношения и обеты ко святыне о душевном спасении и телесном здравии – всего этого мы были лишены лукавым умышленном; о человеческих же средствах, о лекарствах во время болезни и помину никогда не было. Пребывая в таких жестоких скорбях, не будучи в состоянии сносить такой тягости, превышающей силы человеческие, и сыскав измены собаки Алексея Адашева и всех его советников, мы наказали их милостиво: смертною казнию не казнили никого, но по разным местам разослали. Поп Сильвестр, видя своих советников в опале, ушел по своей воле, и мы его отпустили не потому, чтобы устыдились его, но потому, что не хотели судить его здесь: хочу судиться с ним в будущем веке, пред агнцем божиим; а сын его и до сих пор в благоденствии пребывает, только лица нашего не видит. А мирских людей мы наказали по их измене: сначала смертною казнию не казнили никого; но всем приказано было отстать от Сильвестра и Адашева, не иметь с ними сообщения, в чем и взята была со всех присяга; но советники их, которых ты называешь мучениками, приказ наш и крестное целование вменили ни во что, не только не отстали от изменников, но и больше начали им помогать и всячески промышлять, чтобы их в первый чин возвратить и составить на нас лютейшее умышление, и так как злоба обнаружилась неутолимая, то виновные по своей вине суд и приняли».
В этом рассказе нас не останавливает никакая запутанность или противоречие: причина и постепенность действия ясны. Иоанн сам объявляет, что нерасположение к вельможам заставило его приблизить к себе Адашева, человека относительно низкого происхождения; для совета духовного, для нравственного руководства приближен был священник Сильвестр, более всех других к тому способный; относительно внутренней, нравственной жизни подчинение Сильвестру было полное; но Сильвестр, соединясь с Адашевым, составив себе многочисленную и сильную партию, захотел полного подчинения во всем: несогласие Иоанна с Сильвестром и его советниками выставлялось как непослушание велениям божиим, за которым непосредственно следуют наказания; во время болезни царя Сильвестр, отец Адашева и приятели их действовали так, что заставили Иоанна разувериться в их расположении к нему и его семейству, возбудили или усилили нерасположение к себе царицы и ее братьев и сами не скрывали своего нерасположения к ним. Последнее столкновение, на котором остановился Иоанн при перечислении своих оскорблений, поместил он во время обратного пути из Можайска с больною Анастасиею: «Како же убо воспомяну я же во царствующий град с нашею царицею Анастасиею, с немощною, от Можайска немилостивное путное прохождение? Единого ради малого слова непотребна». Известие это, лишенное подробностей, для нас темно, как известие о деле с Курлятевым и Сицким и многие другие намеки, делаемые Иоанном в переписке его с Курбским; но последнее выражение ясно указывает на столкновение Сильвестра и Адашева или советников их с Анастасиею: «За одно малое слово с ее стороны явилась она им неугодна; за одно малое слово ее они рассердились». Это столкновение, как видно, было последним, решительным в борьбе; время путешествия Иоанна с больною женою нам известно: это было в ноябре 1559 года, весною видим уже Адашева в почетной ссылке при войске, отправлявшемся в Ливонию; в это же время должен был удалиться и Сильвестр. Любопытно и тут видеть остаток того нравственного влияния, которым пользовался Сильвестр над Иоанном,последний выставляет более виновным Адашева: «Сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советники». Сильвестр удаляется добровольно; Иоанн повторяет, что он не сделал ему никакого зла, что не хочет судить его, а будет судиться с ним перед судом Христовым; невоздержный на бранные выражения, Иоанн в переписке с Курбским позволяет себе только одно бранное выражение насчет Сильвестра: помня столкновения свои с последним в совете о делах политических, позволяет себе называть Сильвестра невеждою. Очень важно известие, находимое у Иоанна, – известие о постепенности в опалах: сперва удаление некоторых; взятие с оставшихся клятвы не сообщаться с удаленными; но клятва не соблюдается, советники Сильвестра и Адашева стараются возвратить им прежнее значение, и следуют казни. Действительно, трудно предположить, чтоб многочисленная и сильная сторона Сильвестра и Адашева осталась спокойною зрительницею своего падения, не старалась возвратить себе прежнего положения, чего могла достигнуть только чрез возвращение Сильвестру и Адашеву их прежнего значения. Это известие тем вероятнее, что объяснения перевода Адашева из Феллина в Дерпт и Сильвестра из Кириллова в Соловецкий монастырь, объяснения, которые сообщает нам Курбский, очень невероятны: Адашеву хотели сдаваться ливонские города, Сильвестра кирилловские монахи держали в большом почете – и это возбудило зависть, опасения во врагах их! Наконец, очень важно, что Иоанн при исчислении вин Сильвестра и Адашева ни слова не упоминает об обвинении в отраве Анастасии и тем опять подрывает достоверность известия Курбского, будто обвинение в отраве царицы, которое придумали враги Сильвестра и Адашева и которому поверил Иоанн, было началом опалы. Если б Иоанн действительно поверил отраве, если б это был главный пункт обвинения, то что могло помешать ему выставить его в послании к Курбскому? Только во втором послании, желая ответить на упрек в потере нравственной чистоты, Иоанн обращается к Курбскому с вопросом: «А зачем вы разлучили меня с женою? Если б вы не отняли у меня мою юницу, то Кроновых жертв и не было бы. Только бы на меня с попом не стали, то ничего бы и не было: все учинилось от вашего самовольства». Таким образом, то, что у Курбского является на первом плане, о том сам Иоанн вовсе сначала не упоминает, а потом упоминает мимоходом, в очень неопределенных выражениях, чтоб только чем-нибудь оправдаться в упреке за нравственные беспорядки; это различие легко объясняется тем, что Иоанн не считал для себя нужным скрывать главные причины событий – борьбы с Сильвестром, Адашевым и советниками их за власть, что повело к удалению этих лиц, и потом движение стороны Сильвестра и Адашева для возвращения своим вождям прежнего значения, что повело к дальнейшим опалам и казням, тогда как Курбскому хотелось скрыть обе причины; для этого он перемешал события: что нужно было поставить впереди, поставил сзади, и выставил причину ненастоящую.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.