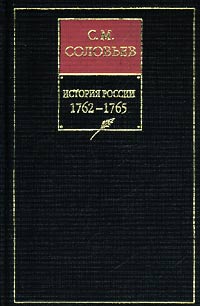
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 47 страниц)
Это тайное общество начало действовать явною стенобитною машиною, когда Дидро вместе с известным математиком Даламбером начали с 1751 года издавать знаменитую Энциклопедию. Священная книга откровений разума человеческого, разумеется, должна была начинаться изложением блестящих успехов разума во Франции и Европе с XVI века; это изложение написано было Даламбером.
Но что такое разум? Сначала проповедники его царствия разумели под ним высшее духовное начало в природе человеческой; но начала материалистических учений уже давно высказались в сочинениях английского философа Локка и в 1734 году были распространены во Франции, а следовательно, и по всему континенту тем же Вольтером в его «Английских письмах». Аббат Кондильяк развил Локковы начала в «Опыте о происхождении познаний человеческих» (1746) и в «Трактате об ощущениях» (1754), но и Кондильяк остановился на дороге, не сделался материалистом. Дойти до крайних результатов в этом учении суждено было Гельвецию. Гельвеций смолоду стал участвовать в выгодной деятельности по откупам податей, нажил большое состояние и, обеспеченный в этом отношении, стал думать, как бы приобрести и славу, сначала славу друга и покровителя литераторов и ученых, а потом и самому занять видное место в среде их. Сначала стал писать стихи, но, видя, что на этом поприще прославиться трудно, стал заниматься, как тогда говорили, философиею и в 1758 году выдал книгу «De l'Esprit». Как обыкновенно бывает в движениях, подходящих в известное время под требования и вкус общества, люди посредственных способностей, желая обратить на себя внимание и пробиться вперед, стремятся отличиться мыслями и требованиями во что бы то ни стало новыми и смелыми, забегать вперед, наддавать на аукционе. Так поступил и Гельвеций и дошел в своей книге до крайних материалистических выводов, отвергнув духовное начало в человеке и поставивши корысть, стремление к удовольствию единственным побуждением деятельности человеческой. Книга Гельвеция была строго запрещена во Франции; автор, чтоб остаться в покое, принес повинную, объявил, что поставляет свою славу в подчинение христианству всех своих мыслей, мнений и способностей своего существа. Но другого рода слава была приобретена. Строгое запрещение распалило любопытство, и книга Гельвеция четыре раза была перепечатана в Амстердаме, хотя для потомства остался в силе приговор знаменитого Тюрго, что книга Гельвеция есть произведение философское, но без логики, литературное, но без вкуса, в ней толкуется о нравственности, но не честно. Патриарх отрицательной литературы, Вольтер говорил, что не одобряет ни заблуждений книги Гельвеция, ни пошлых истин, которые он с торжеством повторяет; но он заступился за Гельвеция как за солдата из своего отряда, укоряя его только за неосторожность: зачем вырезал свое имя на кинжале, которым поражал общего врага, зачем выставил на книге свое имя, зачем напечатал ее во Франции.
Книга Гельвеция произвела тяжелое впечатление на Ж.-Ж. Руссо; он хотел было писать возражения на нее, но остановился ввиду правительственного гонения на нее. Ж.-Ж. Руссо стоял поодаль от той группы писателей, которою мы до сих пор занимались, но тем не менее имел могущественное влияние на умы современников. В то время, когда литература проповедовала царство разума человеческого, когда с торжеством указывала на великие и благодетельные явления, начавшиеся с того времени, когда разум стал освобождаться из оков темных сил, господствовавших в средние века, из оков фанатизма, суеверия и предрассудков, когда с лихорадочным нетерпением ждали того великого времени, когда свет разума воссияет в полном блеске и вследствие этого блаженство водворится на земле, когда признавалось бесспорною истиною, что золотой век не назади, как думали древние, а впереди, – в это самое время писатель, особенно способный овладевать вниманием, душою читателя, объявляет, что вера в прогресс напрасна, что движение общества по пути цивилизации, как можно большее удаление его от того состояния, которое называется диким и варварским, вовсе не ведет к увеличению благосостояния человечества, к нравственному улучшению. В 1749 году Дижонская академия объявила тему на конкурс для будущего 1750 года – «Восстановление наук и искусств способствовало ли к очищению нравов?». Явился ответ отрицательный, и автором его был Руссо. Влиянию наук и искусств приписаны были все пороки общества, все добродетели были найдены у народов диких. Блестящее сочинение имело громадный успех, возбудило всеобщее внимание и сильные споры. До сих пор вожди отрицательного направления в литературе имели преимущественно в виду борьбу с религиозным авторитетом, ограничивавшим свободу разума, предполагавшим несостоятельность последнего; борьба против политических учреждений была на втором плане. Эти вожди пользовались выгодным положением в обществе, были его любимцами, оракулами, имели обеспеченное, некоторые обширное состояние, следовательно, имели возможность наслаждаться прелестями утонченной жизни, по своему воспитанию, по своему обращению, привычкам принадлежали к отборному обществу, чувствовали себя в нем легко, свободно, поэтому они не имели никаких побуждений проповедовать общественную перестройку; их требования от богатых и сильных ограничивались тем, чтоб они относились к бедным и слабым с большим человеколюбием и правдою. Но вот по силе своего таланта между этими так называемыми философами получает место человек, на них не похожий. Руссо был сын женевского часовщика; после разных треволнений жизни судьба привела его в Париж; но с своим новым отечеством он имел общего только язык, во всем другом он был ему чужд, и, несмотря на оторванность от прежнего отечества, в нем подчас резко сказывался гражданин кальвинистской республики. Он вытерпел много унижения и лишений; он очутился в кругу вельмож, богачей и модных писателей; но в этом кругу ему было неловко, он не мог быть здесь так свободен и развязен, как Вольтер с товарищами; приладиться к обществу, принять его обращение, стараться нравиться, начать играть роль он не мог, потому что не был француз, не имел поэтому природной способности быть салонным человеком. Сознание своей неисправимой неловкости, невозможности играть ту роль, какую играли другие вокруг него, сознание, что постоянно затмевается другими, это сознание в соединении с крайним самолюбием и болезненностию, чрезвычайною раздражительностию нервов заставило Руссо вести себя так, что об нем начали отзываться сначала как о чудаке, дикаре, а потом как о человеке сумасшедшем и невозможном для общества. Такая неловкость и унизительность положения, нужда, особенно в сравнении с довольством других писателей, которых он не считал выше себя, содействовали тому, что Руссо отрицательно, враждебно отнесся к основному общественному строю, нашел его чрезмерно сложным и извращенным, отступившим от первоначальной простоты, которая одна давала человеку возможность сохранять чистоту нравов. Та же Дижонская академия в 1753 году предложила на конкурс другую тему: «Отчего произошло неравенство между людьми и основывается ли оно на естественном законе?» Руссо отвечал и на этот вопрос: первый, кто огородил известный участок земли и сказал: «Это мое!», был истинным основателем гражданского общества. В таком основании Руссо видел общественное грехопадение, от которого проистекли все бедствия для рода человеческого. Руссо остался верен этой основной мысли и в других своих сочинениях: воспитание и политические учреждения должны иметь целию возвращение человека к первобытной простоте отношений.
Кроме влияния, какое имели сочинения Руссо на последующие явления французской истории, кроме влияния, какое имели его мысли о воспитании на все европейское общество, сочинения Руссо имеют то важное историческое значение, что в них резко высказалась реакция господствовавшему стремлению достигнуть торжества разума человеческого, отрешиться как можно скорее и безвозвратнее от первой половины народной жизни, в которой преобладает чувство над разумом. Руссо, как обыкновенно бывает в подобных реакциях, перегнул дугу в противоположную сторону, утверждая, что состояние размышления противоестественно и человек размышляющий есть человек испорченный. Но, несмотря на справедливые возражения против Руссо, против его крайностей, софизмов, искусственного, фантастического объяснения общественных явлений, искусственного, невозможного построения человеческих отношений, несмотря на стремления приблизиться к естественным отношениям, – несмотря на все это, Руссо совершенно справедливо указал в известном отношении на односторонность господствовавшего стремления. Человеку приятно увлекаться мыслию о прогрессе, но внимательный взгляд на явления в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютного прогресса нет, нет золотого века впереди, а есть известное движение, которое мы называем развитием, причем все, переходя в известный возраст или момент развития, может приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает выгодные стороны оставленного позади возраста. Приобретается плод, теряется цвет; лето, несмотря на свои выгодные стороны, лишено прелестей весны; человек вполне развитой, в полном обладании умственных сил и крепкий опытом жизни жалеет о прелестях юности и даже детства, прелестях, для него невозвратимых. Вот почему подле похвалы успехам настоящего времени, при надеждах на большие успехи в будущем, законно существует похвала доброму старому времени. Обе эти похвалы ведут обыкновенно к бесконечному и ожесточенному спору, потому что обе основаны на односторонности, примирение заключается в признании развития и его законов; а возможно, здоровое состояние общества зависит от умения при переходе в известный возраст не отдаваться безотчетно господствующему в этот возраст началу, а умерять его другими необходимыми для жизненного равновесия началами, не утверждать вместе с Руссо, что состояние размышления есть состояние противоестественное для человека, и в то же время признавать основное, зиждительное значение чувства.
Но Руссо при господстве в его характере страстности и фантазии не мог хотя сколько-нибудь сдержать отрицательное направление литературы, напротив, подкатил к стенам полуразрушенной крепости новый опасный таран. Успехи осаждающих уславливались, впрочем, не их стенобитными орудиями, а преимущественно плохою защитою гарнизона. Духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе словом и делом, представляя противоположность между своим поведением и тем нравственным идеалом, которое было выставлено христианством. Государство в сильных финансовых затруднениях обратилось к духовенству, владевшему громадными имениями и доходами, и потребовало сведения обо всех имуществах и доходах церковных. Духовенство отказалось дать это сведение, причем обратилось к королю с такими словами: «Самомалейшие новизны в правилах и обычаях религиозных подвергают религию великой опасности; соседние государства представляют гибельные тому доказательства, и никогда эти примеры не могли нас более устрашить, как в настоящее время. Гнусная философия распространилась как смертельный яд и иссушила корень веры почти во всех сердцах; скандал нечестия, гордого числом и качеством своих приверженцев, не знает более меры. Государь, вы должны оказать теперь религии самое сильное покровительство, потому что она никогда еще не подвергалась таким сильным нападениям». Вольтер не остался в долгу; он нанес духовенству удар, прикрывшись щитом светской власти: «Правительство тогда только хорошо, когда оно едино; не должно быть двух властей в одном государстве. Употребляют во зло различие между властию духовною и светскою. У меня в доме разве признают двоих хозяев: меня и наставника моих детей, которому я плачу жалованье? Я желаю, чтоб уважали наставника моих детей, но я вовсе не желаю, чтоб он имел хотя малейшую власть в моем доме. Во Франции, где разум усиливается с каждым днем, этот разум научает нас, что церковь должна участвовать в государственных тяжестях по соразмерности с своими доходами и что сословие, долженствующее особенно учить справедливости, должно первое подать пример справедливости. Такое правительство будет готтентотское, при котором можно будет известному числу людей сказать: кто работает, тот пусть и платит, мы не должны ничего платить, потому что мы ничего не делаем. То правительство оскорбит Бога и людей, при котором граждане могли бы сказать: государство нам дало все, а мы должны за него только молиться. Разум внушает нам, что, когда государь захочет уничтожить какое-нибудь злоупотребление, народ должен ему в этом содействовать, хотя бы злоупотребление считало за собою давность 4000 лет. Разум нас научает, что государь должен быть полновластным распорядителем всей церковной полиции. Великое счастие для государя, когда много философов, ибо философы, не имея частного интереса, могут говорить только в пользу разума и блага общественного. Величайшее счастие для людей, когда государь – философ: государь-философ знает, что, чем более силы берет в его государстве разум, тем менее производят зло суеверие, споры и ссоры богословские».
«Гнусная философия иссушила корень веры почти во всех сердцах», – говорило французское духовенство; но было много людей во Франции, в сердцах которых корень веры не был иссушен; доказательством служило то, что они за отцовскую веру терпели страшные притеснения, работали на галерах, покидали отечество: то были протестанты. Католическое духовенство, не способное предохранить сердца своей паствы от влияния философии, поддерживало гонение на протестантов и тем давало врагам своим – философам лучший случай вооружаться против религии, во имя которой производилось гонение. Католическое духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе с философиею, от него не было слова и дела назидания, и люди, в сердцах которых корень веры не был иссушен философиею, для того чтоб дать питание этому корню, обращались к мниморелигиозным явлениям, которые прямо переносили в браминскую Индию и не имели ничего общего с христианством. В Великую пятницу 1759 года публика сходилась смотреть, как распинали сестру Франциску, начальницу конвульзионерок, как железными гвоздями прибивали ко кресту ее руки и ноги, как пронзали копьем левый бок… Как обыкновенно бывает, зрители разделялись во мнениях: одни вполне верили в действительность явления; другие утверждали, что это ловкое фокусничество; третьи говорили, что хотя тут и есть обман, но есть и явления необъяснимые. Во всяком случае, представления конвульзионерок служили новым предлогом к нападкам на христианство.
С другой стороны, народ был свидетелем страшных зрелищ: во Франции, считавшейся центром европейской цивилизации, преступника разрывали шестью лошадьми. Исполнители приговора заботились об одном, чтоб как-нибудь не сократить мучений; отец, жена, дети преступника изгонялись из отечества. Легко понять, какую силу получали голоса, восстававшие против таких ужасов, требовавшие уничтожения всех этих обычаев доброго старого времени; легко понять, как эти голоса являлись благовестием будущего золотого века.
Страна изнемогала под тяжестию налогов; а между тем у Людовика XV шел однажды такой разговор с министром герцогом Шуазелем. Король : «Как вы думаете, сколько стоит моя карета?» Шуазель : «Я бы заплатил за нее 5 или 6000 франков; но так как ваше величество платите по-королевски, то она может стоить и 8000». Король : «Вы жестоко ошиблись: карета стоит мне 30000 франков». Шуазель : «Такие возмутительные злоупотребления невыносимы, необходимо положить им предел, и я вызываюсь на это, если вашему величеству угодно будет поддержать меня». Король : «Любезный друг! Воровство в моем доме громадное, но нет никакой возможности прекратить его: слишком много людей, и, главное, слишком много людей сильных, здесь заинтересовано; все мои министры мечтали привести в порядок расходы двора, но, испуганные препятствиями при исполнении, бросали дело. Кардинал Флери был очень силен, был полновластным хозяином Франции и умер, не посмевши привести в исполнение ни одной из идей, какие имел относительно этого предмета. И потому успокойтесь и не трогайте порока неизлечимого». Легко понять, как подобные явления усиливали отрицательное направление в обществе и литературе, с каким нетерпением ждали царства разума. Но среди победных кликов в честь разума, имеющего избавить от всех зол, наследник Людовика XV, заплативший преждевременною смертию за тяжкую жизнь, проведенную в мыслях о будущем, писал: «Новая философия, оправдывая своеволие народов, дает в то же время государям право торжествовать, если они захотят ею руководствоваться, ибо если интерес настоящей минуты и личный интерес считаются единственным правилом всех наших действий, государь будет иметь не меньшее искушение употреблять во зло свою власть, как и народы свергнуть иго авторитета. Что страсти только внушают, тому наши философы учат. Если закон интереса будет принят и заставит забыть Закон Божий, тогда все идеи справедливого и несправедливого, добродетели и порока, нравственного добра и зла уничтожатся, троны поколеблются, подданные станут непослушны и мятежны, государи немилостивы и нечеловеколюбивы. Народы будут всегда или в возмущении, или под гнетом». Французские историки, указывая на свои революции и царствование Наполеонов, говорят, что дофин был пророком.
В таком положении находилась страна – представительница Западной Европы, западноевропейской цивилизации, когда русские люди в своей новой истории перешли уже в другой период своего развития. От Петра Великого до Елисаветы на первых порах своего знакомства с Западною Европою, собственно в школьное время, они учились там в разных местах, перенимали то или другое нужное знание, как дети по заданному уроку, иногда часто поневоле. Со времен Елисаветы отношения русских людей к Западной Европе стали более сочувственны, более пристрастны, в то же время отношения к просвещению вообще стали более свободны и самостоятельны; русские люди с жадностию бросаются не на то или другое знание, специально им нужное, но на европейскую литературу, которая представлялась тогда французскою литературою, упиваются новым, широким миром идей, легкостию французской мысли, с какою она перелетала от одного предмета на другой, вскрывала новые отношения между ними; восхищаются ее остротою, с какою она подтачивала так называемые предрассудки; русские люди читали, переводили, создавали свою литературу, которая не могла не находиться под сильным влиянием образцовой литературы французской. Страсть к чтению, которая овладела в это время русскими людьми, видна из всех мемуаров времени. Чтение это, как обыкновенно бывает, производило различное впечатление на читающих. В одних влияние прочитанного не было сильно, знакомство с литературою служило им для внешних только целей, для наведения лоска, обычное в переходные времена двуверие, поклонение новым богам без покинутия старых видим и здесь; в других отрицательное направление модной французской литературы поколебало религиозные и нравственные убеждения; в третьих произошла борьба, окончившаяся рано или поздно торжеством религиозных убеждений; четвертые с наслаждением читали блестящие остроумием произведения отрицательной литературы, не слепо им верили, но находили много правды и успокаивались тем, что отрицалось не свое, а чужое, нападки сыпались на католицизм, католическое духовенство. Наконец, как обыкновенно бывает при господстве известного направления, переходящем большею частию в деспотизм и употребляющем своего рода террор, мало находится людей, которые бы прямо высказали свои убеждения, свое неодобрение господствующему направлению, неодобрение тому или другому его представителю: так и в России в описываемое время люди и не сочувствующие, например, Гельвецию с уважением отзывались о его книге; не хотелось явиться обскурантом, казалось, что, давши неодобрительный отзыв о знаменитой книге, тем самым делают выходку вообще против просвещения.
Мы уже видели, что при Елисавете между даровитыми и чуткими к общественным явлениям людьми, которые упивались чтением произведений французской литературы, находилась и великая княгиня Екатерина. Сильный ум молодой женщины высказался здесь в том, что она отдала свое предпочтение Монтескье, вполне того заслуживавшему. Но слишком ученый, сериозный и охранительный Монтескье сиял вдали спокойным светом; более близкие, доступные светила блистали ярче, производили большее впечатление, раздражение, и между ними царил Вольтер. С этим новым могуществом считали нужным завести сношение и представители старых государств, но которые хотели прославиться новою деятельностию, сообразною с провозглашенными потребностями времени. Еще в начале царствования Елисаветы, в 1745 году, Вольтер, жадный к известности, почестям и отличиям всякого рода, чрез известного французского министра в Петербурге Дальона начал добиваться, чтоб Петербургская Академия наук избрала его в свои почетные члены. Дальон хлопотал в Академии, хлопотал у канцлера Бестужева, и Вольтер был избран. Но в то же время Вольтер предложил русскому правительству написать историю Петра Великого, прося сообщения источников. Побуждения понятны: при своей впечатлительности Вольтер не мог не быть поражен величием преобразователя России и, главное, его просветительною деятельностию. В памяти Вольтера и его современников запечатлелись три царственных образа, стоявшие на первом плане в первой четверти столетия и подобных которым последующее время не представляло: Людовик XIV, Карл XII, Петр Великий, и Вольтер хотел быть историком всех троих, что ему и удалось исполнить. Но начало царствования Елисаветы было неблагоприятно для его попытки получить согласие и помощь русского правительства: литературное движение, знакомство с французскою литературою только еще начинались; канцлер Бестужев принадлежал к поколению, которое не могло быть под обаянием Вольтера, а вражда к Франции не могла расположить его в пользу французского писателя, за которого хлопотал Дальон. Бестужев отозвался, что написание истории Петра Великого лучше поручить Петербургской Академии наук, чем иностранцу. Обратились к президенту Академии наук, Вольтер изъявил желание сам приехать в Петербург, но Разумовский отклонил и то и другое.
Вольтер не долго дожидался. Влияние литературы, во главе которой стоял он, усиливалось все более и более в России, и один из самых горячих приверженцев литературного движения стал самым влиятельным лицом при дворе Елисаветы – то был Ив. Ив. Шувалов. При его посредстве дело скоро уладилось (1757 г.). Вольтер стал писать историю Петра Великого; из России обязались доставлять ему материалы. Но как было это сделать? Кто тогда в России имел понятие о материалах истории Петра Великого? Кто изучил их настолько, чтоб мог составить сколько-нибудь удовлетворительное извлечение для писателя-иностранца? Шувалов обратился за помощию к знатокам. Ломоносов, не историк по призванию и приготовлению, смотревший на дело преимущественно с литературной точки зрения, отвечал: «К сему делу, по правде, г. Вольтера никто не может быть способнее, только о двух обстоятельствах несколько подумать должно. Первое, что он человек опасный и подал в рассуждении высоких особ худые примеры своего характера. Второе, хотя довольно может получить от нас записок, однако перевод их на язык, ему знакомый, великого труда и времени требует. Что до сего надлежит, то принимаю смелость предложить следующее: во-первых, должен он себе сделать краткий план, который может сочинен быть из сокращенного описания дел государевых, которое я имею, к чему он и сочиненный мною панегирик не без пользы употребить может, ежели на французский язык переведен будет. По сочинении плана и его сюда сообщении, думаю, что лучше к нему посылать переводы с записок по частям, как порядок в плане покажет, а не все вдруг. И так станет он сочинять начало, между тем прочий перевод поспевать может, и так сочинение скорее начаться и к окончанию приходить имеет. Ускорение сего дела для престарелых лет Вольтеровых весьма надобно. У меня, сколько есть записок о трудах великого нашего монарха, все для сего предприятия готовы». Известий о Петре, по уверению современников, было переслано много к Вольтеру; но, когда ему хотелось уяснить какой-нибудь вопрос по источникам, ему должны были отказывать в средствах или по самой обширности их, или и по другим побуждениям. Так, Вольтер требовал присылки посольских дел; Шувалов обратился к Мюллеру, и тот отвечал: «Правда, что дипломатические сношения входят в историю государя, но царствование Петра Великого было так продолжительно, что почти невозможно привести все переговоры, разве написать громадную историю в фолиантах, что, кажется, не по гению г. Вольтера». Но если бы было по гению г. Вольтера написать множество фолиантов об истории Петра, то как бы тогда поступили относительно пересылки посольских дел? Вольтеру хотелось уяснить по русским источникам любопытный для Западной Европы вопрос о степени участия Петра в намерениях Герца восстановить Стюартов в Англии. Мюллер отвечал, что есть напечатанные мемуары, представленные по этому поводу английскому правительству русскими министрами в Лондоне Веселовским и Бестужевым, и что «не годится историку противоречить таким подлинным актам». Цензура посылаемого Вольтеру принадлежала Шувалову; так, Ломоносов писал ему: «Сокращенное описание самозванцев и стрелецких бунтов, еще переписав, имею честь подать вашему превосходительству. Сами можете отметить, что вам не рассудится за благо перевести на французский язык. Сокращение о житии государей царей Михаила, Алексея и Феодора стараюсь привести к окончанию подобным образом».
В 1759 году вышла первая часть «Истории Петра Великого». В Петербурге она не удовлетворила ожиданиям, потому что эти ожидания были очень велики. Упрекали автора в краткости изложения, указывая на количество известий, ему пересланных; упрекали за то, что он не воспользовался многими из этих известий и вместо того внес свои мнения и суждения. Но Мюллер справедливо заметил, что несообразно было с гением Вольтера писать громадные фолианты. Вольтер сделал все, что мог, и, несмотря на все недостатки, ошибки и промахи, книга его в свое время была вовсе не лишняя не только на Западе, но и в России и стоила тех шуб, которые были отправлены за нее автору. Фридрих II был страшно раздражен тем, что первый писатель времени посвятил свой талант прославлению великого русского царя; раздражение понятное: Фридрих сладил бы и с австрийцами, и с французами, но Россия приводила его на край погибели, и средства ей для этого даны были Петром. «Скажите мне, пожалуйста, – писал он Вольтеру, – с чего это вы вздумали писать историю волков и медведей сибирских? И что вы еще можете рассказать о царе, чего нет в жизни Карла XII? Я не буду читать истории этих варваров; мне бы даже хотелось вовсе не знать, что они живут на нашем полушарии». Вольтер по поводу этого наивного письма писал Даламберу: «Люк (Luc – так Вольтер звал Фридриха II в насмешку) мне пишет, что он немножко скандализован, что я, по его выражению, пишу историю волков и медведей; впрочем, они вели себя в Берлине медведями очень благовоспитанными». Но Вольтер не обращал большого внимания на выходки Фридриха и был очень доволен, что заслужил благосклонность русской государыни. Нет сомнения, что у него при этом были особые виды: при союзе России с Франциею Елисавета могла упросить Людовика XV снять опалу с Вольтера, позволить ему возвратиться в Париж, по котором Вольтер не переставал тосковать. Вот почему смерть Елисаветы сильно его огорчила. «Моя императрица русская умерла, – писал он племяннице (Флориан), – и по странности моей звезды выходит, что я потерпел чрезвычайно большую потерю».
Через полгода в Петербурге опять перемена. Екатерина давно уже сознавала важное значение, приобретенное литературою, то руководительное значение, какое получили литературные вожди и патриарх их Вольтер. Теперь она вступила на престол при таких обстоятельствах, которые заставляли ее внутри и вне искать союзников, приверженцев, оправдателей, хвалителей. Понятно, что, обращаясь на Запад, желая там внушить уважение к себе, доверие к своей силе и прочности своего престола, она не могла не остановиться на Вольтере; понятно ее раздражение, когда ей шепнули, что Ив. Ив. Шувалов, находившийся в переписке с Вольтером, внушает царю философов невыгодное о ней представление. Как только Бретейль возвратился в Петербург, императрица велела спросить его, знаком ли он с Вольтером и не может ли внушить ему более правильные представления о роли, которую играла кн. Дашкова в событиях 28 июня. А между тем из петербургского дворца уже шли к Вольтеру письма с оправданиями этих событий: их писал его знакомый, женевец Пиктэ, принятый Екатериною для иностранной переписки. Вольтер, не имевший ни малейших побуждений жалеть о Петре III, в письмах к Шувалову выражал свое удовольствие относительно перемены 28 июня, называя Екатерину Семирамидою. Сначала Екатерина и Вольтер обменивались комплиментами в письмах Пиктэ, а потом, неизвестно с точностию когда, начинается между ними и непосредственная переписка. По крайней мере в июле 1763 года в письме к одному приятелю Вольтер обнаруживает сильное сочувствие к императрице и заботу о ее участи: «Неужели правда, что огонь тлеет под пеплом в России, что существует большая партия в пользу императора Ивана? Что моя дорогая императрица будет низвергнута и у нас будет новый предмет для трагедии?» Опасения скоро рассеялись, и Екатерина приобрела в патриархе философов самого ревностного приверженца, готового защищать ее против всех, против турок и поляков, готового указывать ей самые блестящие цели: едва ли Вольтер не первый стал толковать о том, что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и воссоздать отечество Софокла и Алкивиада, так что Екатерина должна была сдерживать его слишком разыгравшуюся фантазию.
Но кроме желания приобрести таких сильных союзников, кроме желания приобрести высокое место покровительницы европейского просвещения, кроме этих собственно политических целей у Екатерины были и другие побуждения, заставлявшие ее сближаться с самыми видными из философов. Она была дочь своего века; чуткая в сильной степени к высшим интересам человека, она страстно следила за умственным движением столетия, и, не сочувствуя здесь всему, преклонялась, однако, вообще пред движением, и, ставши самовластною государынею, хотела применить его результаты к устройству народной жизни. В одном из первых писем к Вольтеру Екатерина писала: «Правда, что мы многого не понимаем из того, что к нам приходит с юга. Мы изумляемся, читая произведения, делающие честь роду человеческому, и видя, с другой стороны, как мало пользуются ими. Мой девиз – пчела, которая, летая с растения на растение, собирает мед для своего улья, и надпись – полезное . У вас низшие научают, и легко высшим пользоваться этим наставлением; у нас наоборот». В другом письме читаем: «Я должна отдать справедливость своему народу: это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные; благодаря этим аксиомам правила, долженствующие служить основанием новым законам, получили одобрение тех, для кого они были составлены. Я думаю, вам бы понравилось сидеть за столом, где сидят вместе православный, еретик и мусульманин, спокойно слушают голос идолопоклонника и все четверо совещаются о том, чтоб их мнение могло быть принято всеми. Они так хорошо забыли обычай поджаривать друг друга, что если б кто-нибудь предложил депутату сжечь своего соседа в угоду высшему существу, то отвечаю, что не было бы ни одного, который бы не ответил: он человек, как и я, а по первому параграфу инструкции ее императорского величества мы должны делать друг другу как можно больше добра и никакого зла. Уверяю вас, что дела идут буквально так, как я вам говорю: если бы понадобилось подтверждение, у меня бы нашлось 640 подписей с подписью епископа впереди. На юге, быть может, скажут: какие времена, какие нравы! Но север поступит, как луна, которая идет своей дорогой». Вольтер в своем письме выражал удивление пред государынею, которая умела сделать духовенство полезным и послушным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































