Читать книгу "История России с древнейших времен. Том 21. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1740–1744 гг."
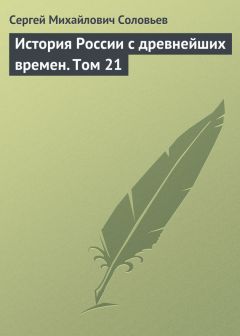
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В половине мая пришел из Швеции ответ, что король не может уступить Нюландии, а только Кюменогорскую область. Русские уполномоченные по указу из Петербурга согласились на уступку Нюланда, но потребовали к Кюменогорской области Савалакса и Карелии и в случае несогласия объявили, что уезжают; это было 14 июня. Между тем в Петербурге 8 июня собрание рассуждало об уступке Савалакса и решило, «чтоб не допустить кронпринца Датского на шведский престол и помочь в достижении его принцу Голштинскому, в рассуждении слабой негоциации здешних на конгрессе министров, из их же собственных реляций усмотренной, уступить шведам Савалаксию, ограничившись Кюменогорскою областью с Фридрихсгамом, Вильманштрандом и Нейшлотом с уездами».
Об этом заседании собрания Алексей Бестужев-Рюмин писал Черкасову любопытное письмо: «При вчерашнем собрании в двух пунктах жестокий спор учинил генерал-прокурор, которому последовал Ушаков и князь Мих. Мих. Голицын: 1) в том, что в мнении написано было, что ежели города Нишлота уезд в нашу сторону подался, а в неприятельскую ничего нет, чтоб выговорено было прибавить из Савалаксии к городу Нишлоту пять или по последней мере три мили, против чего крепко закричали, ничего больше требовать не надлежит, хотя б не токмо по полисады, но и под самую стену граница была, и так перекричали, что оставлено просто на всякую удачу; 2) внесено было в мнение, что в рассуждении слабой негоциации министров здешних на конгрессе, как из реляций их усмотрено, то надлежит Савалаксию уступить, и хотя все о слабой негоциации рассуждали и осуждали, однако наконец перекричали, чтоб из концента выкинуто было, даже потом фельдмаршал князь Долгорукий и генерал граф Чернышев с прочими, кроме вышеозначенных и Бахметева, вновь за то ухватились, чтоб оное внесть, и согласились по обеде у него ж, фельдмаршала, вновь съехаться, куда приехав, изготовя два инструмента, один со внесением спорного пункта, а другой с выпущением оного, кто что подписать по чистой своей совести заблагорассудит. Генерал-прокурор полутора часами назначенного времени позже приехал, что между тем со внесением спорного пункта девять персон и генерал Ушаков подписали, оставя ему место: за то жестоко прогневался на всех, а особливо на меня и всю коллегию, для чего, не дождавшись его, подписали, хотя ему и представлено было, что и другой инструмент готов без внесения спорного пункта, на волю его предается, который по чистой своей совести подписать заблагорассудит, однако ж, с час еще гневаясь, наконец обще с князем Голицыным и Бахметевым, которые в том же сильно спорили, с неспорующимися равномерно подписались. Могу поистине сказать, что от помянутых спорщиков и крикунов сего собрания совет подобен был козацкому кругу».
Посмотрим теперь, что делалось в Або. Здесь 15 июня Нолькен приехал к Любрасу и со слезами просил отмены в условиях, которую уполномоченные взяли бы на себя. Румянцев и Любрас отвечали, что взять на себя отмену условий они никак не согласны, но только в надежде на апробацию императрицы назначают новые условия: уступку России всей Кюменогорской области, половины Карелии и Нейшлота. «Запрос о части Карелии мы сделали для того, – писали Румянцев и Любрас, – чтоб тем легче шведы согласились на отдачу Нейшлота, и притом не желая упустить ничего, чем бы можно было получить от них побольше». Шведы не хотели уступить побольше и после жарких споров написали проект договора: шведы обязывались избрать в наследники престола принца Голштинского, уступить Кюменогорскую область со всеми устьями реки Кюмени; о Нейшлоте шведские уполномоченные обязались в надежде на апробацию, точно так, как русские насчет Савалакса и Карелии, хотя они имели указ императрицы об уступке этих земель; Россия обязывалась принять меры для защиты Швеции, если б последняя подверглась нападению вследствие заключения такого договора с Россиею, «как о том прежде говорено». Относительно этого обязательства Румянцев и Любрас писали: «Сей пункт всех тяжелее для нас был, ибо в указе вашего величества в том отказать велено и только тогда на то поступлено, когда увидали действительно, что уже разрыв всего от того зависит и потому оный так, по нашему рабскому мнению, изображен, что ваше величество ничем не обязует, ибо пристойные меры не в одном оружии, но и в негоциации разумеются; а более того заключение: „Как о том говорено“, все опровергает соответственно тому, как от нас сказано, что ваше величество никаких обязательств в мирное дело включить не намерены».
На этом основании составлен был подписанный 17 июня «Уверительный акт», на который поступить, писали уполномоченные, «мы по рабскому нашему ревностному усердию к высочайшим вашего величества интересам и отечеству дерзнули наипаче для того, чтоб конгресс по точному указу вашего величества до разрыву не допустить и шведское с Даниею соединение отвратить». «Уверительный акт» едва успели вовремя привезти в Стокгольм, потому что далекарлийские крестьяне в числе осьми тысяч ворвались 22 июня в столицу, с тем чтоб провозгласить наследником принца Датского; картечи заставили крестьян разбежаться, а так как «Уверительный акт» был уже получен 19 числа, то 23-го король, Сенат и все четыре государственных чина единогласно выбрали коронным наследником Голштинского принца Адольфа Фридриха, и одновременно с провозглашением этого избрания объявлен был и мир с Россиею. Императрицею мирный договор был подписан 19 августа: «Свейский король уступил ее имп. величеству и наследникам ее и последователям всероссийского императорского престола в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне завоеванную из Великого княжества Финляндского провинцию Кюменегор с находящимися в оной городами и крепостями Фридрихсгам и Вильманштрандт и, сверх того, часть кирхшпиля Пюттиса, по ту сторону и к востоку последнего рукава реки Кюмени или Келтиса обстоящую, который рукав между большим и малым Аборфорсом течет, а из Савалакской провинции город и крепость Нейшлот с дистриктом и со всеми принадлежностями и правами».
Относительно войны, оконченной Абовским миром, до нас дошло любопытное сочинение, неизвестно кем написанное, в форме разговоров между двумя солдатами. Во время стоянки армии у Аландских островов перед заключением мира солдат Симон говорил своему товарищу Якову:
«Для чего мы столько долго в пустом месте стоим, где не можно на пищу ничего достать купить, да и вода самая нужная и нездоровая? А видим, по островам финского скота шатается много без пастухов, и жителей в деревнях нет, а брать его не велят, и от такова недовольствия в полках весьма больных умножилось, да и мрут, а главные наши командиры о довольстве нашем не стараются и в хорошие места не переводят; бог им судит! С великою бы мы охотою против неприятеля с ружьем померли, нежели ныне здесь от недовольствия. Если бы таким образом случилось шведам войти в наши российские места, то бы они по своей гордости и к нам зависти не точию скот наш не пощадили, но и жен и детей наших мучительски обругали и церкви осквернили, как то в прежде бывшую войну от них в Малороссии было. Разве мы скота их хуже? Яков: Фельдмаршал человек хотя и добрый, да так уже ему иного по старости лет и в ум не придет, а генералитет говорить о том опасаются, чтоб не досадить еще; подлинно мы знать не можем, каковы дела происходят в Стокгольме и на мирном конгрессе в Абове. Симон: В каком состоянии эту нашу со шведами войну надеялися быть, как бы прежние российские правители у нас еще целы были, и чем бы то она окончилась, страшно и спрашивать. Яков: Памятуешь ли прошлые годы, когда пошли мы в Польшу для избрания нынешнего короля Августа III на место отца его? Был у нас главным командиром генерал Лессий, который ныне фельдмаршал: хотя иноземец, только человек добрый. А как пришли под Гданск, тогда приехал к нам генерал-фельдмаршал Миних, природный немчин и не нашей веры, стал жестоко с нами, российскими солдатами и с офицерами, поступать и, не рассуждая о государственных наших убытках и о погибели нашего народа, во многие нехитростные тогда партии посылал, а паче под Вилборг, напившись пьян, лучших тогда изо всей армии гренадеров и мушкетеров ночью на приступ командировал, откуда малое число назад в лагерь пришли, да и то почти все переранены; и тут множество добрых солдат погубил, а пользы никакой не получил… С турками войну объявили и поручили главную армию в команду ему же, Миниху, а генерала Лессия пожаловали в фельдмаршалы и Азов брать послали. Вот стали у нас оба фельдмаршалы иноземцы, чего с начатия России и при милостивейшем отце нашем императоре Петре Великом не было. Пошли мы под командою его, Миниха, в Крым, вышли в степь пустую, и стал Миних российских людей перебирать, штаб– и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать и самых старых и заслуженных полковников пред фрунтом армии под ружьем водить, а все за безделицу: увидит, что у офицеров галстук небелый или ненапудренный, а в степи кому на это смотреть… Вот Петра Великого законы начали уничтоживать… Провианту у нас уже ничего не стало; люди стали ослабевать и с голоду помирать; Миних на то ни на что не смотрит. Хотя многих мертвых старых солдат, пред собою лежащих, видит, никогда не сожалел, ибо не его крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он ни одного в свойстве себе не имеет – чего их жалеть? Не вечно думал в России жить, только бы ко двору о своих храбрых поступках реляцию сообщить и от того славу и богатство себе получить. И при дворе в то время кому было рассуждать? Главные правители – немцы, его други и родственники, а российских генералов, сенаторов они тогда за людей не почитали, того и смотрели, как бы кому голову отсечь, а по малой мере в ссылку сослать. О невозможности российских людей Он, Миних, и слышать не хотел и часто говаривал: «А, а батушка! у русских людей невозможности нет…» Дворяне бедные, которые в полках служили, так загнаны были, что уж ничего не желали, только бы сыскать дорогу в отставку, понеже их в чины не производил, а кого и производил, разве за недостатком немцев, и как он, Миних, так и прочие тогдашние генералы-немцы ругали их и обижали, дураками и скотом прозывали и до того довели, что в ином полку ни одного российского офицера не было, и откуда какой немчин приехал, пожалуй, его генералом, полковником, штаб-офицером, а по последней мере в капитаны, также в штатские чины; уже они всех российских дел управители стали, и в Курляндии гезелей и мясников немного осталось – все в офицерах. В Митаве случилось с нарочитым купцом мне говорить, и дошла речь до офицерства, он мне сказал: «У вас-де в армии бывших при мне гезелей и разночинцев больше дюжины в штаб-офицерах ныне служат: разве у вас российских достойных дворян не стало?» Симон: Скажи, пожалуй, были ли с ним, Минихом, в тех походах наши российские генералы и для чего ему, Миниху, о таких непорядочных поступках не говорили? Яков: Тогда с ним были почти все генералы-немцы, его союзники и единой веры, а именно: два Бирона, Левендаль и прочие, а российских полковых генералов один Румянцев, и хотя он человек добрый, храбрый и умный, свидетельствованный министр и любимый генерал-адъютант государя императора Петра Великого и ныне со шведами в Абове на конгрессе мир учинил; да что ему было делать? Вся пленипотенция Миниху предана: российских полковников расстреливал, а генералов в солдаты писал; Румянцев так от него всегда ожидал смертной напасти. В то время будучи в хотинском походе, призвал Миних к себе с прочими генерала Румянцева на консилиум; Румянцев намерению его прекословил, а предлагал о целости российского интереса, за то Миних так на него осерчал, что из палатки своей такого честного и верного человека нечестно выслал да неоднократно на него к двору писал и бездельные следствия за ним учинял; только сего доброго человека и Российского отечества сына за его правду и добрые дела от такого злоковарного человека сам бог закрыл и до погибели не допустил… После же оной турецкой войны, как объявили нам о кончине покойной императрицы Анны, а Бирона правителем Российского государства, так у меня, братец, по коже подрало, как медвежьим ногтем: вот теперь бедная Россия попала из лихорадки в горячку; прости, наша православная вера, церковные учители! И так десять лет почти молчали, а ныне уже и ничего говорить не будут. Прости, российское верное дворянство, Петром Великим наученное солдатство! Десять лет вы забыты и уничтожены были, а ныне конец вам и всем славным делам вашим приходит. Простите, от Петра Великого насажденные фабрики и мануфактуры и все премудрые науки: чужеземцы обладают! Вот скоро велят нам забыть законы и дела Петровы, а учинять новые интриги. Притом же и прочие мои братья, верные Российского отечества дети, сердечно и болезненно о том сожалели по законной наследнице государыне цесаревне Елисавете Петровне, еже ей-ей, братец, многажды со слезами воспомянули: не родителя ли ее все то, чем ныне иноплеменники владеют?… Вот после того услышали вскоре, что Миних Бирона арестовал и в ссылку послал со всей его креатурой, в том числе и пруссак Бисмарк; а мы, российские солдаты, сошлись, между собою тихонько пошептали: стал гонить черт дьявола, и обоим не миновать; да рубил татарин татарина, а оба в России не надобны… Всемогущий бог коварные советы языков разоряет, духом своим святым возводит дух Петра Великого, живущий в дочери его; подал ей вырвать из чужих рук скипетр отца ее и избавить от насилия и обиды, учиненной российскому дворянству и всему народу, которых он, Петр Великий, научил и кровавым своим потом и трудами людьми учинил, которых прежние наши немецкие правители порицали, что нет из русских достойного ни одного человека и ни в какой чин не годны; а Петр Великий из своих природных россиян учреждал генералов-фельдмаршалов, генералов-адмиралов, министров, сенаторов и президентов, да интерес его в целости сохраняли и многими народами обладали».
Мир с Швециею был заключен; но по его поводу вооружилась Дания, и на спрос шведского посла, что значат эти вооружения, ему отвечали, что они предпринимаются для собственной безопасности, ибо по письмам из Гамбурга, Киля и Стокгольма от Дании потребуют возвращения Шлезвига, что об этом толкует Бухвальд. Получив донесение об этом из Абова, Бестужев заметил: «Сии скоропостижные голштинские угрозы впутать могут в новую войну, которая без всякой прибыли удаления ради еще тяжелее прежней будет». Шведское правительство требовало, чтоб корабельный русский флот подался поближе к Зунду для воспрепятствования выходу датского флота и обеспечения переезда герцога-администратора в Швецию; требовало также, чтоб шедшая из Архангельска эскадра и бывшая в Зунде возвратилась в Немецкое море и крейсировала против Норвегии для воспрепятствования датскому транспорту, а зимовать она могла бы в шведской гавани Марштранде. На это Бестужев заметил: «Время позднее, разве людей поморить и флот разорить; к тому ж в чужой гавани кроме отваги (опасности) содержать зиму не в одни сто тысяч рублев станет». Румянцев и Любрас писали императрице: «Сколько мы из слов шведов здесь заключить могли, они не прочь, чтоб его имп. высочество (Петр Федорович) Голштинию Дании уступил, ибо они уже толковали, что по законам Римской империи греческой веры государь в Германии владеть не может; из этого видно, что шведы рады были бы этим способом датский двор удовлетворить и успокоить». Шведские уполномоченные в Абовене переставали толковать об опасности и требовать русской помощи; кроме флота стали требовать, чтоб Россия высадила в Швецию и сухопутное войско от семи до осьми тысяч не только против датчан, но и для поддержания внутренней тишины в Швеции; объявляли, что у них есть полки, на которые положиться нельзя, что датский двор полагает надежду, во-первых, на партию между крестьянами, которая непременно соединится с датским войском; во-вторых, на какую-то большую революцию в России, ибо датские министры сказали шведскому послу, стращавшему их силою России: «Правда, Россия сильна, но она привыкла к революциям, и он, посол, не знает, какая в ней скоро пере мена может последовать».
Вследствие этих известий лица, которые прежде собирались для обсуждения мирных условий, 22 августа получили указ императрицы: «Понеже получили мы от наших полномочных министров из Абова реляции, что шведы в случае ныне чинимого от датчан к нападению приготовления просят нашей помощи: того для повелеваем по оной реляции иметь совет, что и как возможно делать к помощи шведам, и чтоб оное с нашею честью и интересом государственным сходно могло быть и чтоб оной совет учинить немедленно и нам донесть, ибо время коротко остается. Елисавет». Рассудили согласно подать ее величеству мнение: 1) не соизволено ль будет ныне 30 галер под командою генерала Кейта обратно отправить к Гельсингфорсу и быть им там до наступления больших холодов и тогда перейти к Ревелю и там зимовать. 2) Корабельному флоту под начальством адмирала Головина пробыть сентябрь в море, идти ему до Карлскроны и по возможности далее для соединения со шведским флотом и для прикрытия транспорта избранного наследника шведской короны, а в случае нападения датского флота на шведов защищать последних и никаких датских транспортов к шведским берегам не допускать. Но 3 сентября собрание уже решило: генералу Кейту с полками на галерах идти немедленно от Гельсингфорса к Стокгольму и там зимовать.
Герцог-администратор, получивши от русского двора на проезд 50000 рублей, благополучно достиг Стокгольма, куда с поздравлением к нему отправлен был из Копенгагена действительный камергер Николай Корф. 21 ноября Корф имел аудиенцию у принца, который объявил ему, что он такой милости от императрицы не достоин, что к нему прислан он, Корф, с поздравлением и за свое настоящее положение после бога он должен благодарить одну императрицу; благодарность эту словами он изобразить не может и поручает себя императорской милости и покровительству. 30 ноября два русских полка, Ростовский и Казанский, имели торжественный вход в Стокгольм с музыкою и распущенными знаменами. Старый король выражал большое удовольствие, и все удивлялись бодрому и военно-храброму виду солдат, которые, несмотря на продолжительное и трудное пребывание на галерах, шли бодро и в хорошем порядке. Король говорил: «Я очень доволен, что прежде смерти имею счастье видеть перед собою и под своею командою войска столь могущественной и славной императрицы, и в случае нужды я никому не уступлю чести командовать ими». Получая от Корфа иКейта грамоту императрицы, король целовал ее.
Бывшая до сих пор в гонении партия противников русской войны торжествовала и хотела упрочить свое торжество совершенным отстранением французского влияния как в Швеции, так и в России. Члены этой партии вместе с саксонским резидентом Вальтером уверяли Корфа, что Шетарди хвастается получением полного успеха в Петербурге милостью императрицы, но в то же время продерзостно отзывается, что если Елисавета не захочет принять его внушений и проектов, то он знает средство свергнуть ее, как прежде помогал ее возведению на престол, хотя в последнем случае помогала ей более судьба, чем он, потому что ему, собственно, нужно было произвести в России внутренний раздор и замешательства. Шетарди же отзывался, что он в силу своего кредита при императрице поднял Бестужевых, Бреверна и Воронцова для привлечения их на французскую сторону; но так как они вместо благодарности за то, что он вывел их из грязи, не оказали никакого содействия его видам, то он будет стараться лишить их кредита и привести в немилость, и если можно, то лишит их доброго имени и жизни. Члены старой русской партии просили Корфа, чтоб к ним прислан был министр, который бы мог добрых патриотов защищать и подкреплять, а приверженцев Франции держать в узде. Добрые патриоты указывали на Михайлу Бестужева как человека, знающего французскую партию и интриги.
Франция выдала Швецию, как прежде выдала Польшу, хотя, с другой стороны, надобно заметить, что во Франции никак не могли думать, что Швеция так позорно повела свои дела в Финляндии. Как бы то ни было, Франция не могла подать ей никакой помощи, потому что сама дурно вела свои дела в войне с Мариею Терезиею. Относительно севера Франции теперь оставалось одно – хлопотать при русском дворе, чтоб он не соединился с морскими державами для подания помощи королеве венгерской: относительно же Швеции стараться, или по крайней мере показывать вид, что старается, доставить Швеции наименее невыгодный мир под условием требуемого Россиею избрания Голштинского принца в наследники шведского престола. После отъезда Шетарди полномочным министром Франции в Петербурге остался Дальон. бывший в России и при Шетарди, знавший хорошо дела и людей. Но в Петербурге жалели о Шетарди. Императрица скучала, не ветречаясь более с человеком, который умел так забавлять своими шутками и рассказами; Лесток и Брюммер, разумеется, не упускали случая усиливать желание видеть снова веселого собеседника.
Еще в конце 1742 г. Кантемир получил от своего двора рескрипт, в котором приказывалось ему домогаться всевозможными способами о возвращении маркиза Шетарди в Россию, и если этого достигнуть нельзя, то молчать о назначении другого министра на место Дальона. Никаких домогательств, по-видимому, употреблять не было нужды: сам Шетарди охотно соглашался на возвращение. Амелот также, и, однако, проходили месяцы, а Шетарди не возвращался; быть может, мешало этому условие, без сомнения придуманное Бестужевым, что императрица не примет Шетарди в официальном значении, если в присланных с ним королевских грамотах ей не будет дан императорский титул. Медленность Шетарди оскорбила императрицу, так что она запретила Кантемиру настаивать на его возвращении в Россию. В январе 1743 года умер кардинал Флёри от старости и с горя, что Франция запуталась в войну, из которой не могла выйти с честью и пользою. Король объявил, что первого министра более не будет. Между тем у Кантемира с Амелотом шли важные объяснения относительно избрания наследника шведского престола; Амелот объявил, что Франция исключает только принца Гессен-Кассельского по преданности его англискому двору; всякий же другой принц будет одинаково приятен Франции; король особенно желает, чтоб его поведение в этом деле было приятно русской государыне, и потому было бы очень нужно дать поскорее сюда знать о ее намерениях. Кантемир доносил своему двору, что для Франции всего был бы приятнее принц Цвейбрюкенский, но если он невозможен, то она охотно признает и герцога епископа Любского. Кантемир старался сблизиться с генерал-контролером Орри по его сильному влиянию на дела. Орри заявил, что он всегда был в пользу дружбы Франции с Россиею, но теперь находит препятствие к этой дружбе в союзных договорах России с Англиею и королевою венгро-богемскою, также в запрещении русским подданным носить платье из богатых материй, что вредит французской торговле и, конечно, внушено англичанами. Кантемир возражал на это, что союзы России с иностранными державами суть союзы оборонительные, безо всякого предосуждения для третьей державы, что он сам, Орри, должен согласиться, как при нынешнем положении северный союз с Англиею выгоден для России, а союз с королевою венгерскою нужен для всего христианства для сдержания турецкого могущества; что же касается до запрещения употреблять богатые материи на платье, то оно основано на одной пользе русского народа и не есть следствие каких-нибудь чуждых внушений. Орри согласился с справедливостью этих объяснений и полагал, что нужно начать с трактата дружбы между Франциею и Россиею, а затем приступить к союзному или торговому.
Но прежде всего нужно было решить шведское дело. Кантемир наконец объявил Амелоту, что кандидат императрицы есть епископ Любский, в пользу которого, однако, Россия будет употреблять только добрые услуги. «Это я понимаю, – отвечал Амелот, – но вот чего не понимаю: русский двор находится с английским двором в более тесной связи, чем с здешним, и, несмотря на то, здешний двор готов содействовать желанию русской государыни, тогда как английский министр в Стокгольме не жалеет ни денег, ни трудов, чтоб не допустить до избрания епископа Любского: хотелось бы мне знать, каким образом русский двор в этом случае соглашается с английским?»
Кантемир отвечал, что тут нет ничего удивительного: каждому государю естественно желать, чтоб избрание пало на человека, ему приятного, и разногласие в одном деле не ведет еще к нарушению согласия в других, если для достижения своих целей дворы употребляют только добрые услуги. Амелот спросил также, будет ли дело избрания соединено с делом примирения, потому что в таком случае желаемая Россиею особа, смотря по мирным условиям, может надеяться успеха, и если бы условия были выгодны для шведского двора, то он бы, Амелот, стал советовать шведскому министерству не отлагать избрания епископа Любского. Кантемир отвечал, что не знает, намерена ли императрица связать эти два дела, но, сколько может судить, не думает, чтоб она намерена была дорого купить избрание епископа Любского. При этом Кантемир писал своему двору: «Из всех этих часто повторяемых внушений Амелота я заключаю: первое, что из боязни усиления партии принца Гессен-Кассельского стараются тревожить русский двор и заставить его препятствовать английскому проекту: второе, что желали бы здесь каким-нибудь образом восстановить свой кредит в Швеции, соединив дело примирения с делом избрания, в надежде, что таким способом можно будет шведскому двору доставить более выгодные условия, и в последнем отношении я признаю согласным с русскими интересами не подавать Амелоту никакой надежды; хотя я замечаю теперь в здешнем министерстве лучшее расположение к России, однако я остаюсь при прежнем своем мнении, что во всех поступках французского министерства преследуется одна своя польза, определяемая врожденным народу высокомыслием; следовательно, легко будет отложить дело вступления в союз с здешним двором, учтиво избегая по этому делу объяснений с министрами. Здешнее лучшее расположение к России происходит от дурного состояния здешних дел или от желания разлучить Россию с прочими державами. По первому обстоятельству мне кажется, что. каковы бы ни были поступки русского двора, здешний принужден сносить их терпеливо, да и жалобы его можно принимать равно душно».
После заключения Абовского мира Кантемир писал: «Насколько ваше императорское величество больше славы получает и насколько основывается тишина в государстве вашем и безопасность на будущее время, настолько двор здешний менее доволен такою удачею вашею, ибо, с одной стороны, предусматривается, что кредит французский на севере должен очень убавиться, а с другой – боиться, что ваше величество получаете возможность помочь королеве венгерской, что было бы верхом здешних несчастий. Этому страху я должен приписать усиленное внимание ко мне здешнего министерства. Состояние здешних дел столь плохо, что никакими усилиями не могут привести в безопасность свои границы; государство истощено деньгами и людьми, военные силы недостаточны, министерство слабое и для таких важных действий неспособное, генералы неискусные, народ бедный и недовольный. король пренебрегает делами».
В августе Кантемир обедал у генерал-контролера Орри, который, заведя речь о движении короля датского против Швеции. сказал: «Принимая во внимание слабость короля датского и отсутствие всякой надежды на помощь какой-нибудь иностранной державы, надобно опасаться, что он надеется на какую-нибудь революцию в России. О такой революции приходят слухи со всех сторон, как уже ее величеству отсюда много раз было сообщено, и я считаю нужным еще повторить, чтоб ее величество обратила должное внимание на эти слухи». Кантемир отвечал, что он получил от своего двора доказательство ложности всех этих слухов. Извещая об этом разговоре, Кантемир писал: «Прежние поступки здешнего двора не позволяют мне допустить, чтоб подаваемые отсюда известия о предстоящей революции в России происходили от здешнего доброго расположения к вашему величеству. Известно, каковы были всегда здешние происки против наших интересов при Порте: в Швеции и других местах по смерти кардинала Флёри злоба здешняя прекратилась бы, если бы ваше величество совершенно предались в здешние руки, как тогда, и надежду имели; но теперь нельзя ожидать никаких знаков здешней благосклонности, когда здесь почти уверены, что Россия к будущей весне присоединит свое войско к войску союзников королевы венгерской; следовательно, здешние сообщения о революции делаются или для того, чтоб, заставив ваше величество заботиться о внутренней тишине государства, отнять у вас охоту присоединиться к союзникам королевы венгерской, или отвратить от себя всякое подозрение, в случае если б действительно в России произошла какая-нибудь смута».
Донесения Кантемира служили твердою опорою для Бестужева, который прямо представлял императрице, что на французские отношения надобно смотреть на основании донесений Кантемира: он один может доставлять верные сведения, а никак не петербургские советники императрицы, которые издалека не могут иметь ясного понятия о делах. Бестужев намекал на Лестока и Брюммера, к которым, естественно, примыкал и Дальон, пользовавшийся по старой памяти расположением императрицы. В начале июля Дальон доносил своему правительству следующее: «29 июня был бал, на котором ее величество мне рассказывала, что она, гуляя накануне в своем саду, встретила гвардейского солдата, который подошел к ней со слезами на глазах и объявил, что разглашается, будто бы она своих верных подданных хочет оставить и уступить корону племяннику своему. Я, говорила Елисавета, никогда в таком удивлении не была и сказала солдату, что это совершенная ложь и позволяю ему каждого, который станет то же говорить, застрелить, хотя бы то и фельдмаршал был. Она рассказывала это и г. Брюммеру, который ей представил, что подобные разглашения имеют одну цель – возбудить несогласие между нею и великим князем; из этого видно, как нужно приставить к молодому принцу таких людей, на которых она могла бы совершенно положиться. А я ей сказал, что этот слух носится уже недели с три».
Дальон хвалился своему правительству, что он вместе с Брюммером и Лестоком имел важное влияние на решение шведских дел, невзирая на кредит Бестужевых и интриги английского посланника Вейча. «Мы все проекты о супружестве между епископом Любским и английскою принцессою опровергаем. Господа Брюммер и Лесток мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтоб он не думал более об этом браке. Оба по моему наущению и собственным выгодам удвояют усилия, чтоб низвергнуть Бестужевых; они с нетерпением ожидают возвращения уполномоченных из Абова, которые должны открыть довольно тайн и неправильных поступков; намерение Брюммера и Лестока состоит в том чтоб по низвержении Бестужевых поручить заведование иностранными делами генералу Румянцеву, господину Нарышкину, который уже сюда едет, и князю Кантемиру, которого возвратят из Франции». Действительно, камергер Семен Нарышкин, посланник в Лондоне, был отозван оттуда; но Кантемира, страдавшего смертельною болезнью, возвратить не успели. Уведомляя свой двор об уменьшении кредита обер-гофмаршала Мих. Петр. Бестужева, Дальон писал: «Кредит гофмаршала, правда, много упал, но он опять поднимется; это такой человек, которого поневоле надобно будет чрез неприятелей его погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру». В половине августа Дальон доносил: «Царица имеет твердое намерение поддерживать в Швеции принца Голштинского, хотя нет таких способов, каких бы вице-канцлер тайно не употреблял, чтоб удержать ее от серьезного вмешательства в дело, но голос его и шайки его уже очень слаб теперь. В случае перемены в министерстве генерал Румянцев будет иметь большое участие в новых распоряжениях, и хотя он сам по себе не склонен к французам, но можно обнадежиться его женою, интриганкою и очень ловкою госпожою. Вейч уже начинает за ней ухаживать».









































