Текст книги "Введение в эстетику"
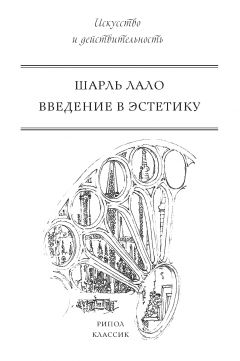
Автор книги: Шарль Лало
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава вторая. «Анэстетическая» красота природы
Какой смысл должен вкладывать эстетик в это столь неопределенное слово «природа», понимание которого глубоко различно у ученого, религиозного человека, человека практики, художника и даже у живописца, поэта или музыканта?
Может быть, очень вразумительное определение примирило бы почти все эти различные точки зрения. Субъективно, природа есть пассивная способность восприятия или переживания данных состояний, в противоположность активному характеру нашего воображения, нашей воли и мышления; объективно же природа – совокупность космических тел, в противоположность нашей личности[39]39
См. Broder Christiansen, Philosophie der Kunst, Hanau, 1909, стр. 251 и след. Есть русск. пер. Бродер Христиансен, Философия искусства. СПб., 1911. Изд. «Шиповник».
[Закрыть].
Можно ли этому космосу – иногда гармоничному, чаще же хаотичному, во всяком случай крайне сложному по своему строению – приписывать, как целому, собственную красоту, так сказать, присущую ему по самой его природе, – то, что называется natura naturans у мистиков, natura naturata у реалистов, говоря языком Спинозы?
Один из видов мистического или реалистического натурализма, неведомый большинству прежних поколений и весьма распространенный у нас со времени Руссо, с эпохи романтизма и в особенности реализма, на самом деле утверждает, что в природе все прекрасно: прекрасна глубокая духовная жизнь природы, всюду открываемая путем непосредственной интуиции, говорят мистики; прекрасна всякая внешняя оболочка вещей, в особенности, быть может, чувственно воспринимаемая внешность вещей, говорят реалисты.
И в обоих случаях вывод будет один и тот же: когда говорят об искусстве, то, главным образом, с целью различать степени красоты и безобразия; но о природе говорят, отказываясь от всяких различений, даже между нормою и уклонением от нее, здоровьем и болезнью: в природе все стоит на одном уровне, все прекрасно, ибо все в ней живет, всякое же проявление жизни само по себе прекрасно, раз только оно чувствуется, более того, как только его переживают. Такова идея, под различными наименованиями исповедуемая всеми мистически настроенными эстетиками, начиная с Плотина и кончая Новалисом, Эмерсоном или Метерлинком, или столь далеким от мистицизма Золя.
Могучий натурализм Рёскина растворяет в себе оба столь враждебных на вид направления – реализм и мистицизм; правда, у него получается скорее некоторый механический агрегат, чем действительно законченный синтез, притом с тем оттенком, который столь же характерен для английской манеры мыслить и чувствовать, как гегельянство – для немецкой.
Увлекаемый как бы помимо своей воли той же иллюзией, что и Тэн, Рёскин, столь враждебный в общем духу и приемам современной науки, тем не менее признает, что нужно быть физиком и метеорологом для того, чтобы испытывать эстетическое наслаждение от неба на пейзаже Тернера, и геологом для того, чтобы чувствовать истинную красоту скалы или горы, ибо красота эта отчасти коренится в мудрости законов природы, обусловливающих и геологические перевороты, и медленную эволюцию космических сил.
Среди «семи светильников[40]40
Искусство захватывает всю сферу человеческой деятельности. Но сообразно с целью оно видоизменяет свои формы. Рёскин указывает семь таких форм, или направлений, на примере архитектуры: the lamp of sacrifice of truth, of power, of beauty, of life, of memory, of obedience. «Светильниками» эти формы называет Рёскин потому, что они не только предостерегают от всяких ошибок, но и служат художественным критерием: «…and since, if truly stated, they must necessarily be not only safeguards against every form of error, but sources of every measure of success, I do not think that и claim too much for them in calling them the Lamps of Architecture…» По изд. 1899 г. London, стр. 5–6. Примеч. ред.
[Закрыть] архитектуры» есть «светильник мощи»: этот принцип выражает живую власть и величие могущественной природы. Благоговение к мощи природы Рёскин простирает до самого сомнительного суеверия. «Архитектор, подобно живописцу, не должен жить в городе. Пусть удалится он в горы; пусть там научится он понимать, что выражает природа в подпружной арке, что в готическом соборе. В могуществе прежней архитектуры имелось нечто такое, что было гораздо больше от отшельника, чем от горожанина».
Принцип, или «светильник красоты», выражает в еще более чистой форме этот последовательный натурализм. Художник, настойчиво повторяет Рёскин, должен «сказать правду, всю правду». Всякий выбор, даже разумный, ему запрещен как святотатство. «Пусть юный художник не доверяет своему чутью выбора; чутье, выбирая, по меньшей мере заносчиво, обычно же это пошлое и тривиальное чутье, препятствующее всякому движению вперед и ослабляющее творческую мощь, поощряющее слабости, льстящее духу партийности… Кто не хочет зарисовывать безразлично, что придется, тот не нарисует ничего хорошего. Если хороший живописец отказывается от изображения природы, то из сознания своей слабости, а не из гордого сознания превосходства; если он останавливается в своем творчестве, то потому, что он уже пресыщен, а не потому, что находит неприятным то, что дает ему природа. Я знал человека, обладавшего очень тонким вкусом, в течение четверти часа созерцавшего маленькие каналы, образованные дождем в куче пепла… Совершенное искусство воспринимает и отражает природу целиком. Несовершенное искусство, горделиво взирающее на природу, отбрасывает или предпочитает»[41]41
Цитир. у Сизеранна, Религия красоты.
[Закрыть]
Не пуризм и не сенсуализм, а натурализм – такой боевой клич школы. (Ибо, вопреки ясно выраженному желанию Рёскина, существуют «рёскинисты».) В вечной жатве человечества, «пуристы берут хорошую муку, а сенсуалисты – шелуху и солому. Что же касается натуралистов, то они все себе забирают: из муки они делают себе пироги, а из соломы – свои постели»[42]42
J. Ruskin. The stones of Veeηiсe.
[Закрыть].
«Искусство, это – обожание». Но истина еще выше чувства. «Любовь к прекрасному, выраженная живописцем, – вот что создает величие искусства, при условии, что этой любви не приносится в жертву малейшая частица истины». Вычеркнем даже это слово «любви. «Величайшее, что дух человечески может совершать в этом мире, это – наблюдать и самым простым образом пересказывать все то, что он видел».
Всякая красота, по-видимому, растворяется при этом в красоте природы – и, что еще опаснее, в природе, взятой целиком, без всякого различения степеней ценности. Все находится во всем, за исключением ясности в мыслях. Тем не менее Рёскин соблаговолил все-таки дать определение такого понимания красоты в природе, определение, в котором весьма любопытным образом смешаны d l'anglaise эмпиризм и мистицизм: по Рёскину, красота какой-либо вещи возрастает, с одной стороны, соответственно с тем, насколько часто встречается она в природе, если не абсолютно, то, по крайней мере, в нашем опыте, критерий крайнего эмпиризма, согласно которому красота сводилась бы к индуктивному умозаключению; с другой стороны, явная нелепость такой статистики в применении к искусству, столь противоречащей аристократическому духу самого Рёскина, получает противовес в учении о степени мистического совершенства, присущего будто бы всякой вещи.
«Все красивые линии заимствованы искусством из наиболее распространенных во внешней природе линий». «Романская дуга красива, как абстрактная линия. Но прообраз ее мы всегда имеем пред глазами в видимом небесном своде и горизонте земли». Почему гармоничны в своем причудливом разнообразии семь неодинаковых папертей церкви Св. Марка в Венеции? Потому, что неравенство их, кажущееся произвольным, совершенно точно отвечает неравенству каштановых листьев: семь листиков каштанового дерева неодинаково разделяют между собою один и тот же жизненный порыв, сила которого сосредоточена в центре и теряется по направлению к кончикам листьев, но всюду обладает одинаковым ритмом. Хрупкая же это красота, и основа ее отнюдь не прочна, в особенности если принять, кроме того, во внимание, что для создания подобной великолепной аналогии нужно прибегнуть к маленькой хитрости и считать за паперти два полных свода, украшающих края этого фасада. Но что за важность, если ценою этого достигается победа натурализма! Разве он не выше фактов?
Греческий аканф, готический трилистник, стрельчатый свод – все это лишь подражания листьям. «Все красивые формы и красивые мысли извлечены непосредственно из естественных предметов. Наоборот, «все формы, не извлеченные из вещей природы, по необходимости будут безобразны».
Тем не менее это случайный, а не существенный критерий, «ибо формы не потому красивы, что скопированы с натуры, это необходимое, но не достаточное условие»[43]43
Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, впервые в 1849 году.
[Закрыть].
Действительно, в мышлении Рёскина мистический и эмпирически принципы сочетаются друг с другом совершенно нераздельным образом.
«Я думаю, что я близок к истине, рассматривая наиболее часто встречающиеся формы как наиболее естественные или, по крайней мере, полагая, что Бог придал формам, часто встречающимся в этом мире человеческому глазу, тот характер красоты, который, в силу воли Всевышнего, человеку от природы свойственно любить. Таким образом, мы можем, я думаю, заключать от Многократного к Прекрасному и vice versa. Как только известная вещь начинает часто встречаться нам, мы можем считать ее прекрасной и рассматривать как наиболее прекрасную наиболее часто повторяющуюся вещь; под этим я понимаю, само собою разумеется, повторяющуюся для нашего глаза… А под повторяемостью я понимаю ту ограниченную и изолированную многократность, которая характерна для всякого совершенства, а не простое множество; совершенно так, как роза является обычным цветком, хотя на кусте нет столько роз, сколько имеется листьев. В этом отношении природа экономна в своей высшей красоте и расточительна в менее красивых вещах; я считаю, что цветы встречаются столь же часто, как и листья, ибо всюду, где бывает одно, встречается и другое, каждое в предопределенной ему пропорции».
Следовательно, такие украшения, как «grecque»[44]44
Орнамент из линий, переломленных под прямым углом и симметрически вплетенных друг в друга. Иногда слова «qrecqne» употребляется в значении меандра, однако неправильно. – Примеч. ред.
[Закрыть] и «guilloches»[45]45
Орнамент, составленный из симметричных линий, прямых или кривых, пересекающихся или параллельных, врезанных в поверхность (en creux). Делается особым инструментом, называемым tour ä quillocher или же с помощью электрического аппарата. – Примеч. ред.
[Закрыть], нужно отнести к числу «затрат на обезображение», ибо в природе они встречаются крайне редко, именно в постепенно охлажденных кристаллах чистого висмута! «По этой причине я утверждаю, что украшение это безобразно и в буквальном смысле слова чудовищно».
Наоборот, «овал» красив; его прототипом служит яйцо или, точнее, речной голыш, который обычно бывает, подобно овалу, приплюснут сверху. Тоже можно сказать о некоторых геометрических орнаментах, обычных в готических храмах Ломбардии: они напоминают обычные и естественные формы кристалликов, похожи на окись железа в естественном состоянии, на окись меди и олова, на серный колчедан, свинцовый блеск (графит), плавиковый шпат и т. п.; поэтому мы уверены, что они прекрасны, серьезно добавляет Рёскин.
В силу того же принципа осуждены гирлянды, перевязи исключительно декоративного характера, изваянные короны, чисто декоративные драпировки, подобные тем, которыми злоупотребляли братья Карраччи: создания чисто человеческого творчества могут быть только безобразными[46]46
J.Ruskin. The Seven Lamps of Architecture.
[Закрыть].
Как далеки мы во всем этом от беспристрастной установки эстетических явлений и их эволюции. С одной стороны, все в природе прекрасно, и выбор в ней воспрещен. С другой, целые эпохи и целые школы, оказывается, были чужды всякой идее прекрасного! Из этого видно, до какой исключительной предвзятости может довести даже обладающего большими познаниями и тонким вкусом критика слепое идолопоклонство перед природой.
Благодаря крайней неопределенности своих принципов натурализм обрекает себя, – когда он наконец вынужден бывает формулировать критерий ценности – на произвольный выбор. Проникнутый научным духом у Тэна, натурализм предлагает классификации в духе Линнея и по «преобладающему характеру», что ничего общего с искусством не имеет; носящий более эстетическую и моральную окраску натурализм Рёскина приводит к странным заключениям, вроде следующего: «Семена и плоды созданы для того, чтобы были цветы, а не цветы для того, чтобы были семена и плоды»[47]47
J. Ruskin. Proserpina.
[Закрыть].
Это равносильно принципиальному провозглашению следующего определения: «Я называю природой и естественным все то, что на самом деле является излюбленною натурою художников, и все те формы искусства, которые я лично предпочитаю. Я называю искусственными, неестественными все творения, принадлежащие школам и лицам, которые мне не нравятся».
Когда подобная эстетика логически последовательно проводит свои принципы, она совершенно отказывается делать выбор в живой действительности. Этот вывод ясно выражен в «эстетическом витализме» Гюйо и Габриэля Сеайля или в мистицизме Метерлинка и Бергсона. Этот крайний натурализм особенно подходит к современной немецкой сентименталистической школе, для которой всякая красота заключается в «символической симпатии», в общении существ через аффективную жизнь, в отождествлении воспринимающего субъекта с воспринимаемым объектом, в непереводимом Einfühlung[48]48
По-русски поддается переводу: вчувствование. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Если такова на самом деле сущность прекрасного, то нет более надобности различать вещи в природе или даже так или иначе истолковывать ее, чтобы находить в ней объекты эстетического созерцания: все, что только выражает глубокое чувство, становится прекрасным, хотя бы само по себе было безобразным, – это чувство и есть сущность красоты. Достаточно, чтобы известное существо было правдивым, чтобы оно было глубоко самим собою, т. е. чтобы оно сообщало нам чувство интенсивной жизни: жизнь, разлитая во всей природе, сама по себе прекрасна. В этом смысле можно буквально сказать, что природа не знает безобразия.
Есть нечто более прекрасное, чем созерцание картин счастливой жизни: сама жизнь. Есть, равным образом, нечто более прекрасное, чем искусство: это – природа, вся природа.
Юлий Шульц от имени этой школы считает возможным принципиально утверждать, что «несравненно сильнейшее эстетическое наслаждение, по крайней мере для стоящего на уровне современной культуры германца, заключается в наслаждении, доставляемом ему свободной природой». Лишь экстаз, в который приводит нас музыка, в состоянии, по его мнению, выдержать сравнение с этим глубоким впечатлением, по крайней мере, у некоторых людей, так как на самом себе автор этого не замечает. Но если сущность произведений искусства заключается в том, чтобы превосходить друг друга по совершенству, то сущность природы, наоборот, в том, чтобы восхищать нас помимо всяких различений и оттенков ценности; как только мы начинаем различать явления природы по степени совершенства, как только мы вмешиваемся со своим суждением, прелесть ее нарушается, непосредственное созерцание исчезает.
Природа так хороша сама по себе, что ее имманентная красота допускает одно лишь существенное условие: чтобы никакое человеческое вмешательство не нарушило ее первоначального состояния.
Фехнер пытался показать, что тончайшая полоска дыма, едва мерцающий свет в окне, скромный уголок крыши, просвечивающий на фоне природной зелени или среди пустынной местности, сейчас же делают их гораздо более поэтичными. В другом смысле он даже говорит, что именно положительное чувство чего-то недостающего, желание непременно видеть следы человеческого жилья и грусть о том, что их нет, сообщают своеобразный живописный колорит песчаному берегу или мрачной пустыне, и, по своей привычке физика, он возвел это в «закон». Сам Рёскин, в своем утонченном оптимизме, признал, что геометрически правильные межи наших обработанных полей не только не вредят полевым пейзажам, но, наоборот, самой своей правильностью создают для нашего глаза восхитительный контраст с мягкой кривой линией холмов и необходимы для полной их гармонии.
Шульц настроен более мизантропически: по его мнению, мост всегда портит вид долины, самый красивый замок, воздвигнутый хотя бы величайшим архитектором Европы, по Шульцу, оскорбляет своим присутствием альпийский ландшафт. Всякое искусственное предприятие человека по отношению к природе – эстетическое святотатство. Если человек побеждает природу, то вине его нет искупления. Если же побежден человек, то Шульц его охотно прощает; так, например, руины на фоне зелени он допускает. Если, наконец, человек окончательно подчинен своей сопернице, то это служит новым мотивом для смирения: ветхая, покрытая мхом хижина в лесу не производит впечатления постороннего пятна, если она сливается с лесом.
Наконец, пред лицом девственной природы «стоящий на уровне современной культуры германец», кажется, чувствует себя всецело в своей жизненной стихии. Ничто больше не оскорбляет его эстетическое чувство, все прекрасно, ибо прекрасно самое чувство жизни и природы, безразлично, каковы они сами по себе. Выращенное в горшке растение может быть до известной степени красивым по своим контурам или краскам; пересаженное же в свою естественную среду, оно абсолютно прекрасно уже тем самым, что оно произрастает; оно не может не быть прекрасным, каковы бы ни были его формы и краски. Если никто еще не написал «Эстетики растительного царства», то не кроется ли причина этого в том, что здесь всякое различение ценностей было бы незаконным?
Красота животных равным образом не знает степеней. Гиппопотам в клетке зоологического сада, пожалуй, безобразен, как огромнейшая свинья пред громадным корытом. Но когда он плывет среди папирусов по Нилу, он – то, чем должен быть, он красив. Шульц отказывается судить о красоте даже обезьян, внушающих ему пока лишь отвращение, так как он еще не видел их на свободе в каком-либо тропическом лесу.
То же можно сказать и о пейзажах: скучная степь, однообразная пустыня, тучная равнина или незначительный холм столь же совершенны в своей красоте, и красота их того же порядка – лишь бы она не была искусственной – что красота гор, водопадов, утесов, озер и наиболее прославленных видов. Enifühlung (вчувствование), универсальная «символическая симпатия» стирает всякое различие в степени, неизбежно возводит всякую природу в прекрасное. Прекрасное в природе, в противоположность искусству, лишено степеней сравнения[49]49
J. Schultz. Naturschönheitund Kunstschönheit. Zeitschrift für Aeathetikund allgemeine Kunstwissenschaft, herausgegeben von M. Dessoir, 1911,5, выпуск 2, стр. 213 и след.
[Закрыть].
Картина или световой блик, симфония или естественный нестройный шум представляют собой, вообще говоря, массу вибраций, воздействующих на наши органы чувств, и ничего более. Эти материальные элементы искусства, очевидно, находятся в природе. Но произведений человеческого искусства в ней нет. Все вибрации находятся в природе и с точки зрения занимающего нас нивелирующего пантеизма все они находятся там на одинаковом основании. Отчего же не сказать в таком случае, что все вибрации одинаково прекрасны – нестройный шум наравне с гармонией, ласкающий взор оттенок или изысканный контраст наравне с режущими глаз красками или беспорядочным их смешением?
Все ведь одинаково находится «в природе», и лишь в виде парадокса можно сказать, что порядок чаще осуществляется в ней, чем хаос; так что, вопреки Рёскину, принцип многократности в конце концов возымел бы действие нелепого и безобразного! Уничтожая в великом все понятие о степенях, об иерархии ценностей, тем самым уничтожают самую идею красоты, ибо красота не что иное, как обширная система отношений.
Что такое красота вне ценности? Что такое красота, не являющаяся относительной в сравнении со всякой другой красотой, которая не превосходила бы другую красоту или не уступала ей? Такое понимание красоты выходит за предел эстетики. Ибо красота – как в искусстве, так и в природе – не есть нечто пассивно нами воспринимаемое, данное, приходящее извне, не факт, находящийся на одинаковой со многими другими фактами плоскости, но суждение о ценности, акт личного утверждения.
В самом деле, что представляет собою это благоговейное чувство, которое охватывает «современного германца» при созерцании сельского пейзажа, каков бы он ни был сам по себе? Это – довольство самим собою, довольство, начиная с физического удовольствия, даваемого более свободным дыханием в более насыщенной кислородом среде; с наполовину физического чувства отдыха, испытываемого бюрократом в отпуске; с немножко ребяческого чувства свободы, которое переживает культурный человек, забывая на миг условности общественной жизни, вплоть до пантеистического экстаза аскета в молитвенном преклонении перед своим крестом или до чувства пантеистического слияния с природой ботаника, бродящего по полям со своей коробкой для собирания коллекции. Но с эстетикой все это имеет очень мало общего. Все это нужно рассматривать с утилитарной, гигиенической, научной, религиозной точек зрения и лишь совсем побочным образом – с эстетической.
Симпатизировать – это значить путем механического процесса вибрировать в унисон: человек, который более или менее символически или реально симпатизирует другому существу, не считает его из-за этого более эстетичным, подобно тому как звучащая струна, колеблющаяся в силу воздействия на нее в унисон с другой, не считает последнюю прекрасной. Свободно дышать, обладать хорошим пищеварением, покойно отдыхать, несомненно, приятно и весьма полезно, но в этом нет ничего ни прекрасного, ни безобразного: все это «анэстетично». То, что со времен Руссо называют «чувством природы», не совпадает необходимым образом с «чувством красоты в природе». Смешение – впрочем, обычное – этих двух чувствований напоминает тот поверхностный анализ любви, который неизменно сводит любовь к чувству красоты предмета любви; тогда как любовь бесконечно сложнее, и чувство этой красоты не всегда входит в число существенных ее элементов, ибо, в силу избирательного сродства, и некрасивый человек, несмотря на свое безобразие, может внушить большую любовь, чем красивый.
Впрочем, один факт – но универсальный и бесспорный факт достаточен для того, чтобы подорвать этот прямолинейный натурализм: наличность двух по крайней мере искусств, не задающихся целью воспроизведения природы. Первоначальное подражание модуляциям голоса при аффективных восклицаниях в музыке или воспроизведение сводов и естественных подпорок пещер и лесов в архитектуре представляют собою настолько второстепенные элементы этих искусств, что, если даже они реальны, истинно художественное развитие совершалось на деле вне их, ибо развитие искусства именно в том и заключалось, чтобы удаляться от этих элементов.
Возьмем в пример архитектуру. Мы уже познакомились с велеречивыми ребяческими выпадами Рёскина. И это заблуждение не только одного Рёскина: вот стих из эпиграфии, сочиненной одним художником для себя самого: «Pour maitre danssoon art il n'eut que la Nature»[50]50
«Его учителем в искусстве была лишь природа». – Примеч. ред.
[Закрыть].
О ком идет речь? Можно назвать тысячи имен… Хотя бы о Суффло![51]51
Soufflot, Jacques-Germain, архитектор, род. 1709 (?) или 1713 (?) – 1780, главный строитель церкви Св. Женевьевы (теперь Пантеон) в Париже. – Примеч. ред.
[Закрыть] Возьмите парижский Пантеон и поищите его модель в природе. Виктор Гюго говорил, что ее можно найти у кондитеров в форме савойского пирога. Но если оставить в стороне подобные насмешки, то модель эту нужно искать в истории архитектуры, где вы найдете развеянными все существенные элементы Пантеона, каждый со своей хронологической датой. Модель эта кроется в постепенной эволюции архитектуры, отразившейся в известный момент в художественном сознании более или менее вдохновенного зодчего.
Лишь в искусстве нужно искать объяснение красоты в искусстве.
Возьмем в пример музыку. Но более всего походит на естественный язык, только с большими интервалами между звуками, речитатив, как учит Спенсер, вновь выставляя эмпирически тезис Лукреция и XVIII в. Но речитатив – порождение сравнительно недавнего времени: начало его восходит к положенной на ноты декламации первых создателей оперы или к стилизации старинных ритуальных или, быть может, магических формул в религиозном псалмопении.
Обратимся, однако, к рассмотрению самих фактов: нелепо ведь, в самом деле, задаваться вопросом, прекрасны модуляции и гармония Пасторальной симфонии или контуры Партенона вне искусства, если принять во внимание, что вне искусства что-либо подобное можно найти разве лишь с помощью чистой сплошной метафоры.
Эти два исключения настолько важны, что уже их достаточно было бы для решения вопроса. Надо остерегаться критиков и теоретиков, обычно ли-тераторов по своему воспитанию, привыкших главным образом к описательному искусству. Если бы наши великие музыканты писали не на нотной бумаге, а великие архитекторы не на чертежной, мы располагали бы, быть может, менее натуралистической и не столь поспешною на проповедь «истины» и «подражания природе» теорией искусства. Правда, наши художники пишут мало, и хорошо, что мало, ибо стоить им взять перо в руки, и они непременно начинают мыслить, как литераторы, даже они! Совершенно так же поступают женщины, пишущие о психологии женщины: в силу инстинкта подражания и из-за потребности уподобиться мужчинам, они и женщину стремятся представить себе с мужской точки зрения.
Мало того, даже в подражательных по самой природе своей искусствах, в живописи или, еще чаще, в литературе, подражание отнюдь не носит абсолютного характера. Сведущие в технике искусства исследователи[52]52
Напр., Гельмгольц, Статьи и речи.
[Закрыть] неоднократно указывали на то, что этого не может и не должно быть. Достаточно вспомнить хотя бы следующий факт: в природе скромный свет свечи в 1500 раз светлее непрозрачной тени; на полотне же яркость белил лишь в 100 раз интенсивнее своей противоположности ясности – голландской сажи. Психофизический закон Фехнера, позволяющие отождествлять равные отношения между ощущениями самой различной интенсивности, не допускает таких отклонений и, следовательно, не применим в данном случае.
Обратим еще внимание хотя бы на то, что перспектива известной картины, если ее строго отметить, будет правильной лишь для одной определенной точки в пространстве, с которой и нужно было бы всегда смотреть на эту картину; звуки оркестра отнюдь не позаимствованы из естественных шумов даже тогда – и особенно тогда, – когда это и можно было бы сделать. Вспомним, наконец, что естественный язык вполне естествен лишь тогда, когда он совершенно свободен от пут какого-либо определенного ритма, от всякого размера и ритма – этих первых условий поэзии.
Но в то же время мы замечаем, что эту искусственность, эту условность искусство возвело в положительный закон своей техники и отнюдь не склонно отказываться от них; искусство далеко, например, от того, чтобы отказываться от искусственного освещения, иллюзорной перспективы или подражательных звуков, – тогда оно перестало бы быть искусством. «С природой, лишенной всякого стиля, искусству нечего делать», – говорит Ницше.
Если бы, следовательно, искусство имело значение лишь более долговечного, чем вещи в природе, но в то же время возможно более точного воспроизведения природы, оно стояло бы много ниже природы, превосходя ее единственно долговечностью своих творений, если, конечно, долговечность пирамиды или склепа может сравниваться с долговечностью грота или горы, не говоря уже о многочисленных художественных произведениях, которые, в силу хрупкости материала, требуемого техникой искусства, обречены на жалкое мимолетное существование. Нет ничего более убогого, чем такое учение: искусство само по себе обладает внутреннею ценностью.
Что касается литературы, то она занимает промежуточное место: она не подражает, а внушает. Все ее художественное значение заключается в этом внушении, а не в природе ее объектов, хотя таковыми могут быть, впрочем, эмоции, чувствования, фикции, личные идеи, «реальность» которых во внешнем мире была бы бессмыслицей. Зато она располагает для этого внушения двумя мощными средствами, универсальными для всей области литературы, но особенно ясно выступающими в поэзии.
Первым средством являются ритмические или музыкальные элементы: размер и движение, акцент, или интенсивность, и даже самый звук, т. е. богатство слогов и созвучании, почти все формы симметрии – или, в более широком смысле, звуковой гармонии.
Другое средство – живой хоровод ассоциаций идей, образов или личных переживаний, который влечет, за собою каждое слово и в особенности каждый ряд слов. В этом втором виде внушения кроется причина того, что мы так легко придаем «поэтический» характер всему тому, что как бы зовет к себе, что живописно, грациозно, грустно, располагает к мечтам, т. е. всякой частице искусства или всякому уголку природы, в которые мы можем вложить нечто свое, нечто по самой природе своей отличное от того, что имеется в действительности.
Какую роль играют в этих двух элементах «истина», «природа»? Что же это за натурализм, который усматривает ценность искусства исключительно в том, что человек добавляет к природе от себя?! Чтобы убедиться в этом, перечитайте любимые ваши поэмы Мюссе, Гюго, Леконта де Лиля, Верлена и попытайтесь без всякого предвзятого мнения выделить то, что в истинной поэзии приходится на долю природы и что привнесено в нее человеком!
Нельзя, однако, сомневаться в том, что в глазах некоторых людей и, в особенности, с точки зрения некоторых школ грубая природа приобретает иногда истинную красоту. Но эта красота является в таком случае лишь отражением художественной красоты, антропоморфическим переводом с одного языка на другой. Художник или любитель искусства рассматривает тогда природу как потенциальное произведение искусства или даже как собственное свое произведение, прекрасное совершенно в той мере, в какой его личные способности позволяют ему воспринимать ее, – иначе говоря, для него лично абсолютно прекрасное. В этом смысле легко допустить, что нищий оборванец так же прекрасен в действительности, как на картине Мурильо, и что какой-нибудь тупица будет так же восхищать нас в жизни, как тогда, когда он, под пером Флобера, называется Омэ или Бувар (Homais, Bouvard). Происходит это потому, что мы рассматриваем их, поскольку это в наших силах, в преломлении чрез взор Мурильо или сознание Флобера. После отождествления красоты с природой в пользу последней наступает пора обратного отождествления в пользу первой.
Когда романисты, обладающее проникновенной интуицией, задаются целью противопоставить эстетическое чувство природы чувству природы просто, то они законно противопоставляют грубый инстинкт, животный, анэстетический, человеческому искусству, социальному, сложившемуся в известную технику.
«Сейлак, – говорят Рони, – не видел природы, но, как звери, его предки, он ее сильно чувствовал: ее не было ни в дрожащем цветке, ни в водах, ни в свежей траве; она жила в его груди, воинственная и злобно любящая… Его подруга, истинная дщерь города, наоборот, была создана для того, чтобы любить красоты вечных вещей… Это было для нее делом, работой, тысячью волшебно совершенных вещей, тканями, кружевами, вырезками, вышивками… Насекомые казались ей изумительной крохотной игрушкой, геммою, живою ювелирной вещицей; цветок точно вышел из рук удивительного миниатюриста; клочок зелени казался точно вырезанным тонкими ножницами»[53]53
J.-H. Rosny. Sous le Fardeau, 1905, стр. 135.
[Закрыть].
Известно, что этот непрестанный перевод с одного языка на другой свойствен всем современным эстетикам. В этом именно смысле говорит, например, Бодлер: «Художник становится художником лишь благодаря своему изысканному чувству прекрасного, которое доставляет ему упоительные наслаждения, но в то же время предполагает и одинаково утонченное чувство всякой бесформенности и всякой непропорциональности».
Итак, это новое учение о красоте в природе или «анэстетично», или же эстетично лишь косвенным образом, путем скрытого заимствования у искусства. В этом точном смысле чувство природы будет или чувством филистера, или чувством эстета – редко или побочно чувством художника.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































