Текст книги "Введение в эстетику"
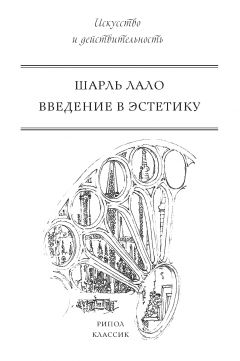
Автор книги: Шарль Лало
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава третья. Истинные проблемы методологии эстетики
Ложные проблемы эстетического метода погрешают в двояком отношении.
Прежде всего, они имеют тенденцию запутать нас в искусственно созданных дилеммах, члены которых не только не исключают друг друга, но, наоборот, легко примиряются и даже оказывают друг другу взаимную поддержку. Задаваться такими вопросами – как, например, должен ли метод эстетики быть принципиальным или конкретным, психологическим или объективным, метафизическим или позитивным, основанным на гипотезах, внушенных фактами, или проверяющим их? – значит направлять исследование по ложным путям: как всякое познание, метод эстетического исследования должен быть последовательно и тем и другим.
Синтеза всех этих специальных точек зрения в той мере, в какой он возможен в каждый данный момент эволюции, требует не беспринципный эклектизм, но, наоборот, систематический рационализм.
С другой стороны, эти ложные проблемы заставляют переносить вопрос на такие свойства научного исследования, которые общи всем наукам, в частности всем моральным наукам, и отнюдь не составляют исключительного достояния эстетики. Мы не знаем таких объектов нашего познания, которые не были бы в состоянии или не должны были бы внушать нам – помимо разрешимых задач – неподлежащие проверке гипотезы; которые не подлежали бы последовательно наблюдению, экспериментальному исследованию и, наконец, дедуктивному применению, хотя бы в проблематической форме; которых нельзя бы было и которых не следовало бы рассматривать одновременно по частям и в целом. Тот из эстетиков, для которого «осада еще не окончена»[21]21
Собственно: «Mon siege est fait» – поговорка, первоначально слова французского историка Vertot (1655–1735).
Верто написал историю осады Родоса. Впоследствии ему указали на источники, доказывающие, что его описание неверно. На это Верто ответил: «Моя осада уже окончена», т. е. совет запоздал. – Примеч. ред.
[Закрыть], должен решиться на атаку предмета последовательно по всем пунктам, прежде чем остановиться на том пункте, который покажется ему наиболее слабым в данный момент или, по крайней мере, сопротивление которого более соответствует его наличным силам.
Введение в серьезный трактат по медицине, имеющее целью установить ее метод, не толкует ни о метафизике, ни об опытном исследовании, разве если оно относится к героическим временам догматиков и эмпириков, временам Галена и Секста Эмпирика; оно не говорит даже о законности эксперимента в физиологии, разве если оно относится опять-таки еще к героической эпохе Клода Бернара; такое введение впадает в ошибку, если стремится противопоставить своему предмету, взятому в целом, часть его, например утверждает, подобно Бруссе[22]22
Broussais, Franςois Joseph Victor, 1772–1838. Основное сочинение: Hisioire des phlegmasies inflammations chroniques, fondee sur de nouvelles observations de clinique et d'anatomie pathologique. Paris, 1808. –Примеч. ред.
[Закрыть], что вся патология сводится к изучению воспалительного процесса или, по примеру некоторых слишком усердных последователей Пастера, что антисептика уничтожает всю терапевтику. Тридцать лет назад введение в медицину трактовало о необходимости различия между специфическими и неспецифическими болезнями или о врачебной роли нарождающейся бактериологии, теперь же она будет трактовать, например, об относительном значении отправлений наружного и внутреннего – и специально кишечного – свойства и самопроизвольных реакций организма; оно будет трактовать о явлениях иммунитета, о превосходстве клинической физиологии над анатомией тканей. Словом, введение в медицину не будет говорить о вненаучных методах, о методах слишком общих или слишком частных; оно лишь установит, каковы те господствующие факты и руководящие гипотезы, которые произвели переворот в методах современной медицины и распространены в ней в настоящее время.
Хороший юридический трактат, следующий верному пути, равным образом лишь устанавливает некоторые основные пункты: сравнительное значение юриспруденции и доктрины, буквы закона и намерений законодателя или предварительных дебатов по поводу законопроекта или, наконец, отношение между правом и выводами философской морали и сравнительной социологии. Такова проблема, свойственная праву; от них зависит истинный метод права, ибо он является лишь абстракцией из конкретных случаев.
Наконец, и метод, которому следует эстетик или художественный критик, главным образом зависит от того, как поймут они основную проблему: проблему эстетической ценности. Существует ли она как ценность или как факт? Может ли она быть обобщена или нет? Автономна ли она или гетерономна? Таковы три главные проблемы метода. Других более важных проблем нет, так как нет более характерных для эстетики, чем именно эти. Индуктивным или дедуктивным путем будут обсуждать их, детально или в целом, с помощью метафизических гипотез или фактов, не так важно: все эти приемы общего метода всегда сводятся к трем «моментам», общим всякому экспериментальному исследованию, и бесполезно обсуждать их без конца в их абстрактной форме.
Истинные методы составляют часть самого исследования; они не даны раньше исследования, но вырабатываются наряду с ним, ибо методы неотделимы от исследования, как неотделимо направление движения от самого движения. Научный метод – не что иное, как направление движения, если подразумевать под движением живую науку.
Если отвергнуть бесплодное отрицание, искусственные или плохо поставленные вопросы и такие рассуждения, которые касаются всякого рода исследования, то истинной проблемой метода эстетики является проблема о ценно сти.
Вопрос об эстетической ценности естественным образом распадается на три других вопроса.
Прежде всего, действительно ли существуют в эстетике ценности или же только факты? Иными словами, ограничивается ли эстетическое исследование констатированием и объяснением того, что есть, или оно доходит до обсуждения и оценки с известной точки зрения того, что должно быть, до оценки реального с точки зрения идеального? Короче говоря, должно ли эстетическое исследование быть теоретическим, умозрительным, описательным или же нормативным, руководящим, императивным? Такова проблема ценности в собственном смысле.
Во-вторых, раз допущено, что художественные ценности действительно существуют, то каковы эти ценности: индивидуальны они и субъективны или же безличны и объективны? Являются ли они лишь личными мнениями, всецело зависящими от чувственного восприятия, меняющимися вместе с человеком или даже у одного лица вместе с данным моментом, или же они могут быть продуманными, беспристрастными? Являются ли они коллективными, подлежащими обобщению, подобно тому как большинство научных законов имеет на практике общий характер? Есть ли эстетика – наука об искусстве, по крайней мере в принципе, или же она представляет собою лишь художественное произведение об искусстве? Такова проблема импрессионизма и догматизма.
Наконец, если существуют не только произвольные ценности, то будут ли они специфически художественными ценностями или же их можно установить лишь в отношении к другим, «анэстетическим» ценностям? Автономно ли искусство или же оно зависит от других проявлений человеческого духа и подчинено им? Можно ли судить о прекрасном, не подвергая его научным или моральным критериям, подобно тому, как обычно судят об истине и добре в самих себе, не прибегая к прекрасному? Если эстетические ценности, как всякие ценности, относительны, то относительны ли они главным образом по сравнению друг с другом или же по сравнению с другими данными более внешнего характера? Какого характера эта относительность, внешнего или внутреннего? Имеет ли искусство свою главную цель, свое мерило и свой критерий в себе самом или вне себя? Такова проблема искусства для искусства.
Эти три проблемы должны быть тщательно отделены, несмотря на то что их часто беспорядочно смешивают. Они, только они существенны в методе эстетики, потому что они соответствуют в этой области трем основным элементам всякого экспериментального исследования: фактам внушающим, внушенному закону или внушенной гипотезе и новым фактам, проверяющим.
К каким фактам должен преимущественно обращаться эстетик для того, чтобы они ему внушили наиболее плодотворные гипотезы: к теоретическому констатированию фактов и объяснению их или же к нормативным оценкам? И прежде всего, будет ли при обсуждении прекрасного и безобразного идти речь о красоте в природе или о красоте в искусстве? Такова первая проблема.
Будут ли эти гипотезы общими и объективными законами или же они представляют собою лишь индивидуальные, произвольные и субъективные построения? Такова вторая проблема.
Наконец, какие факты будут настолько хорошо соответствовать этим гипотезам о ценностях, чтобы подтвердить их? Нужно ли искать это подтверждение в самом искусстве для искусства или вне его – в других ли искусствах, в науке ли, морали или даже в метафизике? Такова третья существенная проблема[23]23
Проблема эта будет трактоваться во второй теме этого сочинения: «L' Art et la Vie».
[Закрыть].
Таковы три необходимых «момента» метода эстетики, каждый из которых влечет за собою другой; три необходимых момента всякого метода проявляются таким образом в трех специально эстетических моментах.
От решения этих трех проблем целиком зависит концепция современной эстетики и художественной критики. В самом деле, если эстетика и не сводится целиком к философии художественной критики, то, по крайней мере, все, что есть в ней существенного и положительного, может быть сведено к ней. Все остальное представляет собою лишь приложение или же обобщение этих фактов. Философия художественной критики во всяком случай представляет собою, если перефразировать заглавие известного труда Канта, пролегомены ко всякой будущей эстетике, которая возможна в качестве научной системы.
Вторая часть. Прекрасное в природе и прекрасное в искусстве
Проблему эстетического метода нельзя поставить во всем ее объеме без исследования еще одного нового вопроса. Эстетика – наука о прекрасном; но существует два обширных вида прекрасного: прекрасное в природе и прекрасное в искусстве. По характеру своему они весьма различны, и во всяком случае нужно признать, что они не всегда соответствуют друг другу.
Какой именно из этих двух видов прекрасного должен составить предмет самой эстетики и явиться если не единственным, то, по крайней мере, основным видом прекрасного, по отношению к которому все остальные второстепенны, являясь то его союзниками, то его конкурентами? Понимание эстетики, как «философия художественной критики», зависит от решения, данного этой предварительной проблеме.
Глава первая. Натуралистический монизм в учении о красоте
Наше чувство прекрасного питается двумя источниками: природой и искусством. Важнейшие теоретики эстетики, за немногими исключениями, выводят художественную красоту из красоты в природе. По-видимому, наиболее логичным будет тесно сблизить оба эти вида прекрасного и подчинить их один другому: при всем бесконечном разнообразии форм своих красота едина; одну и ту же эстетическую мысль, одно и то же сознание прекрасного мы вносим в художественное восприятие симфонии или драмы, творений сознательного человеческого духа, и в восхищение красотой небес или грациозным животным, порожденными бесстрастной природой. Неважно, каков данный нашему чувству предмет, – разве деятельность нашего эстетического сознания не одинакова в обоих случаях? И тем не менее природа предшествует искусству и de jure и de facto.
Это утверждение, до пресыщения повторенное во всех видах, кажется очевидным. «Глаз, – говорит Леонардо да Винчи, – получает от прекрасного в живописи то же удовольствие, что и от прекрасного в природе»[24]24
Leonardo da Vinci, Trattato dapittura, § 23.
[Закрыть]. «Художественные произведения, – говорит Кант, – являются искусством в той мере, в какой они кажутся в то же время произведениями природы»[25]25
Кант, Критика способности суждения, § 45.
[Закрыть]. Мнения художников или критиков и здравый опыт публики как будто сходятся в еще более тесном сочетании этих двух видов красоты – прежде всего потому, что мы требуем от обоих видов одинакового на нас воздействия, затем потому, что художественная красота является лишь воспроизведением красоты в природе.
Прежде всего, от обоих родов прекрасного мы требуем одинакового на нас воздействия, иначе говоря, психологические функции, которые они должны выполнить, тождественны. Разница лишь в степени этого воздействия: оно более интенсивно, когда речь идет о красоте в природе, а не о простом подражании ей; разница лишь количественная, и нетрудно догадаться, в какую сторону склоняется чаша весов: очарование заката солнца, написанного Лоррэном или Тернером, качественно не отличается от восхищения закатом солнца на фоне великолепной картины природы, ибо единственная задача обоих художников в том и состоит, чтобы напомнить нам красоты действительного заката. Но насколько богаче зрелище самой природы, насколько оно разнообразнее и ярче. Кто станет сомневаться в том, что Рафаэль испытал бы более глубокое наслаждение от созерцания черт Форнарины, от ее живой и цельной индивидуальности, чем от застывших черт написанного им бездушного портрета? Любовь Ромео и Джульетты в действительности разве не взволновала бы нас еще более, чем на сцене, хотя бы в силу того же симпатического чувства, которое театр пробуждает в нас лишь в слабой степени?
Искусство, говорят еще некоторые, прекрасно лишь в той мере, в какой оно подражает природе, и, наоборот, идет мимо цели в той именно мере, в какой удаляется от нее. При ближайшем рассмотрении ясно, что идеалисты и реалисты вполне согласны с этим старинным принципом, восходящим по крайней мере к Аристотелю и к греческим софистам; они расходятся лишь в способе его интерпретации, т. е. в понимании истинной природы, ибо каждый имеет чисто индивидуальную интуицию «истины», каждый по своему бывает «искренним». Но идеалисты в этом пункте иногда более непримиримы, чем реалисты: в своем неумеренном догматизме они верят, что достигли «истинной» природы, сущности или души вещей, субстрата всякой красоты, тогда как реалисты, больше отдающие себе отчет в относительности своих впечатлений, чисто чувственный характер которых они создают, относятся более критически к самим себе и заявляют меньше претензий на абсолютное. По их мнению, достаточно уметь «видеть» для того, чтобы быть художником; но они признают, что каждый «видит» природу по-своему. Рёскин, сочетающий в себе обе школы, признает, что если умеющих мыслить найдется один на сто, то умеющих видеть не более одного на тысячу.
Послушаем реалиста Золя. «Произведение искусства – говорит он, – всегда остается не чем иным, как уголком природы, видимой сквозь призму темперамента». Итак, он признает индивидуальное истолкование и даже неизбежный индивидуальный выбор между бесчисленными «уголками», предоставляемыми нами природой. «Она видима не иначе, – говорит он в другом месте, – как через известный „экран“; тремя главными экранами будут: классический, романтический и реалистический, все эти экраны уродуют природу»[26]26
Е. Zola. Meshaines, 1873, 2-е изд., 1893, стр. 25; Le roman experimental, 1880, 2-е изд. 1880, стр. 111. – Lettre ä Antony Valabregue 1864; Correspondance: Les lettres et les Arts, стр. 11 и след.
[Закрыть]. Обратимся теперь к идеалисту-живописцу – Лебрену Он «хочет» исправлять при помощи искусства лишь то, «что природа и истина показали ему несовершенного в модели»[27]27
Цитировано у A. Fontaine, La critique d Art, 1903, стр. 127.
[Закрыть]. Итак, даже не индивидуальный темперамент, а природа и истина сами диктуют всякую интерпретацию; следовательно, искусство, собственно говоря, ничто вне природы и истины! Действительно, нет ни одного художника или драматурга, даже среди наиболее идеалистически настроенных, кто – несмотря на все свое благоговейное почтение к классическим образцам – не думал бы искренно, что он «следует природе» и не советовал бы своим ученикам обращаться непосредственно к ней. У приверженцев школы Давида, Делиля[28]28
Delille, Jacques, франц. писатель, поэт, 1738–1813. – Примеч. ред.
[Закрыть] или Буало можно найти сотни подобных заявлений; послушать их, так единственным законом для них является истина, и если античные классики и заслуживают изучения, то единственно потому, что они уже раньше нашли истину и превосходно воплотили ее.
Итак, истинный реалист не может сводить художественное произведение – хотя такой нелепый упрек часто делают реализму – к простой фотографии природы. А для идеалиста чистой воды око будет фотографией, более точной чем наши обычные фотографии: нечто вроде клише, которое дает лишь самые существенные черты, отбрасывая все второстепенные признаки, вместо того чтобы придавать одинаковую ценность и тому и другому, как это делают наши аппараты с их мнимой точностью, в сущности неестественной.
Наиболее расходящиеся между собой теории сходятся в признании этой тождественности красоты в природе и в искусстве; такое согласие, столь необычное среди философов, является, по-видимому, заслуживающей большого внимания презумпцией.
Метафизики полагают, что если всякая красота сводится к интуиции идеи или высшей гармонии трансцендентного разума, явленного нам через чувственный постигаемый мир, то не важно, будет ли это откровение естественным или вызванным нами: в обоих случаях сущность его одна и та же. Самое большое, что требуется, это умение отличать «чисто чувственную» красоту, красоту в природе, от красоты «более чем чувственной», красоты в искусстве; это вопрос степени, а не сущности[29]29
Michal Sobeski, цитир. соч., гл.1.
[Закрыть].
Эмпирики и сенсуалисты полагают, что если красота прежде всего наслаждение, то это такое наслаждение, которое получаем мы от всякого восхищения: восхищение красивым лицом в действительности и восхищение им же на портрете отличается лишь по степени, сущность же и законы их остаются теми же самыми; живое лицо доставляет нам даже больше наслаждения, чем его изображение, иначе говоря, оно более прекрасно. «Никакая греческая богиня, – говорить Рёскин, – никогда наполовину не была столь прекрасна, как молодая чистокровная англичанка»[30]30
Цитировано R. de Sizeranne, La Religion de la beaute, 1896–1898 (Есть русский перевод). Еще см., напр.: Fechner, Vorschuleder Aesthetick, 1876, т. 2, Ch.Lalo, L'es the tique experimetale. 1908, стр. 137, 191, и сл.
[Закрыть].
Согласно эволюционистам художественная красота не более как одна из основ отличия и превосходства в жизни человека и обществ, подобно тому как естественная красота коронок цветов и оперения птиц является одной из самых могучих основ полового отбора в мире растений и животных[31]31
См. напр.: L. Bray, Du Beau, 1901, стр. 76: «Между прекрасным в искусстве и прекрасным в природе создается в этой системе (кантовская теория незаинтересованной игры) пропасть, которая уже одна достаточна, чтобы отвергнуть это учение».
[Закрыть].
Мыслители более эклектического направления ищут принцип красоты во внешнем мире, в объекте, или, наоборот, в мире внутреннем, в тех специальных функциях нашего духа, которые пробуждаются в нас, когда мы мыслим эстетически. Но ясно, что гармония наших способностей одна и та же и следует одинаковым законам, созерцаем ли мы красоту в действительности или в изображении; и если внешние предметы кажутся нам прекрасными пропорционально богатству доставляемых ими впечатлений, т. е. наибольшему многообразию в единстве, то как от совершенного произведения художника, так и от красот природы мы одинаково требуем этого богатства. Воображение Пигмалиона, одушевляющее статую, вышедшую из-под его резца, нечувствительно переходит от скульптурной красоты к живой, изменяясь не по существу, а лишь по степени; и все мы своего рода Пигмалионы или стремимся быть ими в тот миг, когда нами овладеваешь божественная интуиция.
Наконец, наибольшую поддержку объединению красоты в природе и красоты в искусстве оказывает туманный сентиментализм, пустивший прочные корни во мнениях как публики, так и большинства художников и многих критиков. Красота возрастает сообразно с богатством чувствований, сообщаемых путем непреодолимого внушения, эмоциями, выраженными в прекрасном предмете; таким образом, всякая красота была бы случаем психической заразы (contagium) путем выразительных движений – явление, хорошо знакомое психологам. Это – Einfühlung (вчуствование) немцев, «символическая симпатия», в которой воспринимаемый объект и воспринимающий субъект безраздельно сливаются в единой нераздельной красоте.
Лишь небольшая кучка заядлых и закоснелых педантов дерзнула простирать схоластические и академические принципы до того, чтобы рекомендовать художнику произведения великих мастеров предпочтительно пред красотами природы. Чтобы сыскать подлинные образцы подобных редких оригиналов, восстающих против всякой оригинальности, нужно вернуться к каким-либо византийским монахам, вроде монаха Феофила с горы Афона, или к Скварчоне, этому маньяку-коллекционеру античных древностей в эпоху Ренессанса, или даже к старинным китайским министрам музыки, как бы загипнотизированным официально признанными образцами. К ним можно обратиться с полной гарантией на успех!
За исключением этих педантов, словно издевающихся над художниками, найдется ли хоть один художник, который не заявил бы себя «ученикам природы»? Послушайте Лебрена в его речах на заседаниях Академии или же Давида, Делакруа, Мане на собеседованиях в своих ателье; посмотрите полемику между приверженцами Люлли, Рамо, Глюка, Вагнера, Дебюсси и их противниками; почитайте Буало, Лагарпа, Непомусена Лемерсье, Гюго, Золя или Метерлинка – пассивные и революционно настроенные, созерцатели и резонеры, дерзновенные в своих начинаниях и лишенные инициативы, – все они с одинаковой искренностью объявляют себя «учениками природы»!
На заре новейшей живописи джоттисты, отчаявшись увидать когда-либо в полусвете своих келий естественную гору, приносили, бывало, туда большой, покрытый мхом и плесенью камень и наивно копировали его. Эти горы последователей Джотто, написанные, вопреки всему, «с натуры», не символ ли они – символ величайшей иллюзии современного искусства?
Престиж этой идеи природы, решительно являющейся одним из «idola fori» в эстетике, так велик, что не один автор насильственно втягивает в природу само искусство: не лишенный приятности способ отделаться от проблемы. «Поэт, – говорит Гюго, – должен, подчеркнем это, прислушиваться лишь к природе, к истине и к вдохновению, являющемуся в то же время истиной и природой»[32]32
V.Hugo. Cromwell, предисловие.
[Закрыть] Очевидно, для некоторых умов в принципе находится во всем, и это «все» им тогда нравится именовать «природой». Хорошо еще, что отсутствие ясных идей недостаточно для того, чтобы уничтожить самый предмет их, иначе проблема, сведенная к таким терминам, превратилась бы в пустое словопрение.
Это свойственное крайнему идеализму упорное стремление к оправданию искусства природой напоминает даже не «idola» Бэкона, а «кремовый торт» (Tarte a la creme) Мольера. Левек требует от искусства, чтобы оно преобразовало природу, по крайней мере в двояком отношении: во-первых, выбирая красивую натуру и, во вторых, еще идеализируя ее. Можно думать, что после этих двух операций она будет наконец достаточно неузнаваема? Ничуть не бывало: принципом искусства опять-таки остается природа. «Раз сущность искусства заключается в интерпретации красивой натуры, то искусство будет тем прекраснее и тем возвышеннее, тем художественнее, чем красивее натура, которую оно интерпретирует, и с чем большей идеальной мощью оно будет это делать»[33]33
Ch. Leveque. Lasciencedobeau. II, стр. 14.
[Закрыть]. Бессмыслица последних слов, благодаря изящному построению фразы, удачно скрадывает поразительную несообразность этого, и «лицо спасено», как говорят китайцы. Нельзя безнаказанно жонглировать сущностями, если только сущности эти не превратились в простые слова. К несчастью, природа, красота в природе, искусство, даже идеал (если он действительно чувствуется) – факты, а факты упорно сопротивляются противоречию.
Действительно, далеко не всем писателям удаются столь счастливые противоречия. В виде примера можно указать на Катрмера де Кинси, исходящего из следующего общего положения, предвосхищающего учение Тарда. «Человека как в естественном, так и в общественном состоянии почти целиком можно объяснить с помощью явлений подражания», – говорит он; в частности, искусство он объясняет как подражание природе. Но с другой стороны, говорит он, «во всяком искусстве надо признать нечто фиктивное, поскольку речь идет об истине, и нечто неполное, поскольку речь идет о сходстве»; это «есть именно то, что составляет искусство и становится даже источником наслаждения, доставляемого подражанием».
Не думайте, что эти отклонения от действительности составляют то, что называется идеалом в искусстве. Совершенно наоборот: самый идеал не что иное, как один из видов подражания, «подражание, модель которого нельзя указать» (!) Но, продолжает говорить автор, «наслаждение, доставляемое нам подражанием, пропорционально отклонению его от действительности»[34]34
Quatremere de Quincy. Essaisurlanature, lebutetlesmoyens del' imitationdansles Beau – Arts, 1823, часть 5, стр. 95, 103,176.
[Закрыть].
Какая галантная манера уверять, что величайшее наслаждение подражания природе заключается в том, чтобы не подражать, и что лучшей копией является та, у которой нет оригинала, и если бы в произведении Катрмера де Кинси ничего, кроме подобных сентенций, не содержалось, его бы можно было бы с некоторым правом назвать «Жокриссом[35]35
Слово валлонского диалекта, соответствующее нашим «простофиля», «тюфяк», «разгильдяй», «недотепа» и т. п. Как собственное имя в комедии XVI в. Cholieres, «Apres-disnees»: «c'est dommage que vous avez nom locrisse». Во французский язык принято Академией в 1762. – Примеч. ред.
[Закрыть] эстетики». Знаменитая шпага господина Прюдома, служившая двум по крайней мере целям, несомненно, нашла бы себе почетное место среди аксессуаров подобного понимания искусства. Господин Прюдом не опровергается даже в эстетике, где опровергается решительно все. Его принципы просто применяются на деле, их провозглашают – я полагают, что этого достаточно. Вот нисколько великолепных примеров. Если одевают – или, по крайней мере, около 1820 г. одевали – героев «по-античному», то делалось это затем, говорит де Кинси, «чтобы лучше подражать природе»; и если прически на статуях времени делались «по-римски», то затем, чтобы прически их были «более естественными»[36]36
Ibid., стр. 416 и ел.
[Закрыть]. Таким образом, условности школы Давида, господствовавшей в то время, оказывались, благодаря как бы счастливой игре случая, весьма точным выражением истинного подражания истинной природе, – «истинной», – как будто существует еще другая природа. Медвежью услугу, в виде этого учения, оказал Катрмеру не менее его одушевленный спиритуалистическими стремлениями Дюбо, у которого де Кинси и заимствовал свое учение. «Надо, – писал уже аббат Дюбо в заключение своего сурового суждения о голландской живописи, – надо, так сказать, уметь копировать природу, не видя ее»[37]37
Du Bos. Reflexiones critiques sur la Poesie, la Peinture et la Musique, 1719, часть I, 24.
[Закрыть]. И этот услужливый медведь создал школу!..
Эстетический натурализм в такой форме не что иное, как обман – иллюзия или лицемерие, сообразно с обстоятельствами, но всегда противоречие с самим собой.
Короче, сторонники идеалистического, натуралистического, рационалистического, эмпирического или сентиментального направлений – все признают и даже проповедуют более или менее искренне тот принцип, приложимый ко всем намеренным продуктам человеческой деятельности, хотя бы они создавались даже механическим путем, который Бэкон великолепно формулировал следующими образом: «Искусство – это человек, добавленный к природе». Но очевидно, что прекрасное в природе во всех смыслах предшествует прекрасному в искусстве и создает его; прекрасное в искусстве – лишь второстепенное «добавление» к прекрасному в природе, единственно существенному.
Итак, нет двух видов прекрасного, и художественная «красота лишь выражает красоту в природе. Таково натуралистическое понимание красоты, в котором почти единодушно сходятся и теоретики, и художники, и публика.
Тем не менее так как существуют две весьма различные концепции красоты в природе, которые мы назовем «анэстетической»[38]38
Мы говорим: «эстетическое, неэстетическое, анэстетическое», как говорят: «моральное, неморальное, аморальное»; иначе говоря – красота и благо, безобразное и дурное и, наконец, то, что не является ни тем, ни другим, что не подлежит эстетической или моральной оценке. См.: Les sentiments esthetiques, стр. 161 – 2.
[Закрыть] и «псевдоэстетической», то и натурализм имеет два существенных оттенка: оттенок реалистический и оттенок идеалистический. Мы их рассмотрим последовательно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































